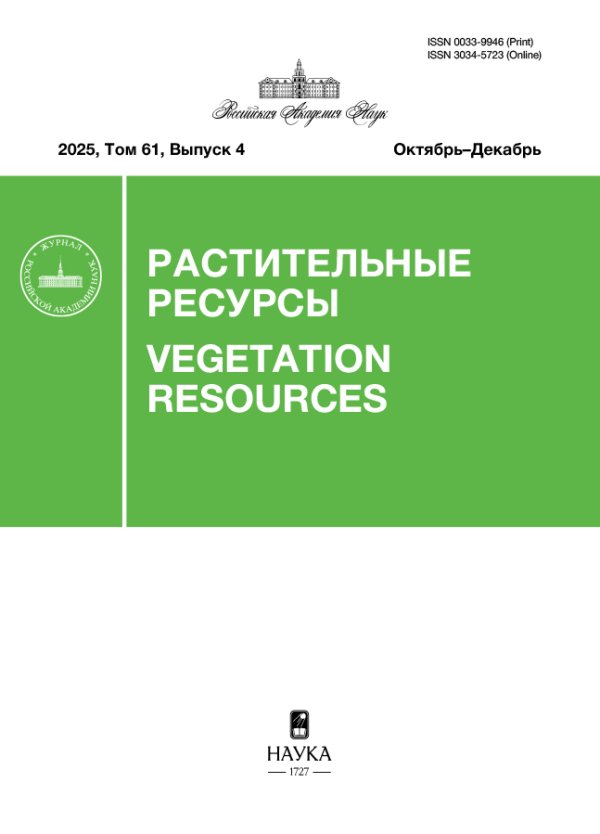Phenolic compounds and elemental composition of Rhodiola rosea (Crassulaceae) plants growing in the Altai Mountains
- Authors: Zibareva L.N.1, Prokopyev A.S.1, Rabtsevich E.S.1
-
Affiliations:
- National Research Tomsk State University
- Issue: Vol 60, No 2 (2024)
- Pages: 89-103
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0033-9946/article/view/277569
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0033994624020063
- EDN: https://elibrary.ru/PYEHBK
- ID: 277569
Cite item
Full Text
Abstract
The article presents a comparative analysis of phenolic compounds in the underground parts (rhizomes with adventitious roots) of Rhodiola rosea L. (Crassulaceae) plants from natural coenopopulations of the Altai Mountains and cultivated in the Siberian Botanical Garden of TSU (Tomsk). Gallic acid, salidroside and rosavin were identified in the studied samples. The content of salidroside in samples of wild R. rosea varies from 0.02 to 0.48%, and rosavin — 0.77—1.57% of absolute dry weight. The content of gallic acid in all samples is approximately the same — 0.1%. The analysis has shown a higher salidroside content in the underground organs of cultivated R. rosea plants compared to plants from natural populations with a similar rosavin content. It has been established that the elemental composition of the underground parts of R. rosea plants growing in the Altai Mountains is very rich and diverse. In addition to such macro- and microelements as Mg, K, Fe, Mn, Rb, Cr, Sr, Zn, Ba, Mo, Co, rarely detected Ti, Ga, Nb, La, Ho, Gd, and others were found. Based on the content of chemical elements in underground plant organs and soil, the studied samples of R. rosea of different origin were divided into 3 groups. The first group is characterized by a low element content in plants and a high content in soil. The second group is distinguished by a high content of elements in the underground plant parts and low content in soil. The third group is characterized by a high element content both in the underground plant parts and in soil.
Full Text
Представители рода Rhodiola L. (родиола) из семейства толстянковые (Crassulaceae) — ценные лекарственные растения, широко применяемые в медицине. Многие виды этого рода являются редкими, и, в связи с их ценными свойствами, охраняются на федеральном (R. rosea L.) [1] и региональном (R. algida (Ledeb.) Fisch. et C. A. Mey., R. coccinea (Royle) Boriss., R. pinnatifida Boriss., R. quadrifida (Pall.) Fisch. et C. A. Mey. и др.) уровнях. На территории Сибири виды рода Rhodiola включены в Красные книги Красноярского и Алтайского краев, Республик Алтай, Хакасия и др.
Поскольку представители рода Rhodiola имеют высокую практическую значимость и охранный статус, исследованию их биологии в природных популяциях и в условиях интродукции уделялось много внимания. Наиболее полные сведения о ритмах роста и развития, структуре ценопопуляций, особенностях физиологии представлены в работах отечественных исследователей для R. rosea [2—7]. Исследования видов Rhodiola проведены в различных интродукционных центрах России [8—10] и стран зарубежья [11—13]. На основе многолетнего мониторинга оценена их устойчивость в культуре и даны рекомендации по выращиванию. На территории Сибири в интродукционный эксперимент были включены R. algida, R. coccinea, R. pinnatifida, R. quadrifida и R. rosea [14]. По результатам испытаний два вида (R. rosea и R. pinnatifida) отнесены к устойчивым в культуре на территории Сибири. Остальные виды в культуре оказались неперспективными или требующими особых условий выращивания. В связи со сложностями культивирования и ограниченными ресурсами в природе для некоторых видов рода Rhodiola (R. rosea, R. iremelica, R. algida, R. quadrifida) разработаны способы микроклонального размножения in vitro [15—18].
Компонентный состав экстрактивных веществ более детально изучен для R. rosea [19—21]. На основе биологически активных веществ получены лекарственные препараты в виде экстрактов, сиропов, используемых в официальной медицине. Препараты родиолы розовой обладают тонизирующим и стимулирующим действием и применяются при простуде, неврозе, астенических состояниях, гипотонии; они снимают сердечную боль, усталость, повышают работоспособность [19].
Известно, что в подземных органах R. rosea содержатся сахара, дубильные вещества, эфирное масло, органические кислоты, фенолгликозиды (розавин, розарин, розин, салидрозид, тирозол), флавоноиды (родионин, родиолин, родиозин, ацетилродальгин) и др. [19, 20]. Приоритет первых химических исследований видов рода Rhodiola принадлежит томским ученым [19, 21]. Фенольные гликозиды родиолозид, салидрозид и розавин считаются основными действующими веществами и обладают ярко выраженными адаптогенными и стимулирующими нервную систему свойствами, подобно препаратам женьшеня, аралии и элеутерококка. Показано, что салидрозид и производные коричного спирта проявляют антиоксидантную активность [22] и могут участвовать в процессах детоксикации активных форм кислорода, образующихся при действии биотических и абиотических стрессоров, следовательно, играют важную роль в адаптации растений к неблагоприятным условиям произрастания. Другой функцией этих веществ может являться защита растения от патогенов и фитофагов. Возможно, этим свойством объясняется факт отсутствия повреждений подземных органов насекомыми за время проведения исследований культивируемых и дикорастущих растений родиолы розовой.
Основные промышленные заросли родиолы розовой в России находятся на Алтае и в Западном Саяне на высоте 1500—2500 м над ур. м. Природные местообитания родиолы розовой отличаются суровым климатом. В течение вегетационного периода растения претерпевают значительные сезонные и суточные перепады температуры, в условиях высокогорий испытывают воздействие жесткого УФ-излучения. В зависимости от условий местообитания мощность корневой системы варьирует в широких пределах, с увеличением высоты наблюдается интенсивное возрастание массы подземных органов по отношению к надземной фитомассе [19].
Результаты многолетних исследований [23, 24], начиная с 1966 г., показали, что содержание салидрозида в подземных частях R. rosea зависит от различных факторов, в том числе и места произрастания. Так, содержание салидрозида в корневищах с корнями, собранных в горах Южной Сибири, Восточно-Казахстанской, Талды-Курганской и Алма-Атинской областей Казахстана, колеблется в интервале от 0.8 до 1.5% [19]. Показано, что у мужских и женских особей родиолы розовой, произрастающих на альпийских лугах, в фазу цветения наблюдается повышенное содержание салидрозида, которое уменьшается по мере снижения высоты над уровнем моря [25].
Установлено, что содержание салидрозида и розавина зависит от условий произрастания и на северо-западе России, в Норвегии, на Урале [26]. Содержание салидрозида в корневищах растений изменялось от 9 до 20 мг/г (0.9—2.0% сухой массы). Максимальное накопление этого гликозида обнаружили в подземных частях особей, произрастающих на скалах побережья Баренцева моря (Норвегия) и на обнажениях коренных пород с незначительным почвенным слоем на Урале. Минимальное содержание салидрозида выявлено в алтайских экземплярах — 8.9 и 10.5 мг/г сухой массы. Максимальное содержание (32 мг/г) розавина было выявлено в корневищах растений субальпийского пояса на Приполярном Урале, минимальное (10—12 мг/г) — в образцах, собранных на островах и побережье Баренцева моря. Культивируемые растения не уступали по накоплению розавина дикорастущим особям.
На большом материале из географически удаленных точек природного ареала и культивируемых растениях установлено, что продукты специализированного метаболизма — салидрозид и розавин — накапливаются в подземной части родиолы розовой, при этом концентрация гликозидов в корневищах в 1.5—2 раза выше, чем в корнях [26].
Определение элементного состава лекарственного растительного сырья является важным этапом комплексного фитохимического исследования, поскольку растения могут избирательно накапливать те или иные макро- и микроэлементы, которые в составе минеральных комплексов с различными биологически активными веществами (БАВ) могут переходить в состав лекарственных растительных препаратов и, благодаря этому, расширять (корректировать, потенцировать и/или изменять) спектр их фармакологических эффектов. Кроме того, элементы имеют собственную фармакологическую активность и оказывают влияние на осуществление ряда физиологических процессов в организме человека [27]. Известно, что участие микро- и макроэлементов в метаболизме связано с построением скелета (кальций, фосфор), поддержанием осмотического давления (натрий, калий), кроветворением (железо, медь). Многие из них являются активаторами и кофакторами ферментов (магний, медь, железо и др.).
Состав макро- и микроэлементов растений отражает элементный состав почвенной среды. Главный путь поступления металлов в растения — абсорбция корнями. В большинстве случаев скорость поглощения элементов положительно коррелирует с содержанием их доступных форм. На эту главную закономерность оказывают влияние ряд факторов: 1) реакция среды; 2) концентрация кальция, магния и других ионов; 3) такие свойства почвенной среды как температура, аэрация, окислительно-восстановительный потенциал; 4) вид растений и стадия его развития. Поэтому зависимость между степенью загрязнения почвы тяжелыми металлами и интенсивностью их поступления в растения является сложной и не носит функционального характера. Объясняется это тем, что не все растения обладают одинаковой способностью накапливать тяжелые металлы. Это свойство связано с наличием у растений, в разной степени выраженных, различных физиолого-биохимических защитных механизмов, препятствующих поступлению токсичных элементов.
Цель работы — определение состава основных фенольных соединений, макро- и микроэлементов в подземных частях Rhodiola rosea и элементного состава почвы в природных условиях на территории Горного Алтая и в условиях интродукции.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
R. rosea — суккулентнолистовой травянистый короткокорневищный поликарпик с удлиненным прямостоячим побегом, гемикриптофит [28, 29]. Арктовысокогорный вид с дизъюнктивным евразийским ареалом. Произрастает в горах Арктической, Восточной (Двино-Печорский и Волжско-Камский р-ны) и Западной Европы, Скандинавских странах, в Средней Азии, в Монголии, Китае [4]. Значительный участок ареала охватывает горы Южной Сибири [30]. R. rosea распространена в субальпийском и альпийском поясах гор, по берегам рек спускается в пределы лесного пояса. Максимальное обилие отмечено в субальпийском поясе на верхних участках склонов долин. Произрастает в местах с длительным сохранением снежного покрова, по временным водотокам, берегам рек, на каменистых россыпях и скалистых обнажениях. В альпийском поясе встречается на моренах, по склонам каров и цирков. R. rosea обычна, но менее обильна на альпийских лугах [4, 30, 31].
Объект настоящего исследования — подземные органы (корневища с корнями) растений Rhodiola rosea, собранные в природных условиях на территории Горного Алтая и в условиях интродукции (Сибирский ботанический сад ТГУ, г. Томск). Происхождение образцов Rhodiola rosea, в которых определяли содержание фенольных соединений, макро- и микроэлементов, представлено в таблице 1.
Таблица 1. Список образцов Rhodiola rosea
Table 1. List of Rhodiola rosea samples
№ образца No. sample | Место, условия произрастания Place, growing conditions |
Rr1 | г. Томск, Сибирский ботанический сад ТГУ (СибБС ТГУ), h = 100 м н. у. м. Образец привлечен в интродукцию из Республики Алтай. Tomsk, Siberian Botanical Garden TSU (SibBG TSU), h = 100 m a. s. l. The specimen was introduced from the Altai Republic |
Rr2 | Республика Алтай, Кош-Агачский район, Южно-Чуйский хребет, окр. Софийского ледника, долина реки Аккол, несформировавшиеся растительные группировки на галечнике по берегу реки, h = 2453 м. н. у.м. Altai Republic, Kosh-Agach district, South Chuysky ridge, near Sofia glacier, Akkol river valley, unformed plant groups on pebbles along the river bank, h = 2453 m a. s. l. |
Rr3 | Республика Алтай, Кош-Агачский район, окр. с. Чаган-Узун, гора Сукор, фрагмент альпийского разнотравного луга в ложбине водостока, h = 2728 м н. у. м. Altai Republic, Kosh-Agach district, near Chagan-Uzun village, Sukor mountain, fragment of alpine herb meadow in the drainage hollow, h = 2728 m a. s. l. |
Rr4 | Республика Алтай, Кош-Агачский район, Северо-Чуйский хребет, окр. ледника Актру, крутой левый борт долины реки Актру, несформировавшиеся разнотравные растительные группировки в глубоком овраге с осыпающимися щебнистыми стенками, h = 2380 м н. у. м. Altai Republic, Kosh-Agach district, North Chuisky ridge, near Aktru glacier, steep left side of the Aktru river valley, unformed plant groups in a deep ravine with crumbling rubble walls, h = 2380 m a. s. l. |
Rr5 | Республика Алтай, Кош-Агачский район, окр. с. Курай, Курайский хребет, альпийский луг на склоне вдоль ручья, h = 2715 м н. у. м. Altai Republic, Kosh-Agach district, near Kurai village, Kuraisky ridge, alpine meadow on a slope along a stream, h = 2715 m a. s. l. |
Rr6 | Республика Алтай, Чемальский район, Хребет Иолго, Каракольские озера, субальпийское разнотравье среди кедрового редколесья на склоне, h = 1840 м н. у. м. Altai Republic, Chemal region, Iolgo Ridge, Karakol Lakes, subalpine herbs among cedar woodlands on the slope, h = 1840 m a. s. l. |
Отбор проб осуществляли в фазу плодоношения растений (июль–август). В каждой из исследуемых ценопопуляций R. rosea на учетных площадках проводили отбор части корневища не менее чем у 20 экземпляров. Анализировали среднюю пробу корневищ с корнями из каждой ценопопуляции. Одновременно с этим в прикорневой зоне особей R. rosea производили забор почвенного грунта на глубину до 20 см. Анализировали среднюю пробу грунта из каждой ценопопуляции.
Приготовление экстрактов: навеску воздушно-сухого сырья корневищ с корнями массой 1—2 г 3-кратно экстрагировали 70%-ным этиловым спиртом на водяной бане при температуре 55 °C. Полученные экстракты объединяли и концентрировали. Концентрирование проводили с использованием ротационного испарителя (IKA RV 10, Германия) при температуре до 50 °C. Влажность сырья определяли с помощью анализатора влажности (ANDML-50, Япония).
Анализ содержания салидрозида и розавина выполняли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на жидкостном хроматографе Shimadzu LC-20AD (Япония). Условия анализа БАВ: диодно-матричный детектор, хроматографическая колонка Perfect Sil Target ODS-3; 4.6 × 250 мм, размер зерен сорбента — 5 мкМ. В результате разработки методики ВЭЖХ анализа вторичных метаболитов образцов родиолы протестирован ряд хроматографических систем, оптимальное разделение пиков многокомпонентных этанольных экстрактов достигнуто в системе ацетонитрил (А), 0.1% трифторуксусная кислота (Б), градиент А: 10—15% 0—10 мин, 15—30% 10—60 мин. Время анализа 60 мин. Скорость элюирования 1 мл/мин. Объем пробы 5 мкл. Аналитическая длина волны λmax = 254 нм для регистрации розавина и λmax = 276 нм — для салидрозида. Идентификацию сигналов на хроматограммах осуществляли сопоставлением времен удерживания и максимумов поглощения компонентов экстрактов и стандартных образцов. Фенольные соединения идентифицировали с использованием стандартов (Aobious, США, содержание основного компонента ≥ 98.0%; Sigma-Aldrich, США, содержание основного компонента ≥ 95.0%). Содержание БАВ рассчитывали по площадям пиков образца и соответствующих стандартов. Анализ проводили в трех повторностях, статистические расчеты осуществляли в Microsoft Excel, 2016.
Вычисление содержания исследуемых БАВ в сухом сырье проводили по формуле:
С (%) = (Сст · Sx · V · 100 · 100 · n) / (Sст · 1000 · m · (100 − W)),
где Сст — концентрация стандарта, мг/мл; Sx — площадь пика в исследуемом образце; V — объем экстракта, мл; n — разведение; Sст — площадь пика стандарта; m — масса образца, г; W — влажность, %.
Для проведения анализа макро- и микроэлементов растений и почв из мест их произрастания методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) образцы, предварительно высушенные и гомогенизированные до однородной массы, переводили в раствор. Перевод в раствор осуществляли, используя предварительно очищенную концентрированную азотную кислоту, перекись водорода и систему микроволнового разложения Milestone Start D (200 °C, 700 Вт). После чего пробы высушивали при температуре 100—110 °C, до состояния влажных солей, затем количественно переносили в одноразовые, полипропиленовые пробирки объемом 50 мл с помощью фонового раствора — 15%-ной азотной кислоты со следами плавиковой кислоты. Параллельно с образцами готовили холостой опыт.
Перед анализом в каждую пробирку с образцами и холостой пробой был добавлен внутренний стандарт — раствор индия (MSIN-10PPM, Inorganic Ventures). После чего все образцы были разбавлены до одинакового объема. Анализ проводили на квадрупольном масс-спектрометре с индуктивно-связанной плазмой низкого разрешения Agilent 7500cx (AgilentTechnologies, США). Конечный результат вычисляли по формуле:
где C0 — содержание элемента в образце, определенное прибором, мкг/кг; Сhol — содержание элемента в холостом опыте, определенное прибором, мкг/кг; kdill — коэффициент разбавления; kmatr — коэффициент учета внутреннего стандарта, рассчитанный по методу «введено–найдено».
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Сопоставление хроматографических и спектральных характеристик позволило идентифицировать в образцах галловую кислоту, салидрозид и розавин. Салидрозид и галловая кислота выявлены при детектировании при длине волны 276 нм (рис. 1, табл. 2), тогда как розавин — при 254 нм. Содержание салидрозида в подземных органах дикорастущих особей R. rosea варьирует от 0.02 до 0.48% от сухой массы сырья, розавина — от 0.77 до 1.57%. Уровень галловой кислоты во всех образцах примерно одинаков — 0.1%.
Рис. 1. ВЭЖХ этанольного экстракта подземных органов Rhodiola rosea, произрастающей близ Софийского ледника. 1 — галловая кислота, 2 — салидрозид, 3 — розавин. Детектируемые длины волн 254 нм для розавина и 276 нм для салидрозида и галловой кислоты.
Fig. 1. HPLC of an ethanol extract of underground organs of Rhodiola rosea growing near the Sofia Glacier. 1 — gallic acid, 2 — salidroside, 3 — rosavin. Detectable wavelengths are 254 nm for rosavin and 276 nm for salidroside and gallic acid.
Таблица 2. Содержание гликозидов в корневищах с корнями Rhodiola rosea (% на абс. сух. сырье)
Table 2. Content of glycosides in Rhodiola rosea rhizomes with roots (% on absolute dry weight basis)
№ образца No. sample | Содержание гликозидов Glycoside content | Высота над уровнем моря, м Elevation, m | ||
галловая кислота gallic acid | салидрозид salidroside | розавин rosavin | ||
Rr1 | 0.10 ± 0.021 | 0.78 ± 0.07 | 0.94 ± 0.13 | 100 |
Rr2 | 0.10 ± 0.01 | 0.24 ± 0.03 | 0.77 ± 0.08 | 2453 |
Rr3 | 0.11 ± 0.01 | 0.28 ± 0.07 | 1.29 ± 0.05 | 2728 |
Rr4 | 0.10 ± 0.03 | 0.02 ± 0.004 | 1.01 ± 0.11 | 2380 |
Rr5 | 0.09 ± 0.01 | 0.20 ± 0.02 | 1.57 ± 0.05 | 2715 |
Rr6 | 0.12 ± 0.02 | 0.48 ± 0.04 | 0.83 ± 0.07 | 1840 |
Примечание. 1 среднее значение ± стандартное отклонение.
Note. 1 the mean value ± standard deviation.
Экземпляры R. rosea, собранные на Курайском хребте, горе Сукор и в окр. ледника Актру, по уровню розавина соответствуют требованиям Госфармакопеи (≥ 1.0%), однако уровень салидрозида во всех образцах — меньше требуемого значения (≥ 0.8%) [32].
Н. А. Некратова с соавторами [25] отмечали, что содержание салидрозида повышается с увеличением высоты над уровнем моря. В нашем исследовании (табл. 2) показано, что максимальное содержание салидрозида в подземных органах (0.78%) наблюдается у интродуцированных растений из Сибирского ботанического сада ТГУ (г. Томск) (образец Rr1), произрастающих на минимальной высоте над уровнем моря — 100 м, а минимальное — в образце Rr4, собранном в долине р. Актру (Северо-Чуйский хребет) на высоте 2380 м. Отметим, что в подземных органах дикорастущих особей содержание розавина повышается с увеличением высоты над уровнем моря. Как следует из данных таблицы 2, максимальным содержанием розавина отличаются дикорастущие особи R. rosea с Курайского хребта (образец Rr5) и горы Сукор (образец Rr3) — 1.57 и 1.29% соответственно. Они произрастают на максимальной высоте (2715 и 2728 м над ур. м.). Минимальные показатели содержания розавина (0.77 и 0.83%) определены в образце Rr2 (долина р. Аккол, Южно-Чуйский хребет) на высоте 2453 и в образце Rr6 (окрестности Каракольских озер, хребет Иолго) на высоте 1840 м над ур. м.
Сравнительный анализ содержания вторичных метаболитов в дикорастущих особях R. rosea и интродуцированных в Сибирском ботаническом саду (образец Rr1) продемонстрировал большее содержание салидрозида в интродуцентах. Содержание розавина в интродуцентах было выше, чем в образцах дикорастущих особей Rr2 и Rr6, но ниже, чем в образцах Rr3, Rr4 и Rr5 (табл. 2).
Для реакций вторичного метаболизма характерна активация под влиянием разнообразных внешних и внутренних факторов, именно поэтому вещества вторичного происхождения более разнообразны, чем первичные метаболиты и лучше отражают взаимоотношения растения с окружающей средой [33, 34]. Одним из факторов, контролирующим биосинтез фенольных соединений, является минеральное питание, однако механизмы его влияния на молекулярном уровне пока раскрыты не полностью. Известно, что дефицит в почве азота, фосфора, калия, серы, бора, железа [35, 36] приводит к увеличению содержания фенольных соединений в разных органах растений. Показано, что дефицит азота, фосфора активирует экспрессию транскрипционных факторов R2R3-MYB, в т. ч. PAP1/2 [37, 38], и ряда ферментов шикиматного, фенилпропаноидного и флавоноидного биосинтеза (особенно ферментов синтеза антоцианов) [39].
Рентгенофлуоресцентный анализ корней родиолы розовой из Тере-Хольского кожууна (Республика Тыва) [40] показал, что их элементный состав включает фосфор, калий, кремний, кальций, магний, алюминий, хлор и серу. Среди макроэлементов преобладают фосфор, кремний, калий и кальций. Кроме того, в образцах родиолы розовой обнаружены: барий, железо, марганец, рубидий, бром, хром, стронций и цинк. Выявлено влияние обеспеченности растений минеральными элементами на накопление продуктов специализированных биосинтезов — гликозидов коричного спирта и тирозола. Подкормка солями Zn, Сu, Мn, Мg и Са стимулировала накопление розавина, но не оказывала существенного влияния на содержание салидрозида [26].
В настоящее время лишь для десятка микроэлементов известно, что они жизненно необходимы всем растениям, и еще для нескольких доказано, что они необходимы небольшому числу видов. Для остальных элементов известно, что они оказывают стимулирующее действие на рост растений, но другие их функции пока не установлены. Характерная особенность участия этих элементов в физиологических процессах состоит в том, что, даже если многие из них необходимы для роста растений, при высоких концентрациях они могут оказывать токсичное действие на клетки [41]. Из полученных данных (табл. 3) следует, что элементный состав образцов растений родиолы розовой, произрастающих на Алтае, разнообразен. Он включает как макроэлементы — Mg, K, Fe, так и микроэлементы — Mn, Rb, Cr, Sr, Zn, Ba, Mo, Co.
Таблица 3. Содержание макро- и микроэлементов в образцах подземных органов Rhodiola rosea и в почве
Table 3. Content of macro- and microelements in samples of underground organs of Rhodiola rosea and in soil
Химический элемент Element | № образца1 No. Sample1 | Содержание химических элементов, мг/кг Element content, mg/kg | ||
В корневищах с корнями in rhizomes with roots | В почве in the soil | Образец подземных органов из Ленинградской области* Sample of underground organs from the Leningrad region* | ||
Mg | Rr1 | 1 700 ± 3002 | 4600 ± 800 | 711.0 |
Rr2 | 1 700 ± 300 | 26 000 ± 5 000 | ||
Rr3 | 830 ± 140 | 18 000 ± 3 000 | ||
Rr4 | 570 ± 100 | 18 000 ± 3 000 | ||
Rr5 | 910 ± 150 | 18 000 ± 3 000 | ||
Cr | Rr1 | 3 ± 1 | 32 ± 7 | – |
Rr2 | 4 ± 1 | 131 ± 28 | ||
Rr3 | 0.7 ± 0.2 | 270 ± 60 | ||
Rr4 | 0.7 ± 0.2 | 62 ± 13 | ||
Rr5 | 2.4 ± 0.8 | 90 ± 19 | ||
Mn | Rr1 | 59 ± 12 | 540 ± 90 | 17.7 |
Rr2 | 40 ± 8 | 1 000 ± 170 | ||
Rr3 | 13 ± 3 | 1 600 ± 300 | ||
Rr4 | 25 ± 5 | 1 200 ± 200 | ||
Rr5 | 57 ± 12 | 1 700 ± 300 | ||
Zn | Rr1 | 0.7 ± 0.2 | 20 ± 4 | 6.3 |
Rr2 | 14 ± 3 | 75 ± 16 | ||
Rr3 | 10 ± 2 | 73 ± 15 | ||
Rr4 | 6 ± 2 | 52 ± 11 | ||
Rr5 | 10 ± 3 | 66 ± 14 | ||
Сu | Rr1 | 6 ± 2 | 16 ± 3 | 2.4 |
Rr2 | 8 ± 3 | 130 ± 30 | ||
Rr3 | 2.0 ± 0.7 | 40 ± 8 | ||
Rr4 | 2.4 ± 0.8 | 38 ± 8 | ||
Rr5 | 7 ± 2 | 95 ± 20 | ||
Ti | Rr1 | 99 ± 21 | 1 100 ± 190 | – |
Rr2 | 68 ± 14 | 2 100 ± 400 | ||
Rr3 | 4 ± 1 | 720 ± 120 | ||
Rr4 | 11 ± 2 | 2 100 ± 400 | ||
Rr5 | 30 ± 6 | 1 600 ± 300 | ||
Fe | Rr1 | 1 100 ± 180 | 16000 ± 3 000 | 164 |
Rr2 | 1 200 ± 210 | 41000 ± 7 000 | ||
Rr3 | 160± 30 | >50 000 | ||
Rr4 | 310 ± 60 | 49 000 ± 8 000 | ||
Rr5 | 720 ± 120 | 39 000 ± 7 000 | ||
K | Rr1 | 8 800 ± 1 500 | 8 800 ± 1 500 | – |
Rr2 | 7 600 ± 1 300 | >10 000 | ||
Rr3 | 4 400 ± 800 | >10 000 | ||
Rr4 | 5 000 ± 900 | 11 000 ± 1 900 | ||
Rr5 | 6 300 ± 1 100 | >10 000 | ||
Rb | Rr1 | 6 ± 2 | 46 ± 10 | – |
Rr2 | 6 ± 2 | 113 ± 24 | ||
Rr3 | 1.7 ± 0.5 | 51 ± 11 | ||
Rr4 | 4 ± 1 | 49 ± 10 | ||
Rr5 | 18 ± 3 | 97 ± 20 | ||
Sr | Rr1 | 46 ± 10 | 120 ± 21 | – |
Rr2 | 27 ± 6 | 130 ± 30 | ||
Rr3 | 31 ± 6 | 150 ± 30 | ||
Rr4 | 19 ± 4 | 48 ± 10 | ||
Rr5 | 13 ± 3 | 140 ± 30 | ||
Ba | Rr1 | 85 ± 18 | 340 ± 70 | – |
Rr2 | 56 ± 12 | 330 ± 70 | ||
Rr3 | 15 ± 3 | 340 ± 70 | ||
Rr4 | 27 ± 6 | 250 ± 50 | ||
Rr5 | 33 ± 7 | 320 ± 70 | ||
Mo | Rr1 | 0.06 ± 0.02 | 0.018 ± 0.007 | – |
Rr2 | 0.03 ± 0.01 | 0.020 ± 0.008 | ||
Rr3 | 0.03 ± 0.01 | 0.04 ± 0.02 | ||
Rr4 | 0.07 ± 0.03 | 0.07 ± 0.03 | ||
Rr5 | 0.021 ± 0.008 | 0.04 ± 0.02 | ||
Co | Rr1 | 0.7 ± 0.2 | 10 ± 3 | – |
Rr2 | 0.8 ± 0.2 | 24 ± 5 | ||
Rr3 | 0.22 ± 0.07 | 37 ± 8 | ||
Rr4 | 0.29 ± 0.09 | 25 ± 5 | ||
Rr5 | 0.5 ± 0.2 | 22 ± 5 | ||
Ga | Rr1 | 0.4 ± 0.1 | 6 ± 2 | – |
Rr2 | 0.3 ± 0.1 | 12 ± 3 | ||
Rr3 | 0.03 ± 0.01 | 13 ± 3 | ||
Rr4 | 0.07 ± 0.03 | 10 ± 3 | ||
Rr5 | 0.20 ± 0.06 | 10 ± 3 | ||
Nb | Rr1 | 0.23 ± 0.07 | 2.9 ± 0.9 | – |
Rr2 | 0.18 ± 0.06 | 3 ± 1 | ||
Rr3 | 0.011 ± 0.004 | 1.2 ± 0.4 | ||
Rr4 | <0.001 | 2.0 ± 0.7 | ||
Rr5 | 0.05 ± 0.02 | 2.0 ± 0.6 | ||
La | Rr1 | 1.9 ± 0.6 | 32 ± 7 | – |
Rr2 | 1.8 ± 0.6 | 29 ± 6 | ||
Rr3 | 0.14 ± 0.04 | 35 ± 7 | ||
Rr4 | 0.25 ± 0.08 | 27 ± 6 | ||
Rr5 | 0.6 ± 0.2 | 25 ± 5 | ||
Ho | Rr1 | 0.04 ± 0.02 | 0.5 ± 0.2 | – |
Rr2 | 0.019 ± 0.007 | 0.5 ± 0.2 | ||
Rr3 | 0.005 ± 0.002 | 1.2 ± 0.4 | ||
Rr4 | 0.008 ± 0.003 | 1.0 ± 0.3 | ||
Rr5 | 0.019 ± 0.007 | 0.9 ± 0.3 | ||
Gd | Rr1 | 0.25 ± 0.08 | 4 ± 1 | – |
Rr2 | 0.17 ± 0.05 | 5 ± 2 | ||
Rr3 | 0.03 ± 0.01 | 8 ± 3 | ||
Rr4 | 0.05 ± 0.02 | 7 ± 2 | ||
Rr5 | 0.12 ± 0.04 | 6 ± 2 | ||
Примечание. 1 Места сбора образцов представлены в табл. 1.
* — результаты элементного анализа образца из Ленинградской обл. [27].
2 среднее значение ± границы абсолютной погрешности измерений для доверительной вероятности Р = 0.95. Прочерк означает отсутствие данных.
Note. 1 Sample collection locations are given in Table. 1.
* — results of elemental analysis of a sample from the Leningrad region [27].
2 average value ± limits of absolute measurement error for confidence probability P = 0.95. A dash means no data.
Выявленные макро- и микроэлементы по современной классификации их функций и форм в организмах [41] участвуют в ключевых метаболических процессах растений. Так, Fe и Sr входят в несущий скелет; Сu, Co, Fe связываются с разнообразными мелкими молекулами (антибиотики и др.); Mo, Mn, Сu, Co, Cr, Fe связываются с высокомолекулярными соединениями (протеинами, энзимами), Cu, Fe, Мn, Mo связаны с органеллами. Они участвуют в важных физиологических процессах — симбиотической фиксации азота, стимулировании окислительно-восстановительных реакций при синтезе хлорофилла и протеинов (Со); окислении, фотосинтезе, метаболизме протеинов и углеводов (Cu, Fe); фотопродукции кислорода в хлоропластах (Mn); фиксации N2, восстановлении N03-, окислительно-восстановительных реакциях (Mo); метаболизме углеводов и белков (Zn).
Концентрации макро- и микроэлементов в корневищах с корнями родиолы розовой из разных географических зон различаются. В образцах родиолы уровень содержания Mg варьирует в интервале 570—1700 мг/кг; Mn — от 13—59 мг/кг; Zn — 0,72—14 мг/кг; Сu — от 2 до 8 мг/кг и, в основном, не превышает примерные концентрации в других видах растений, тогда как содержание Fe и Ti выше их средних значений [41].
Содержание Fe в исследованных подземных органах родиолы розовой выше, чем в образце, собранном в Ленинградской области [27]. Вопросу о поглощении Ti растениями уделялось мало внимания. Считается, что этот элемент относительно мало пригоден для растений и плохо переносится ими. Содержание Ti в поверхностном слое почв в целом составляет от 0.1% до 0.9% (среднее 0.35%). Описана его возможная каталитическая функция при фиксации азота симбиотическими микроорганизмами, при фотоокислении соединений азота у высших растений, а также в некоторых процессах фотосинтеза [41]. Примерная концентрация Ti в зрелых тканях листьев растений, составляющая 50—200 мг/кг сухой массы считается токсичной [41]. Содержание Ti в исследованных образцах подземных органов родиолы розовой составило от 3 до 99 мг/кг.
Кроме того, в исследованных образцах R. rosea обнаружены редко выявляемые элементы — Ga (галлий), Nb (ниобий), лантаноиды — La (лантан), Ho (гольмий), Gd (гадолиний) и др. Лантаниды токсичны для клеток, однако данных об их тормозящем действии на развитие растений немного [41]. Содержание La в изученных образцах родиолы розовой составило от 0.14 до 1.9 мг/кг.
Результаты анализа элементного профиля пяти образцов корневищ с корнями родиолы розовой, представленные в таблице 3, позволяют сделать вывод, что образец Rr4 (долина р. Актру, Северо-Чуйский хребет) выделяется меньшим содержанием микроэлементов по сравнению с другими исследованными образцами. Наибольшим содержанием магния, хрома, железа отличаются корневища с корнями родиолы розовой, произрастающей в Сибирском ботаническом саду Томского государственного университета (образец Rr1) и в окр. Софийского ледника на Южно-Чуйском хребте (образец Rr2). Наиболее высоким содержанием марганца отличаются образцы Rr1 и Rr5 (Курайский хребет); цинка — образец Rr2 и Rr3 (г. Сукор); меди — образец Rr2, титана — образец Rr1.
Показано, что подземные органы исследованных растений родиолы розовой алтайского происхождения значительно богаче, как по составу, так и по содержанию большинства элементов, чем подземные органы растений, собранных в Ленинградской области [27]. Так, по уровню содержания таких важных для организма человека элементов как Mg, Fe, Cu, Zn изученные растения превосходят растения из Ленинградской области в 2.5; 7.4; 3.4; 2 раза соответственно (табл. 3). Известным фактом является важность для здоровья человека присутствия железа, которое необходимо для нормального газообмена и функционирования многих ферментов, магния, снижающего риск развития воспалительных заболеваний органов малого таза, меди, которая является компонентом ряда ферментов и важных белков [27]. Симптомы дефицита меди включают нейтропению, анемию, остеопороз, неврологические симптомы. Цинк также необходим для роста и репродукции. Таким образом, изученные образцы родиолы розовой алтайского происхождения являются ценными источниками биологически активных веществ и элементов.
По уровню содержания элементов в корневищах с корнями и в почве исследованные образцы R. rosea из разных мест произрастания можно разделить на 3 группы (табл. 3). Первая группа характеризуется низким по сравнению с другими образцами уровнем элементов в растительном сырье при высоком уровне содержания в почве. Например, по содержанию Mg, Cr, Mn и Fe к этой группе можно отнести образец Rr3 (г. Сукор) и по содержанию Mg, Cr, Mn, Fe, Zn и Ti — образец Rr4 (окр. ледника Актру). При этом особи образцов Rr3 и Rr4 отличаются низким уровнем Сu, Ti как в корневищах с корнями, так и в почве, на которой они произрастают.
Вторую группу представляет образец Rr1 (СибБС ТГУ). Для него характерно высокое по сравнению с другими образцами содержание практически всех элементов (за исключением Zn) в корневищах с корнями и низкое в почве.
К третьей группе относятся образцы R. rosea, которым свойственно высокое содержание элементов в корневищах с корнями при высоком содержании их в почве. Это образец Rr2 из окрестностей Софийского ледника (исключение составляет Ti), и образец Rr5, из окрестностей с. Курай на Курайском хребте (исключение составляют Ti и Mg).
Е. А. Краснов с соавторами [42] обращал внимание на повышенное содержание Ti в родиоле розовой. В исследованных нами образцах отмечена та же тенденция: в подземных органах растений содержание Ti варьирует от 3 до 99 мг/кг и все образцы почв также характеризуются высоким содержанием этого элемента — от 720 до 2100 мг/кг. Наибольшее количество Ti в почве наблюдается в местах отбора образцов Rr4 (долина р. Актру) и Rr2 (долина р. Аккол, Софийский ледник). Наибольшее содержание Ti в подземных органах родиолы розовой отмечено в образце Rr1 (СибБС ТГУ). При этом содержание этого элемента в почве ботанического сада является в два раза более низким, чем в почве с места отбора образца Rr4.
Максимальное содержание салидрозида определено в подземных органах исследованного вида в Сибирском ботаническом саду ТГУ (образец Rr1) — 0.78%, при этом отмечается и высокое содержание розавина — 0.94%. Почва экспериментального участка СибБС ТГУ, на котором растет родиола розовая, характеризуется невысоким содержанием большинства изученных элементов, но уровень содержания Mg и Fe в растительном сырье интродуцента превышает содержание этих элементов в образцах Rr3, Rr4 и Rr5 в 2—6 раз.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Показано, что подземные органы родиолы розовой Rhodiola rosea (Crassulaceae), произрастающей на Алтае, по содержанию розавина соответствуют требованиям Госфармакопеи. Максимальное содержание розавина обнаружено в корневищах с корнями родиолы розовой, произрастающей на г. Сукор (образец Rr3) и на Курайском хребте (образец Rr5) на большой высоте (2728 и 2715 м) над уровнем моря — соответственно 1.29 и 1.57%.
Высоким содержанием салидрозида и розавина в подземных органах отличаются растения родиолы розовой из окрестностей ледника Актру (образец Rr4), а также интродуцированные в условиях низменности в Сибирском ботаническом саду Томского государственного университета (образец Rr1).
Сравнение содержания химических элементов в подземных органах R. rosea и в почве, на которой они произрастают, показало, что интродуцированным особям (образец Rr1) свойственно высокое содержание практически всех элементов в растительном сырье при низком содержании в почве (за исключением Zn). Низкий уровень Mg, Cr, Mn и Fe в корневищах с корнями при высоком содержании в почве отличает образцы Rr3 (г. Сукор) и Rr4 (окр. ледника Актру). Подземные органы растений родиолы розовой, произрастающих в окрестностях Софийского ледника на Южно-Чуйском хребте (образец Rr2) и на Курайском хребте (образец Rr5) характеризуются высоким содержанием элементов при высоком содержании в почве.
Пока не представляется возможным однозначно вычленить действие какого-либо элемента на синтез салидрозида и розавина. Это возможно было бы осуществить в стационарных условиях при контролируемом внесении дополнительных количеств элементов. Однако можно отметить, что такие элементы как Mg, Cr, Mn, Сu, Zn, Ti и Fe присутствуют во всех образцах родиолы розовой, произрастающих в Республике Алтай и культивируемых в Сибирском ботаническом саду Томского государственного университета. Вероятно, они являются необходимыми при синтезе фенилпропаноидов.
БЛАГОДАРНОСТИ
Исследование условий произрастания, сбор растительного и почвенного материала проведены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России, проект № FSWM-2020-0019.
Исследование содержания фенольных соединений методом ВЭЖХ и обсуждение взаимосвязи элементного состава и уровней биологически активных веществ проведены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России, проект № FSWM-2024-0009.
About the authors
L. N. Zibareva
National Research Tomsk State University
Author for correspondence.
Email: zibareva.lara@yandex.ru
Russian Federation, Tomsk
A. S. Prokopyev
National Research Tomsk State University
Email: zibareva.lara@yandex.ru
Russian Federation, Tomsk
E. S. Rabtsevich
National Research Tomsk State University
Email: zibareva.lara@yandex.ru
Russian Federation, Tomsk
References
- [Red Book of the Russian Federation: plants and fungi]. 2008. Moscow. 855 p. http://oopt.aari.ru/ref/38 (In Russian)
- Revyakina N. V. 1973. [To the study of biological characteristics and reserves of Rhodiola rosea and Rhaponticum carthamoides in the Central Altai]. — Bulletin of Siberian Branch of Acanemy of Sciences of the USSR. Series of biol. sciences 10(2): 58—63. (In Russian)
- Nukhimovsky E. L. 1997. [Fundamentals of biomorphology of seed plants: Vol. 1. Theory of biomorph organization]. Moscow. 630 p. (In Russian)
- Kim E. F. 1999. [Rhodiola rosea (golden root) and the biological basis for its introduction into culture]. Barnaul. 176 p. (In Russian)
- Nekratova N. A., Nekratov N. F. 2005. [Medicinal plants of the Altai-Sayan mountain region. Resources, ecology, cenocomplexes, population biology, rational use]. Tomsk. 228 p. (In Russian)
- Golovko T. K., Dalke I. V., Bacharov D. S., Babak T. V. 2007. [Crassulaceae in cold climates (biology, ecology, physiology)]. St. Petersburg. 205 p. (In Russian)
- Frolov Yu. M., Poletaeva I. I. 1998. [Rhodiola rosea in the European Northeast]. Ekaterinburg. 192 p. (In Russian)
- Sviridova T. P. 1978. To the study of the biological characteristics of the golden root when introduced into culture. — Byulleten SibBG. 11: 50—54. (In Russian)
- Pautova I. A. 1993. [Ontogenesis and the possibility of introduction to St. Petersburg of Rhodiola rosea L., promising species for use in the food and pharmaceutical industries: Abstr. … Dis. Cand. (Biology) Sci.]. St.-Petersburg. 23 p. (In Russian)
- Kudryavtseva O. V., Viracheva L. L. 2006. Results of the genus Rhodiola (Crassulaceae) species introduction in Polar-Alpine Botanical Garden (Kola Peninsula). — Rastitelnye resursy. 42(4): 28—34. https://elibrary.ru/item.asp?id=9309963 (In Russian)
- Vecher N. N. 1999. [Golden root — Rhodiola rosea L. when introduced in Belarus]. — In: [Spicy, aromatic and medicinal plants: prospects for introduction and use: Proceedings of the International conference]. Minsk. P. 17—18. (In Russian)
- Galambosi B. 2006. Demand and availability of Rhodiola rosea L. raw material. — In: Medicinal and aromatic plants: agricultural, commercial, ecological, legal, pharmacological and social aspects. — Frontis 17: 223—236. https://library.wur.nl/ojs/index.php/frontis/article/view/1235
- Platikanov S., Evstatieva L. 2008. Introduction of Wild Golden Root (Rhodiola rosea L.) as a potential economic crop in Bulgaria. — Economic Botany. 62(4): 621—627. https://doi.org/10.1023/B: BEBM.0000046940.45382.53
- [Introduction of plants of the natural flora of Siberia]. 2017. Novosibirsk. 495 p. (In Russian)
- Ishmuratova M. M. 2006. [Rhodiola iremelica in the Southern Urals]. Moscow. 252 p. (In Russian)
- Plyushchyova E. S., Bychkova O. V. 2017. [In vitro culture introduction of Rhodiola algida L.]. — In: [Lomonosov readings in Altai: fundamental problems of science and education: Selected proceedings of the international conference]. Barnaul. 2. P. 95—98. (In Russian)
- Stepanova A. Yu., Gladkov E. A., Solovyeva A. I. 2018. Application and biotechnological method of obtaining raw materials of medicinal plants — Rhodiola quadrifida. — Yu. A. Ovchinnikov bulletin of biotechnology and physical and chemical biology. 14(4): 66—70. https://biorosinfo.ru/upload/file/vol_14_4_2018.pdf (In Russian)
- Erst A. A., Yakubov V. V. 2019. The regenerative capacity in vitro of a rare species of Rhodiola rosea L. from various habitats. — Contemp. Probl. Ecol. 12(4): 368—376. https://doi.org/10.1134/S1995425519040036
- Saratikov A. S., Krasnov E. A. 2004. [Rhodiola rosea (golden root)]. Tomsk. 292 p. (In Russian)
- Kurkin V. A. 2015. [Rhodiola rosea (golden root): standardization and creation of medicinal products]. Samara. 240 p. (In Russian)
- Revina T. A., Krasnov E. A. 1975. [Biological features and chemical composition of Rhodiola pinnatifida under cultural conditions]. — Rastitelnye resursy. 11(1): 119—123. (In Russian)
- Ma C., Hu L., Fu Q., Gu X., Tao G., Wang H. 2013. Separation of four flavonoids from Rhodiola rosea by on-line combination of sample preparation and counter-current chromatography. — J. Chromatogr. A. 1306: 12—19. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2013.07.052
- Andreeva T. I., Rudko N. G., Timofeeva N. M. 1983. [To the study of the influence of various factors on the accumulation of salidroside in Rhodiola rosea]. — In: [Young scientists and specialists — to national economy]. Tomsk. P. 3—4. (In Russian)
- Krasnov E. A., Deeva A. I. 1978. [On the issue of expanding the raw material base in the production of Rhodiola rosea extract]. — In: [Study of drugs of plant and synthetic origin: Abstracts of the Interregional conference]. Part 2. Tomsk. P. 72—73. (In Russian)
- Nekratova N. A., Krasnov E. A., Nekratov N. F., Mikhailova S. I. 1992. [Changes in the quantitative content of salidroside and tannins in the underground organs of Rhodiola rosea L. in natural habitats in Altai]. — Rastitelnye resursy. 28(4): 40—48. https://elibrary.ru/item.asp?id=21721323 (In Russian)
- Zakhozhij I. G. 2006. [Physiological and biochemical basis for the accumulation of secondary metabolic products — salidroside and rosavin in Rhodiola rosea L. plants.: Abstr. … Dis. Cand. (Biology) Sci.]. St. Petersburg. 20 p. (In Russian)
- Terninko I. I., Lyozina A. V., Generalova Yu.E., Romanova M. A. 2022. Analysis of the elemental composition of individual species of Sedum (Rhodiola) spp. and Orthilia secunda. — Drug development and registration. 11(1): 132—139. https://doi.org/10.33380/2305-2066-2022-11-1-132-139 (In Russian)
- Bezdelev A. B., Bezdeleva T. A. 2006. [Life forms of seed plants of the Russian Far East]. Vladivostok. 296 p. (In Russian)
- Goncharova S. B. 2006. Sedoideae (Crassulaceae) in the Russian Far East flora. Vladivostok. 223 p. (In Russian)
- Polozhij A. V., Revyakina N. V., Kim E. F., Sviridova T. P. 1985. [Golden root — Rhodiola rosea L.]. — In: [Biology of Siberian plants in need of protection]. Novosibirsk. P. 85—114. (In Russian)
- Surov Yu. P. 1973. [Reserves of Rhodiola rosea in the Altai and Western Sayan Mountains]. — In: [Progress in the study of medicinal plants in Siberia]. Tomsk. P. 8—10. (In Russian)
- State Pharmacopoeia of the Russian Federation. XIV. FS.3.4.0008.18 Rhodiolae roseae rhizomatum et radicum extractum liquidum. 2018. Vol. IV. Moscow. P. 6724—6729. https://pharmacopoeia.regmed.ru/pharmacopoeia/izdanie-14/3/3-4/rodioly-rozovoy-kornevishch-i-korney-ekstrakt-zhidkiy-rhodiolae-roseae-rhizomatum-et-radicum-extract/
- Shilpa K., Varun K., Lakshmi B. S. 2010. An alternate method of natural drug production: eliciting secondary metabolite production using plant cell culture. — J. Plant Sci. 5(3): 222—247. https://doi.org/10.3923/jps.2010.222.247
- Yang D., Huang Z., Jin W., Xia P., Jia Q., Yang Z., Hou Z., Zhang H., Ji W., Han R. 2018. DNA methylation: a new regulator of phenolic acids biosynthesis in Salvia miltiorrhiza. — Ind. Crop. Prod. 124: 402—411. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2018.07.046
- Parr A. J., Bolwell G. P. 2000. Phenols in the plant and in man. The potential for possible nutritional enhancement of the diet by the modifying the phenols content or profile. — J. Sci. Food Agric. 80(7): 985—1012. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0010(20000515)80:7<985::AID-JSFA572>3.0.CO;2-7
- Abeynayake S. W., Panter S., Chapman R., Webster T., Rochfort S., Mouradov A., Spangenberg G. 2012. Biosynthesis of proanthocyanidins in white clover flowers: cross talk within the flavonoid pathway. — Plant Physiol. 158(2): 666—678. https://doi.org/10.1104/pp.111.189258
- Scheible W.-R., Morcuende R., Czechowski T., Fritz C., Osuna D., Palacios-Rojas N., Schindelasch D., Thimm O., Udvardi M. K., Stitt M. 2004. Genome-wide reprogramming of primary and secondary metabolism, protein synthesis, cellular growth processes, and the regulatory infrastructure of Arabidopsis in response to nitrogen. — Plant Physiol. 136(1): 2483—2499. https://doi.org/10.1104/pp.104.047019
- Xu W., Dubos C., Lepiniec L. 2015. Transcriptional control of flavonoid biosynthesis by MYB-bHLH-WDR complexes. — Trends Plant Sci. 20(3): 176—185. https://doi.org/10.1016/j.tplants.2014.12.001
- Lillo C., Lea U. S., Ruoff P. 2008. Nutrient depletion as a key factor for manipulating gene expression and product formation in different branches of the flavonoid pathway. — Plant Cell Environ. 31(5): 587—601. https://doi.org/10.1111/j.1365-3040.2007.01748.x
- Oyun S. M., Oorzhak U. S. 2015. [Rhodiola rosea in Tuvan traditional medicine]. — In: [Current problems in the study of ethnoecological and ethnocultural traditions of the peoples of Sayan-Altai: Materials of the III International scientific and practical conference of young scientists, postgraduates and students]. Kyzyl. P. 240—242. (In Russian)
- Kabata-Pendias A., Pendias H. 1989. Trace elements in soils and plants. Transl. from English. Moscow. 439 p. (In Russian)
- Krasnov E. A., Saratikov A. S., Surov Yu. P. 1979. [Plants of the Crassulaceae family]. Tomsk. 208 p. (In Russian)
Supplementary files