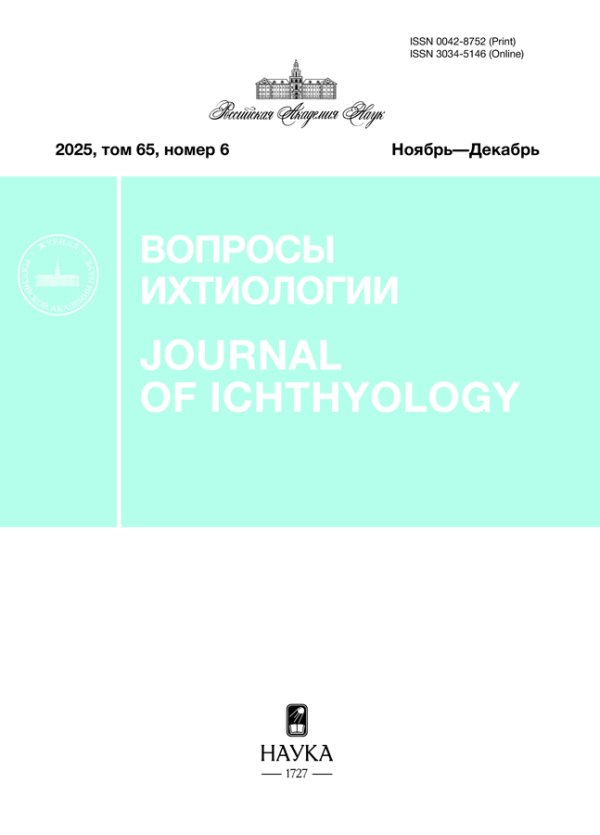Карликовая мальма Salvelinus malma (Salmonidae) из горных озёр субнивального пояса Камчатки
- Авторы: Есин Е.В.1, Медведев Д.А.1, Коростелев Н.Б.1, Маркевич Г.Н.1
-
Учреждения:
- Институт проблем экологии и эволюции РАН – ИПЭЭ РАН
- Выпуск: Том 64, № 3 (2024)
- Страницы: 321-328
- Раздел: Статьи
- URL: https://journal-vniispk.ru/0042-8752/article/view/265492
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0042875224030064
- EDN: https://elibrary.ru/FNPJEG
- ID: 265492
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Гольцы рода Salvelinus (Salmonidae) демонстрируют спектр вариантов гетерохроний онтогенеза, приводящий к появлению контрастных внутривидовых фенотипов. Мы исследовали жилые изолированные популяции гольца-мальмы Salvelinus malma из холодноводных озёр субнивальной зоны Камчатки и обнаружили ранее не описанный для вида тренд педоморфоза. Специализация связана с торможением соматического роста в сравнении с широко распространённой на Камчатке проходной и озёрно-речной мальмой из открытых водных систем. Молодь из изолированных озёр отличается сравнительно высокой жирностью мышечной ткани. При этом темпы полового созревания и морфологической дифференциации остаются близки к таковым у мигрантной мальмы, педоморфоз в строении черепа проявляется незначительно, число сериальных элементов не снижается. Мальма из изолированных горных озёр к восьми-девяти годам не вырастает крупнее 20 см, средний возраст в её нерестовых группировках составляет 6.2 года (мигрантная мальма в среднем живёт столько же и вырастает в 1.6–2.0 раза крупнее). Карликовость возникает за малое число поколений, поскольку фенотипически сходные варианты обнаружены в популяциях возрастом как более 12 000, так и менее 400 лет.
Ключевые слова
Полный текст
Одним из ключевых механизмов эволюции онтогенеза и адаптаций фенотипа животных рассматривают гетерохронии, под которыми понимают изменения темпа и продолжительности процесса развития организма или его частей относительно предкового варианта. Классификация гетерохронных процессов изначально была выполнена на таксонах высокого ранга по палеонтологической летописи (McKinney, McNamara, 1991; Hall, 1998; Gould, 2002; Шишкин, 2016), однако все варианты гетерохроний также отчётливо проявляются в новейших эволюционных радиациях на видовом и внутривидовом уровнях, в частности у костистых рыб (De Beer, 1958; Глубоковский, 1995; Smith, 2001; Шкиль и др., 2015; Voskoboinikova et al., 2020).
Широкий спектр вариантов гетерохроний мы обнаружили у гольца-мальмы Salvelinus malma на Камчатке. В микроэволюции мальмы описаны случаи диссоциированных гетерохроний (в понимании Райлли с соавт.: Reilly et al., 1997), когда у узко специализированных симпатрических форм наблюдаются нескомпенсированные или разнонаправленные тенденции изменения признаков отдельных структур: ускоренная дифференциация одних модулей черепа и торможение развития других (Markevich et al., 2023), ускоренный соматический рост на фоне торможения смены отдельных стадий развития (Esin et al., 2021) и тому подобное. Также для изолированных мономорфных популяций мальмы известны примеры сдвигов развития, когда до момента полового созревания происходит изменение общих темпов соматического роста и морфологической дифференциации относительно популяций мигрантной (проходной и озёрно-речной) мальмы, обитающей и нерестящейся ниже по течению в большинстве сообщающихся с морем экосистем Камчатки. Ранее мы описали два варианта педоморфоза, приводящие к переходу ювенильных черт во взрослое состояние. В одном случае происходят торможение роста, анатомическая редукция и миниатюризация на фоне ускоренного полового созревания в химически загрязнённых водотоках вулканических территорий (Esin et al., 2020); в другом – в чистых горных ручьях наблюдаются опережающий морфологическую дифференциацию быстрый рост и раннее созревание (Есин, 2015). Второй вариант также широко распространён в качестве одного из каналов развития самцов (так называемых “precocious male parrs” – по: Koseki, 2004) из потомства проходной мальмы (Савваитова, 1989).
Недавно мы обнаружили ещё один вариант педоморфоза мальмы – очень мелких озёрных рыб с растянутым жизненным циклом, по экстерьеру, некоторым краниологическим признакам и меристической формуле слабо отличимых от мигрантных речных рыб. Цель работы – сообщить об этом варианте развития мальмы и рассмотреть возможные причины такой специализации в сравнении с педоморфозами особей изолированных ручьевых популяций.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материал собирали в глубоких изолированных озёрах субнивального высотного пояса Центральной Камчатки в августе 2019 г. Такие водоёмы расположены вблизи снеговой линии, закрыты льдом и снегом не менее девяти месяцев ежегодно и, по-видимому, чаще функционируют по мономиктическому типу (эпилимнион заглубляется к концу августа лишь на 5–7 м, температура воды в литоральной зоне ≤ 10°С). Прозрачность по диску Секки не падает ниже 7–9 м. Биомасса зообентоса и зоопланктона в августе, судя по нашим однократным сборам, не превышает соответственно 8.0 г/м2 и 0.2 г/м3 (для сборов использовали дночерпатель ДАК-250 и сеть Джеди). Такие показатели кормовой базы рыб являются низкими для лососёвых нерестовых озёр региона (Куренков, 2005).
Во всех случаях придонные слои и толщу вод облавливали жаберными сетями ячеёй 17–22 мм. Среди множества безрыбных водоёмов было обнаружено три озера, населённые мальмой, других видов рыб в озёрах нет (рисунок). Озеро Большое Гольцовое (56°27′46.81′′ с.ш. 157°57′39.56′′ в.д., 845 м над уровнем моря, бассейн р. Тихая) – крупнейшее из обловленных; поверхностный сток перекрыт лавами доголоценового извержения (Певзнер, 2015). Озеро Галямаки (55°41′21.21′′ с.ш. 158°45′44.54′′ в.д., бассейн р. Козыревка) расположено на высоте 880 м над уровнем моря; рыбы из приёмной реки не имеют доступа в озеро из-за протяжённой системы крутопадающих порогов на эффузивном склоне, сформированном раннеголоценовым извержением (Певзнер, 2015). Озеро Балхач (55°13′26.16′′ с.ш. 158°15′49.84′′ в.д., 660 м над уровнем моря, бассейн р. Кимитина) представляет собой затопленный оползневый цирк возрастом 2–4 века, отчленённый от реки валом горной породы высотой > 10 м.
Места сбора материала на Камчатке и число использованных в анализе особей Salvelinus malma:
Дополнительно в р. Кимитина сачками отловили крупную мигрантную мальму, а в притоке этой реки, р. Гусиная, в зоне нереста мигрантной мальмы отловили половозрелых оседлых самцов.
Весь улов разделили на молодь и взрослых рыб (гонадосоматический индекс > 5%, стадия зрелости гонад III+ (Мурза, Христофоров, 1991)). Число использованных в анализе рыб указано на рисунке. У всех взрослых особей определили длину по Смитту (FL), качественно по группам жертв оценили содержимое желудков, а также измерили массу тела без полостных органов для расчёта упитанности по Кларк. Для самцов с гонадами IV стадии зрелости рассчитали гонадосоматический индекс, у зрелых самок по числу ооцитов диаметром > 1.5 мм определили абсолютную плодовитость. Возраст рыб оценили по тёмным зонам роста на шлифах сагитт (Grainger, 1953).
Для определения общего содержания липидов в мышечной ткани (в % сухой массы) использовали старшую молодь и рыб ранних стадий созревания FL > 9 см (гонады II – ранней III стадий зрелости). Выбор такой группировки из состава популяций с разными миграционными и репродуктивными стратегиями позволил избежать сравнения особей, находящихся на разных стадиях быстрого роста гонад и инверсии водно-солевого обмена. Липиды из мышц (масса 0.4 г) экстрагировали по Фолчу (Folch et al., 1957), концентрацию определяли фотометрически на StatFax 303 Plus (Awareness Tech., США), используя готовый комплект реагентов (Spinreact, Испания) в соответствии с протоколом производителя. У этих же особей, предварительно окрасив их ализарином (Chem, Россия), определили общее число позвонков, число тычинок на первой левой жаберной дуге, зубов на язычной кости и суммарное число фонтанелей на хондрокрании. По пять самок без нерестовых изменений дополнительно использовали для анализа качественных признаков строения черепа по методике Глубоковского (1995).
Полученные данные сравнивали со значениями признаков, ранее полученными для изолированных популяций педоморфной мальмы из химически загрязнённого вулканического руч. Тройной (бассейн р. Ича) и чистого руч. Звонкий (бассейн р. Кирганик) (Есин, 2015). Статистическую значимость различий между выборками определяли дисперсионным тестом Тьюки и непараметрическим тестом Краскела–Уоллиса в программе StatSoft v.10.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Три обследованных горных озера населены однотипными популяциями мелкой мальмы, плотность обитания очень низкая (экспертно < 0.01 экз/м2). Пищевой специализации не выявлено: рыбы потребляли личинок амфибиотических насекомых (в среднем > 70% пищевого комка), имаго насекомых, а также моллюсков (кроме оз. Балхач), единично заглатывали планктонных ракообразных; каннибализма не отмечено. В августе в каждом из озёр присутствовали особи с гонадами IV–IV+ стадий зрелости. В связи с отсутствием подходящих притоков размножение, очевидно, проходит осенью непосредственно в котловине. В нересте 2019 г. принимали участие не более трети взрослых рыб (остальные взрослые особи имели гонады III+ стадии зрелости). Соотношение полов повсеместно было близко к 1 : 1. Зрелые озёрные самцы в сравнении с изолированными ручьевыми популяциями отличались высоким гонадосоматическим индексом. Плодовитость самок была в три раза ниже, чем у мигрантной мальмы из р. Кимитина (тест Краскела–Уоллиса: Н6;104 = 5.69, p < 0.001), при этом она была сопоставима с плодовитостью изолированных рыб из руч. Звонкий (p = 0.052) и выше, чем у рыб из руч. Тройной (p = 0.033) (табл. 1).
Таблица 1. Биологические характеристики взрослых особей Salvelinus malma из разных водоёмов Камчатки
Параметр | Горное озеро | Река | Горный ручей | ||||
Большое Гольцовое* | Галямаки* | Балхач* | Кимитина | Гусиная | Звонкий* | Тройной* | |
Длина по Смитту, см | 13.5 (10–17) 13.7 (11–19) | 15.5 (12–19) 15.6 (13–20) | 16.7 (11–20) 16.9 (13–22) | 24.2 (14–33) 26.9 (20–34) | 15.3 (10–21) – | 14.9 (12–17) 15.7 (12–18) | 11.8 (11–13) 12.2 (12–15) |
Максимальный гонадосоматический индекс самцов, % | 34 | 37 | 35 | 29 | 33 | 33 | 27 |
Плодовитость, шт. | нет данных | 202 (100–240) | 217 (130–260) | 695 (285–1300) | – | 260 (195–350) | 158 (95–245) |
Коэффициент упитанности по Кларк | 0.86 (0.7–1.1) 0.90 (0.8–1.1) | 0.87 (0.8–1.0) 0.89 (0.8–1.1) | нет данных | 0.91 (0.8–1.1) 0.94 (0.8–1.1) | 0.87 (0.8–1.0) – | 0.88 (0.7–1.1) 0.90 (0.8–1.0) | 0.79 (0.5–1.0) 0.78 (0.6–1.0) |
Жирность мышц (старшая молодь), % | нет данных | 20.6 (18–24) | 19.2 (13–23) | 14.8 (12–19) | 13.5 (10–18)** | 14.0 (11–17) | 10.3 (6–12) |
Возраст, лет | 5.3 (4–8) 5.6 (4–8) | 6.4 (4–9) 6.5 (4–9) | 5.8 (4–8) 6.6 (4–9) | 5.9 (4–9) 6.6 (5–10) | 4.3 (3–6) – | 3.8 (3–7) 4.1 (4–8) | 3.2 (3–4) 3.6 (3–5) |
Примечание. Приведены средние значения и (в скобках) пределы варьирования: над чертой – для самцов, под чертой – для самок; “–”» – отсутствие самок в выборке, **самцы с гонадами III стадии зрелости. Здесь и в табл. 2: *водные объекты, недоступные для мигрантного фенотипа.
Самки озёрных популяций, как и в остальных анализируемых выборках, в среднем были незначительно крупнее и старше самцов (табл. 1). Размер взрослых рыб из трёх озёр был сходен (тест Тьюки: F6;243 = 8.31, p = 0.105), при этом озёрные рыбы были достоверно мельче мальмы из р. Кимитина (p = 0.009), близки по размеру к рыбам из руч. Звонкий (p = 0.236) и крупнее рыб из руч. Тройной (p = 0.031). По упитанности среди всех анализируемых популяций выделялись только рыбы из руч. Тройной (F6;243 = 3.78, p = 0.014). Молодые озёрные рыбы отличались высокой жирностью мышечной ткани, которая была достоверно выше, чем в других популяциях (F5;109 = 11.03, p ≤ 0.010), и особенно выше, чем у рыб из руч. Тройной (p = 0.001).
Возраст взрослых озёрных рыб (среднее взвешенное значение 6.2 года) был близок к таковому у производителей мигрантной мальмы из р. Кимитина (H6;206 = 3.47, p = 0.603) (табл. 1). Средний и максимальный возраст озёрных рыб был выше, чем у оседлых самцов из р. Гусиная (p = 0.025), и значительно выше, чем у педоморфной ручьевой мальмы (p < 0.001). Самки мальмы из трёх озёр субнивального пояса впервые принимали участие в размножении в возрасте пяти лет, в то время как в р. Кимитина – в шесть лет, а в руч. Тройной – в возрасте трёх лет. В отличие от педоморфной мальмы из руч. Тройной рыбы из озёр Большое Гольцовое, Галямаки и Балхач формировали выраженный брачный наряд.
Гольцы из трёх озёр статистически не различались между собой по числу позвонков (H5;101 = 4.94, p ≥ 0.290), жаберных тычинок (H5;99 = 3.65, p ≥ 0.369), зубов на язычной кости (H5;99 = 36.53, p ≥ 0.184) и фонтанелей на дорсальной поверхности хондрокрания (H5;98 = 9.79, p ≥ 0.730) (табл. 2). При этом по первым двум параметрам озёрные гольцы не отличались от мальмы из р. Кимитина (р ≥ 0.273) и руч. Звонкий (р ≥ 0.536), но характеризовались достоверно бо́льшим числом элементов по сравнению с мальмой из руч. Тройной (соответственно p = 0.020 и 0.028). Зубов на языке и фонтанелей на хондрокрании у озёрных рыб было меньше, чем у мигрантной мальмы из р. Кимитина (соответственно p = 0.012 и 0.038), и больше, чем у гольцов из ручьёв Звонкий (p = 0.016 и 0.044) и Тройной (p = 0.001 и 0.018).
Таблица 2. Меристические признаки Salvelinus malma из разных водоёмов Камчатки
Признак | Горное озеро | Р. Кимитина | Горный ручей | |||
Большое Гольцовое* | Галямаки* | Балхач* | Звонкий* | Тройной* | ||
Число: – позвонков | 66.6 ± 0.33 63–69 | 66.0 ± 0.44 62–68 | 65.9 ± 0.39 63–68 | 66.5 ± 0.42 62–68 | 67.0 ± 0.35 62–69 | 63.4 ± 0.28 62–67 |
– жаберных тычинок | 23.0 ± 0.20 22–24 | 22.7 ± 0.37 21–25 | 22.8 ± 0.18 22–24 | 22.9 ± 0.35 19–27 | 22.9 ± 0.29 20–26 | 22.1 ± 0.16 18–24 |
– зубов на языке | 11.2 ± 0.37 10–13 | 10.8 ± 0.43 9–12 | 10.5 ± 0.33 9–12 | 12.7 ± 0.36 9–14 | 9.1 ± 0.28 8–10 | 7.0 ± 0.16 6–8 |
– фонтанелей на хондрокрании | 5.5 ± 0.20 5–6 | 5.2 ± 0.15 4–6 | 5.2 ± 0.15 4–6 | 5.9 ± 0.12 5–7 | 5.0 ± 0.19 4–6 | 3.7 ± 0.21 3–5 |
Примечание. Над чертой – среднее значение и стандартная ошибка, под чертой – пределы варьирования показателя.
Этмоидный отдел хондрокрания взрослых самок из трёх озёр составлял в длину 43–52% полной длины черепа, у мальмы из р. Кимитина – 45–53%, у гольцов из руч. Звонкий – 39–45%, из руч. Тройной – 38–42%. У всех самок из трёх озёр и р. Кимитина также наблюдались налегания крыловидноушной кости на клиновидноушную и верхнезатылочной кости на фонтанели; у рыб из руч. Звонкий наблюдались примыкания, у особей из руч. Тройной между костями (костью и фонтанелями) имелись хрящевые перемычки. Специфической особенностью всех озёрных популяций было развитие орбитальных выростов этмоидного отдела черепа, отсутствующих в других изолированных популяциях.
ОБСУЖДЕНИЕ
В малокормных горных озёрах Камчатки, возникших в результате изоляции верхних звеньев водной сети после окончания ледникового периода, обнаружены однотипные популяции тугорослой мальмы. Оседлые ручьевые популяции в окрестностях мест работ не обитают. Таким образом, возникновение популяций, вероятно, связано с изоляцией потомства проходных рыб в зоне нереста в верховьях русловой сети. Повторное вселение рыб в озёра представляется маловероятным из-за рельефа местности.
Специализация озёрной мальмы связана с торможением соматического роста с раннего постнатального возраста и смещением обмена в сторону накопления мышечного жира до начала созревания половых продуктов. При этом темпы смены периодов развития и особенности морфологической дифференциации остаются близки к типичным для ранее довольно подробно исследованной по всему полуострову мигрантной мальмы из открытых водных систем (Савваитова, 1989; Черешнев и др., 2002). Половое созревание озёрных рыб начинается в 4–5 лет (у мигрантной мальмы в 5–6 лет), предельный возраст в трёх озёрах составляет 8–9 лет (9–10 лет у исследованной мигрантной мальмы).
По классификации Лапина и Юровицкого (1959), для озёрных рыб характерны медленный рост и замедленное созревание. Для популяций рыб, обитающих в условиях недостатка пищи и хронического стресса (загрязнение местообитаний, слишком низкие освещённость и температура), известно компенсаторное торможение анаболизма, в том числе роста мышечной и хрящевой тканей (Guderley, 2004; Чурова и др., 2010). Энергетические резервы при этом расходуются более экономно, позволяя организму накопить достаточно запасов для развития половых продуктов (Озернюк, 2000).
Так же, как и в химически загрязнённых вулканических ручьях, адаптация мальмы озёр субнивального пояса обусловлена выживанием в неблагоприятных условиях. При этом механизм адаптации, очевидно, иной. В сравнении с мальмой из вулканических ручьёв в холодноводных горных озёрах у рыб до начала активной фазы полового созревания повышена жирность мышечной ткани, а у зрелых рыб выше упитанность, относительная масса гонад и плодовитость. Рыбы не тратят энергетические резервы на противодействие окислительному стрессу, как в вулканических ручьях (Esin et al., 2023), при этом живут почти в два раза дольше; в их фенотипе эффекты ювенилизации проявляются значительно слабее, чем у гольцов из вулканических ручьёв. По-видимому, ключевой фактор отбора в популяциях из холодноводных горных озёр – это торможение анаболических процессов в соматических тканях до начала полового созревания (и размножения).
При сравнении меристических признаков и строения черепа рыб из разных популяций все анализируемые тенденции педоморфоза проявлялись строго скоординировано. С учётом снижения числа сериальных элементов, уменьшения относительных размеров этмоидного отдела хондрокрания и площади покровных костей его краниального отдела исследованные популяции выстроились в следующий ряд по выраженности педоморфоза: мигрантная мальма (р. Кимитина) → озёрная мальма (оз. Большое Гольцовое – оз. Галямаки и оз. Балхач) → ручьевая мальма (руч. Звонкий) → мальма из загрязнённого вулканического ручья (руч. Тройной). Наличие орбитальных выростов на хрящевом черепе озёрных рыб можно трактовать как частный пераморфоз.
Примечательно, что обнаруженные варианты педоморфоза мальмы на Камчатке в общих чертах соответствуют трём морфоклинам, описанным ранее для позвоночных (McNamara, 1986). Сочетание гетерохроний, при котором имеют место ускорение соматического роста, преждевременное половое созревание и торможение темпов морфологической дифференциации, как у мальмы из руч. Звонкий, несёт черты неотении позвоночных (Alberch et al., 1979). Такое явление наблюдается в благоприятных условиях – в истоках рек, богатых кормом. Сходные неотенические популяции мы обнаружили в нескольких ручьях на Камчатке (Есин, 2015). Торможение соматического роста, предельно ранее половое созревание и максимально выраженная морфологическая редукция в онтогенезе мальмы в условиях химического загрязнения местообитаний в руч. Тройной имеет черты прогенеза. Замедление соматического роста при сохранении темпов морфологической дифференциации и полового созревания, как у мальмы из озёр Большое Гольцовое, Галямаки и Балхач, – это карликовость (в понимании МакНамары и Смит: McNamara, 1986; Smith, 2001). В русскоязычной литературе карликами традиционно называют рано созревающих и быстро растущих оседлых самцов, как в р. Гусиная, но с точки зрения классификации гетерохроний такой вариант развития более соответствует неотении, как и у мальмы из руч. Звонкий. В онтогенезе крупной мигрантной мальмы в сравнении с перечисленными педоморфозами прослеживается гиперморфоз – быстрый рост, высокие темпы морфологической дифференциации и замедленное созревание.
Как и в случае специализации в вулканических ручьях (Esin et al., 2020), описываемое эволюционное направление может реализоваться за малое число поколений. Так, размерно-возрастная структура, морфологические особенности и физиологические показатели рыб идентичны в озёрах Большое Гольцовое (время изоляции > 12 000 лет) и Балхач (оползень возраста < 400 лет). Поскольку данное направление также мало зависит от размеров экосистемы (озёра площадью от 0.1 до 2.5 км2) и зарегистрировано для водоёмов географически удалённых бассейнов, можно предполагать существование в геноме мальмы наследуемых молекулярно-генетических каскадов, которые приводят к образованию подобного фенотипа и запускаются в онтогенезе в случае изоляции в соответствующих экосистемах. Далее этот канал развития эффективно фиксируется в ходе значительных демографических событий, неизбежно происходящих в неоптимальных экологических условиях. Ранее подобный эволюционный сценарий был предложен для педоморфных ручьевых популяций S. curilus (Пичугин и др., 2006).
Карликовость широко распространена у позвоночных животных (McKinney McNamara, 1991; Piras et al., 2011), карликовые формы гольцов также встречаются в составе симпатрических комплексов (Gordeeva et al., 2015). В качестве причин карликовости позвоночных рассматривают торможение клеточных сигналов во время роста и развития за счёт структурных изменений мембранных рецепторов тирозинкиназы (Boegheim et al., 2017) либо рецепторов трийодтиронина (Bartha et al., 1994; Kaneshige, 2001). Последний сценарий представляется интересным и требующим проверки в свете исследований роли тиреоидной оси в гетерохрониях и формировании девиантных фенотипов у гольцов (Esin et al., 2023).
БЛАГОДАРНОСТИ
Авторы работы выражают благодарность за помощь в сборе материалов Г.В. Журавлёву и В.В. Бурому (Природный парк “Вулканы Камчатки”).
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда, проект № 23-24-00230.
Об авторах
Е. В. Есин
Институт проблем экологии и эволюции РАН – ИПЭЭ РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: evgesin@gmail.com
Россия, Москва
Д. А. Медведев
Институт проблем экологии и эволюции РАН – ИПЭЭ РАН
Email: evgesin@gmail.com
Россия, Москва
Н. Б. Коростелев
Институт проблем экологии и эволюции РАН – ИПЭЭ РАН
Email: evgesin@gmail.com
Россия, Москва
Г. Н. Маркевич
Институт проблем экологии и эволюции РАН – ИПЭЭ РАН
Email: evgesin@gmail.com
Россия, Москва
Список литературы
- Глубоковский М.К. 1995. Эволюционная биология лососевых рыб. М.: Наука, 343 с.
- Есин Е.В. 2015. Ручьевая мальма Salvelinus malma полуострова Камчатка // Вопр. ихтиологии. Т. 55. № 2. С. 180–195. https://doi.org/10.7868/S0042875215020083
- Куренков И.И. 2005. Зоопланктон озер Камчатки. Петропавловск-Камчатский: Изд-во КамчатНИРО, 178 с.
- Лапин Ю.Е., Юровицкий Ю.Г. 1959. О внутривидовых закономерностях созревания и динамики плодовитости у рыб // Журн. общ. биологии. Т. 20. № 6. С. 439–446.
- Мурза И.Г., Христофоров О.Л. 1991. Определение степени зрелости гонад и прогнозирование возраста достижения половой зрелости у атлантического лосося и кумжи. Л.: Изд-во ГосНИОРХ, 102 с.
- Озернюк Н.Д. 2000. Биоэнергетика онтогенеза. М.: Изд-во МГУ, 259 с.
- Певзнер М.М. 2015. Голоценовый вулканизм Срединного хребта Камчатки. М.: ГЕОС, 252 с.
- Пичугин М.Ю., Сидоров Л.К., Гриценко О.Ф. 2006. О ручьевых гольцах южных Курильских островов и возможном механизме образования карликовых форм мальмы Salvelinus malma curilus // Вопр. ихтиологии. Т. 46. № 2. С. 224–239.
- Савваитова К.А. 1989. Арктические гольцы (структура популяционных систем, перспективы хозяйственного использования). М.: Агропромиздат, 224 с.
- Черешнев И.А., Волобуев В.В., Шестаков А.В., Фролов С.В. 2002. Лососевидные рыбы Северо-Востока России. Владивосток: Дальнаука, 496 с.
- Чурова М.В., Мещерякова О.В., Немова Н.Н., Шатуновский М.И. 2010. Соотношение роста и некоторых биохимических показателей рыб на примере микижи Parasalmo mykiss Walb. // Изв. РАН. Сер. биол. № 3. С. 289–299.
- Шишкин М.А. 2016. Эволюция онтогенеза и природа гетерохроний // Палеонтол. журн. № 2. С. 11–25. https://doi.org/10.7868/S0031031X16020082
- Шкиль Ф.Н., Лазебный О.Е., Капитанова Д.В. и др. 2015. Онтогенетические механизмы взрывной морфологической дивергенции пучка видов крупных африканских усачей р. Labeobarbus (Cyprinidae; Teleostei) оз. Тана, Эфиопия // Онтогенез. Т. 46. № 5. С. 346–359. https://doi.org/10.7868/S0475145015050080
- Alberch P., Gould S.J., Oster G.F., Wake D.B. 1979. Size and shape in ontogeny and phylogeny // Paleobiology. V. 5. № 3. P. 296–317. https://doi.org/10.1017/S0094837300006588
- Bartha T., Dewil E., Rudas P. et al. 1994. Kinetic parameters of plasma thyroid hormone and thyroid hormone receptors in a dwarf and control line of chicken // Gen. Comp. Endocrinol. V. 96. № 1. P. 140–148. https://doi.org/10.1006/gcen.1994.1166
- Boegheim I.J.M., Leegwater P.A.J., van Lith H.A., Back W. 2017. Current insights into the molecular genetic basis of dwarfism in livestock // Vet. J. V. 224. P. 64–75. https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2017.05.014
- De Beer G.R. 1958. Embryos and ancestors. Oxford: Clarendon Press, 197 p.
- Esin E.V., Markevich G.N., Shkil F.N. 2020. Rapid miniaturization of Salvelinus fish as an adaptation to the volcanic impact // Hydrobiologia. V. 847. № 13. P. 2947–2962. https://doi.org/10.1007/s10750-020-04296-w
- Esin E.V., Markevich G.N., Melnik N.O. et al. 2021. Ambient temperature as a factor contributing to the developmental divergence in sympatric salmonids // PLoS One. V. 16. № 10. Article e0258536. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258536
- Esin E.V., Shulgina E.V., Shkil F.N. 2023. Rapid hyperthyroidism-induced adaptation of salmonid fish in response to environmental pollution // J. Evol. Biol. V. 36. № 10. P. 1471–1483. https://doi.org/10.1111/JEB.14220
- Folch J., Lees M., Sloane Stanley G.H. 1957. A simple method for the isolation and purification of total lipides from animal tissues // J. Biol. Chem. V. 226. № 1. P. 497–509. https://doi.org/10.1016/S0021-9258(18)64849-5
- Gordeeva N.V., Alekseyev S.S., Matveev A.N., Samusenok V.P. 2015. Parallel evolutionary divergence in Arctic charr Salvelinus alpinus (L.) complex from Transbaikalia: variation in differentiation degree and segregation of genetic diversity among sympatric forms // Can. J. Fish. Aquat. Sci. V. 72. № 1. P. 96–115. https://doi.org/10.1139/cjfas-2014-0014
- Gould S.J. 2002. The structure of evolutionary theory. Cambridge: Belknap Press, 1433 p. https://doi.org/10.2307/j.ctvjsf433
- Grainger E.H. 1953. On the age, growth, migration, reproductive potential and feeding habitats of the Arctic char (Salvelinus alpinus) of Frobisher bay, Baffin Island // J. Fish. Res. Board Can. V. 10. № 6. P. 326–370. https://doi.org/10.1139/f53-023
- Guderley H. 2004. Metabolic responses to low temperature in fish muscle // Biol. Rev. V. 79. № 2. P. 409–427. https://doi.org/10.1017/S1464793103006328
- Hall В.K. 1998. Evolutionary developmental biology. Dordrecht: Springer, 491 р. https://doi.org/10.1007/978-94-011-3961-8
- Kaneshige M., Suzuki H., Kaneshige K. et al. 2001. A targeted dominant negative mutation of the thyroid hormone α1 receptor causes increased mortality, infertility, and dwarfism in mice // PNAS. V. 98. № 26. P. 15095–15100. https://doi.org/10.1073/pnas.261565798
- Koseki Y. 2004. Reproductive characteristics of precocious male parr in salmonids: Morphology, physiology, and behavior // Eur. J. For. Res. V. 7. № 2. P. 87–108.
- Markevich G.N., Pavlova N.S., Kapitanova D.V., Esin E.V. 2023. Bone calcification rate as a factor of craniofacial transformations in salmonid fish: insights from an experiment with hormonal treatment of calcium metabolism // Evol. Dev. V. 25. № 4–5. P. 274–288. https://doi.org/10.1111/ede.12453
- McKinney M.L., McNamara K.J. 1991. Heterochrony. The evolution of ontogeny. N.Y.: Springer, 437 p. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-0773-1
- McNamara K.J. 1986. The role of heterochrony in the evolution of Cambrian trilobites // Biol. Rev. V. 61. № 2. P. 121–156. https://doi.org/10.1111/j.1469-185X.1986.tb00464.x
- Piras P., Salvi D., Ferrara G. et al. 2011. The role of post-natal ontogeny in the evolution of phenotypic diversity in Podarcis lizards // J. Evol. Biol. V. 24. № 12. P. 2705–2720. https://doi.org/10.1111/j.1420-9101.2011.02396.x
- Reilly S.M., Wiley E.O., Meinhardt D.J. 1997. An integrative approach to heterochrony: the distinction between interspecific and intraspecific phenomena // Biol. J. Linn. Soc. V. 60. № 1. P. 119–143. https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.1997.tb01487.x
- Smith K.K. 2001. Heterochrony revisited: the evolution of developmental sequences // Ibid. V. 73. № 2. P. 169–186. https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.2001.tb01355.x
- Voskoboinikova O.S., Kudryavtseva O.Y., Orlov A.M. et al. 2020. Relationships and evolution of lumpsuckers of the family Cyclopteridae (Cottoidei) // J. Ichthyol. V. 60. № 2. P. 154–181. https://doi.org/10.1134/S0032945220020204
Дополнительные файлы