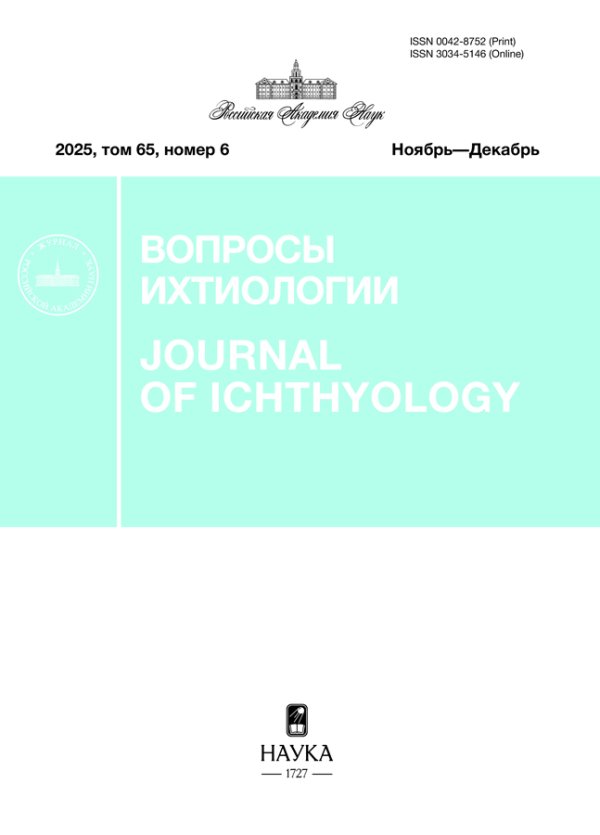Impacts of the high-pressure Bratsk Hydroelectric Power Station on fish population of the Bratsk Reservoir
- Authors: Gerasimov Y.V.1, Pavlov D.D.1, Strelnikova А.P.1, Shlyapkin I.V.1, Borisenko E.S.2
-
Affiliations:
- Papanin Institute for Biology of Inland Waters, Russian Academy of Sciences
- Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 64, No 4 (2024)
- Pages: 449-464
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0042-8752/article/view/271806
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0042875224040087
- EDN: https://elibrary.ru/EXWOBA
- ID: 271806
Cite item
Full Text
Abstract
Environmental and ecological effects of the dam of the high-pressure Bratsk Hydroelectric Power Station (HPS) on the fish population and the probability of fish downstream migration from the Bratsk Reservoir have been studied. It has been revealed that thermal stratification of the water column is a significant factor in the ecological differentiation of the fish population in the upper reaches of high-pressure hydroelectric plants. According to hydroacoustics data, most of the ichthyomass, consisting of "warm-water" representatives of the Percidae (65%) and Cyprinidae (22%) families, is concentrated in the relatively warm layer of the epilimnion. Juvenile fish from 30 to 50 mm in size (up to 70% of the total fish number in this layer) are also concentrated here. In the cold-water hypolimnion, the fish population is represented by large single individuals of whitefish (Coregoninae). The data on distribution of fish in the lower and upper reaches of the dam, fish nutrition patterns, growth rate, and the presence of injuries that occur when fish pass downstream through hydroelectric plant dams are presented. Revealed differences in the growth rate of perches from the upper and lower reaches are associated with their constant inhabiting of water masses with contrasting temperatures. Net catches in the lower reaches over the four seasons of research lack injured individuals. These facts prove the absence of mass downstream passage of fish through the Bratsk HPS dam. Juveniles of cyprinids and perches accumulate in the upper warm layer of 0–10 m, i.e. outside the zone of the intake flow formation, which makes their entrance to intake openings at a depth of more than 20 m hardly possible.
Full Text
Покатная миграция является неотъемлемой частью миграционного цикла у рыб (Павлов и др., 1999, 2007). К сожалению, рыбы, мигрирующие вниз по течению зарегулированной реки, проходя через гидроагрегаты ГЭС, подвергаются риску травмирования различной степени тяжести (Павлов, Нездолий, 1981; Mueller et al., 2017; Algera et al., 2020; Pleizer et al., 2020). Это явление наиболее изучено на примере низконапорных волжских водохранилищ (Павлов и др., 1985, 1999, 2007), но процесс реализации ската гидробионтов через высоконапорные ГЭС (к которым относится Братская ГЭС) имеет существенные отличия от такового через низконапорные волжские.
Основное отличие заключается в том, что у высоконапорных ГЭС верхний свод водозаборных отверстий находится на значительной глубине (у Братской ГЭС на глубине более 20 м). При весенне-летнем прогреве воды образуется температурная стратификация, при которой в высоконапорных водохранилищах металимнион находится выше свода водозаборных отверстий. В июле–августе в Братском водохранилище средняя многолетняя температура воды в верхнем слое (0–10 м) – 17.3°С, в слое 10–20 м – 10.5°С, придонные воды холодные (4–6°С) и летним прогревом не охватываются. Слой температурного скачка в течение всего вегетативного периода располагается значительно выше водозаборных отверстий – на глубине 7–10 м. Зона изъятия стока гидроузла формируется ниже, в слабозаселённых холодных водах пелагиали верхнего бьефа (Понкратов, 2013).
Температурная стратификация в значительной мере определяет вертикальное распределение рыб в Братском водохранилище. В настоящее время основу рыбного населения водохранилища составляют окунь Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 и плотва Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) (Мамонтов, 1977; Купчинский, Купчинская, 2006). Эти виды, по данным гидроакустики, в период температурной стратификации обитают в слое воды над термоклином. Здесь же держится основная масса их ранней молоди, которая скапливается в верхнем бьефе в результате ската с выше расположенных нерестилищ, который происходит в начале лета (июнь–июль) (немотивированная и мотивированная покатная миграция – по: Павлов и др., 1999, 2007), когда уже наблюдается выраженная температурная стратификация. Холодноводные сиговые (Coregoninae) в водохранилище представлены в основном искусственно вселяемыми в водохранилище омулем Coregonus autumnalis (Pallas, 1776) и пелядью C. peled (Gmelin, 1788), которые в относительно небольшом количестве населяют слой воды под температурным скачком (Купчинский, Купчинская, 2006).
Цель работы – проанализировать экологические эффекты влияния плотины высоконапорной Братской ГЭС на рыб Братского водохранилища, включая реализацию их покатной миграции через плотину.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Работы выполняли в акватории верхнего и нижнего бьефов в непосредственной близости от плотины Братской ГЭС (рис. 1).
Рис. 1. Пространственное распределение рыб, экз/га: а – в акватории приплотинного участка верхнего бьефа Братской ГЭС (участок № 1), б – в акватории участка нижнего бьефа (участок № 8). Масштаб, км: а – 3, б – 0.5.
Гидроакустика. Гидроакустические исследования проводили во вторых половинах июля и августа 2022 г. с использованием плавсредств и в первую половину февраля 2022 г. в верхнем бьефе со льда. В акваториях обоих бьефов использовали одновременно научно-исследовательские комплексы “AsCor” и “PanCor” (“ПромГидроакустика”, Россия). Двухчастотный комплекс “AsCor” (рабочие частоты 50 и 200 кГц) обеспечивает вертикальное зондирование водной среды от 2 до 50 м, “PanCor” (рабочая частота 455 кГц) – горизонтальное зондирование приповерхностных слоёв воды от 0.3 до 3.0 м на расстояниях до 20 м (Павлов и др., 2008).
Гидроакустические съёмки выполняли согласно общепринятым методикам (Fisheries acoustics …, 2005). Линейные размеры зарегистрированных рыб при вертикальном зондировании (дорсальный аспект) рассчитывали на основе измеренных in situ значений силы цели рыб c использованием обобщённого уравнения регрессии, полученного с применением частоты 200 кГц для наиболее массовых рыб региона (Borisenko еt al., 2006): TS = 27.7logFL – 71.1–0.9log(f1/f2), где TS – сила цели рыбы, дБ; FL – длина рыб по Смитту, мм – от вершины рыла до развилки хвостового плавника; 0.9log(f1/f2) – поправочный коэффициент для рабочей частоты 50 кГц; f1 – частота прибора, на котором была получена зависимость силы цели рыб от её длины; f2 – рабочая частота используемого прибора. При горизонтальном зондировании (боковой аспект облучения) использовали известную обобщённую зависимость (Kubecka, Duncan, 1998), полученную для 182 рыб разного размера на частоте 420 кГц – карповых (Cyprinidae), окунёвых (Percidae) и сиговых: TS = 22.3logSL – 92.7–0.9log(f1/f2), где SL – стандартная длина рыбы, мм.
Программное обеспечение комплексов состоит из двух частей: программ сбора информации, используемых непосредственно при проведении съёмок, и программ камеральной обработки полученных данных. По результатам камеральной обработки составляли схемы распределения рыб, строили гистограммы размерного ряда и определяли численность рыб на участках обследуемой акватории и их таксономическую принадлежность на уровне семейств окунёвых и карповых, подсемейства сиговых и прочих (Borisenko et al., 2006; Павлов и др., 2008).
Для таксономической идентификации регистрируемых одиночных рыб в комплексе “AsCor” предусмотрена специальная программа анализа формы плавательных пузырей рыб. В программе производится расчёт статистических параметров (коэффициентов вариации, асимметрии и эксцесса) огибающей амплитуд отражённых эхосигналов от рыб, что позволяет идентифицировать наиболее многочисленных рыб внутренних водоёмов на уровне семейств (подсемейств) – карповых, окунёвых и сиговых (Pavlov et al., 2010).
Для определения численности рыб гидроакустические исследования выполняли в тёмное время суток. Это обусловлено тем, что в светлое время мелкие рыбы (потенциальные жертвы крупных), предпочитают находиться в укрытиях, обеспечивающих их безопасность, или создают плотные стаи, что затрудняет определения их плотности и размерного состава. Однако для изучения поведения и дневного распределения рыб исследования проводили и в светлое время суток.
Питание рыб в нижнем бьефе. Для анализа питания в нижнем бьефе Братской ГЭС рыб в течение четырёх сезонов 2022 г. отлавливали с использованием порядков разноячейных (20–60 мм) сетей длиной 75–100 м. В уловах окуни были представлены особями FL 110–165 мм. Сети устанавливали перпендикулярно берегу на разном расстоянии от плотины: 500, 1000 и 1500 м, начиная с глубин 1.0–1.5 м, за исключением стрежня, на котором установка сетей поперёк течения была невозможна из-за высокой скорости потока – от 1.1 до 1.7 м/с. Биоанализ и отбор проб на питание осуществляли в соответствии с общепринятыми методиками (Правдин, 1966; Методическое пособие …, 1974).
Темп роста рыб в верхнем и нижнем бьефах. По жаберным крышкам восстановили темпы роста окуней в возрасте от 1+ до 3+ из нижнего и верхнего бьефов. Жаберные крышки отбирали в нижнем бьефе у рыб из сетных уловов (48 экз.), в верхнем бьефе – у рыб из промысловых уловов (32 экз.). Использование operculum для определения возраста у окуня осуществляли в соответствии с классической работой Ле Крена (Le Cren, 1947) с модификацией метода, предложенной Крайнюк с соавторами (2020). Статистическую значимость различий определяли с использованием непараметрического теста Манна–Уитни.
Исследование питания большого баклана Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) на островах в нижнем бьефе. При испуге у бакланов горловой мешок, в котором они приносят целую рыбу для кормления птенцов, посредством регургитации освобождается от содержимого. Для исследования видового и размерного состава вылавливаемых птицами рыб в июле в разгар гнездования мы посещали колонию бакланов, расположенную на острове в нижнем бьефе Братской ГЭС в 4 км от плотины. Сюда, по визуальным наблюдениям, направлялись бакланы, питавшиеся в нижнем бьефе плотины ГЭС. Потревоженные в гнёздах бакланы сбрасывали из горлового мешка рыбу на почву под деревьями. Исследовали только имеющих максимальную степень сохранности рыб, т. е. отловленных птицами незадолго до нашего посещения колонии. Сброшенных бакланами рыб фотографировали, измеряли стандартную длину и длину по Смитту и отбирали у них жаберные крышки для определения возраста. Одного окуня баклан сбросил при взлёте в нижнем бьефе у плотины, мы эту рыбу подобрали из воды.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Распределение рыб в верхнем бьефе. Обследовали всю площадь акватории приплотинного участка (рис. 1а, табл. 1). В летне-осенний период скопления рыб были отмечены у правого и левого берегов за пределами максимальных глубин акватории верхнего бьефа. Максимальная плотность скоплений составила 4169 экз/га. Численность крупных рыб размером > 100 мм составила ~1.6% общей численности. В узкой литоральной зоне (по результатам горизонтального зондирования) зарегистрировано 6% общей численности рыб.
Таблица 1. Параметры скоплений рыб на обследованных участках акваторий у Братской ГЭС
Параметр | Верхний бьеф | Нижний бьеф |
Площадь участка, га | 89051 | 189 |
Средняя плотность рыб, экз/га | 214 | 370 |
Общая численность рыб, экз. | 19127000 | 70000 |
Численность рыб размером > 100 мм, экз. | 300300 | 6100 |
Доля таксонов рыб, %: | ||
– карповые | 22.5 | 15.3 |
– окунёвые | 65.4 | 67.8 |
– сиговые | 8.1 | 11.3 |
– нераспознанные | 4.0 | 5.6 |
В акватории приплотинного участка верхнего бьефа выше термоклина доминирующими являются окунёвые рыбы, на втором месте – карповые, ниже термоклина – сиговые, составляющие ~8.1% общей численности рыб на этом участке (табл. 1).
В литоральной зоне и верхних слоях пелагиали преобладали особи FL 30–50 мм (до 70% общей численности рыб) (рис. 2а). В пелагиали в слоях выше и ниже температурного скачка периодически регистрировали более крупных одиночных особей (рис. 2б). Крупные особи, зарегистрированные выше температурного скачка, представлены в основном окунёвыми, а ниже – сиговыми.
Рис. 2. Размерный состав (длина тела по Смитту – FL) рыб, зарегистрированных: а, б – в акватории приплотинного участка верхнего бьефа Братской ГЭС (участок № 1); в, г – в акватории участка нижнего бьефа (участок № 8); а, в – ранняя молодь и мелкоразмерные особи; б, г – рыбы размером ≥ 100 мм.
В зимнее время в акваториях русла и обширной центральной глубоководной части водоёма скоплений рыб и одиночных особей не обнаружено.
Распределение рыб в нижнем бьефе. Общая обследованная площадь на приплотинном участке нижнего бьефа составила 189 га. Зарегистрированы плотные скопления рыб на расстоянии 0.5–1.5 км от ГЭС (рис. 1б, табл. 1). В непосредственной близости от плотины на расстоянии до 500 м регистрация рыб эхолотом была невозможна из-за высокой насыщенности воды пузырями воздуха, создающими помехи работе эхолота.
На расстоянии 500 м от плотины, где восстанавливалась высокая прозрачность воды и снижалась турбулентность, в придонных горизонтах потока были зарегистрированы плотные скопления рыб (рис. 1б). Средняя плотность этих скоплений в 1.5 раза выше, чем плотность рыб на приплотинном участке верхнего бьефа (табл. 1), но максимальная плотность ниже – 2734.3 экз/га. Плотные скопления, как и в верхнем бьефе, смещены от стрежня с максимальными скоростями течения к левому берегу. В отличие от верхнего бьефа в нижнем отсутствовали особи размерами < 60 мм (рис. 2в). Численность рыб размером > 100 мм составляла 8.7% (рис. 2г).
Соотношение таксонов в скоплениях было сходным с таковым в верхнем бьефе, но чуть меньше была доля карповых и больше сиговых (табл. 1). Последние составили 11% (7700 экз.) при плотности 44 экз/га. В прибрежных участках водотока доминировали окунёвые рыбы FL > 90 мм, здесь же отмечались и карповые. Сиговых регистрировали в придонных горизонтах стрежневой части. В верхнем горизонте стрежня рыбы отсутствовали.
Темп роста окуней из нижнего и верхнего бьефов. Окуни всех возрастных групп из нижнего и верхнего бьефов статистически значимо различались по стандартной длине тела. Окуни из нижнего бьефа, в том числе и окунь, который был сброшен бакланом при взлёте с воды в непосредственной близости от ГЭС (рис. 3), имели более низкие темпы роста, чем окуни из верхнего бьефа (табл. 2).
Рис. 3. Стая бакланов Phalacrocorax carbo, взлетающих в нижнем бьефе Братской ГЭС (а); сброшенный бакланом из горлового мешка окунь, обнаруженный в воде после взлёта птиц (б).
Таблица 2. Средняя расчисленная стандартная длина тела отловленных у Братской ГЭС окуней Perca fluviatilis разного возраста
Возраст, лет | Нижний бьеф | Верхний бьеф | p |
1+ | 79.6 ± 3.3 | 91.4 ± 11.8 | 0.04 |
2+ | 107.3 ± 4.3 | 127.9 ± 14.6 | 0.01 |
3+ | 135.6 ± 4.1 | 155.4 ± 16.6 | 0.01 |
Примечание. p – уровень значимости различий расчисленных длин рыб из верхнего и нижнего бьефов.
Исследование питания большого баклана в нижнем бьефе. Окуни, сброшенные большими бакланами из горлового мешка, были длиной по Смитту от 110 до 160 мм (рис. 4). Соотношение видов рыб, сброшенных бакланами в колонии, сходно с таковым в уловах жаберных сетей (табл. 3).
Рис. 4. Окуни Perca fluviatilis: а–в – сброшенные из горлового мешка большими бакланами Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) при испуге в колонии на острове; г – из сетных уловов в нижнем бьефе Братской ГЭС.
Таблица 3. Доля основных видов рыб в сетных уловах и в сброшенной бакланами Phalacrocorax carbo из горлового мешка массе в колонии под деревьями с гнёздами, %
Вид | Сетные уловы | Колония |
Песчаная широколобка Leocottus kesslerii (Dybowski, 1874) | 14.0 | 19.6 |
Ёрш Gymnocephalus cernua (Linnaeus, 1758) | 1.8 | 5.9 |
Плотва Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) | 5.3 | 11.8 |
Окунь Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 | 78.9 | 62.7 |
Питание рыб в нижнем бьефе. Вскрытие окуней, отловленных в начале июня на станции 1 (в 500 м от плотины), показало, что они питались амфиподами (Amphipoda), которые составляли 100% содержимого желудков. Средний индекс наполнения желудков составил 8‱. До 60% особей были с пустыми желудками. У окуней со станций 2 (1000 м от плотины) и 3 (1500 м от плотины) в пище, кроме амфипод, появились личинки хирономид (Chironomidae) и подёнок (Ephemeroptera), составлявшие до 13% по численности и до 48% по массе содержимого. Средний индекс наполнения возрос до 73‱, а доля пустых желудков снизилась до 20%. Наличие нитчатых зелёных водорослей Cladophora sp. в пищевом комке указывает на то, что окуни у берега питались, добывая кормовые организмы из густых обрастаний, покрывающих прибрежные камни.
У окуней, отловленных во второй половине июля в 500 м от плотины, как и в июне, основу содержимого желудочно-кишечных трактов составляли амфиподы (до 100%). Средний индекс наполнения желудков был выше июньского – 46‱ при сходной доле пустых желудков в 70%. У окуней, отловленных на станции 2 (на 3-й улов отсутствовал), как и в июне, расширялся спектр питания, появлялись организмы зоопланктона, представленные в основном Cladocera (Daphnia galeata Sars, 1864 и Bosmina (Eubosmina) crassicornis Lilljeborg, 1887). Планктонные организмы составляли до 80% по численности и 2% по массе содержимого, основу пищевого комка по массе, как и в начале июня, составляли амфиподы. Единично встречались личинки ручейников (Trichoptera). Индекс наполнения желудков увеличивался до 77‱ и доля пустых желудков снижалась до 20%.
Сходный спектр питания отмечен у окуней во второй половине сентября: по массе основу составляли амфиподы, по численности – планктон. Средний индекс наполнения желудков на станции 1 увеличился до 67‱, а на станциях 2 и 3 индекс наполнения составлял 72‱. Пустые желудки отсутствовали. Сходный состав пищи был отмечен и у окуня, сброшенного бакланом в воду при взлёте в нижнем бьефе ГЭС.
ОБСУЖДЕНИЕ
Скат рыб через плотину Братской ГЭС исследовали и ранее. Так, сотрудники научно-производственной фирмы “Экопром” 1, изучавшие скат в 2011 г., отмечали, что попытки отлова повреждённой рыбы в различные сезоны года в нижнем бьефе Братской ГЭС не дали результата. Но в отчёте они приводят фотографию окуня как пример травмирования при скате через агрегаты Братской ГЭС (рис. 5). При этом на фото видны и отдельно лежащие фрагменты тела, которые в таком случае просто унесло бы водой. Следовательно, повреждение было получено окунем уже в орудии лова. Это доказывает то, что травмирование рыб при их отлове в нижнем бьефе может быть следствием механического воздействия применяемых орудий лова, а не повреждений, полученных при предполагаемом скате через плотину ГЭС (Евланов, Розенберг, 2010; Логинов, Гелашвили, 2016; Mueller et al., 2017).
Рис. 5. Окуни Perca fluviatilis: а – пойманные на удочку зимой и поднятые с глубины 20 м на озере Плещеево, б – пойманный в сети и поднятый с глубины 18 м на озере Плещеево, в – пойманный в сети в нижнем бьефе Братской ГЭС сотрудниками “Экопром”; 1 – плавательный пузырь, показавшийся из ротового отверстия при подъёме окуня с большой глубины; 2 – фрагменты тела травмированного окуня.
Отрицательный результат был получен и при установке сотрудниками “Экопром” сетей в верхнем бьефе в придонных слоях вблизи ГЭС на глубине 90 м в течение 5 ч. Сходные результаты мы получили при проведении гидроакустической съёмки в верхнем бьефе Братской ГЭС. По её результатам показано, что окуни, самый массовый вид в водохранилище, отсутствуют в слое ниже температурного скачка, т. е. ниже 10 м. Следовательно, во время температурной стратификации, которая продолжается в течение всего вегетационного периода, слой температурного скачка является естественной границей вертикального перемещения окуня.
Сотрудники Байкальского отделения Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии 2, в 2013 г. ловившие рыбу в нижнем бьефе Братской ГЭС ихтиопланктонными конусными сетями, показали, что в скате самыми массовыми являются представители керчаковых (Cottidae) – песчаная Leocottus kesslerii (Dybowski, 1874) и каменная Paracottus knerii (Dybowski, 1874) широколобки – холодноводные виды, обитающие в гиполимнионе у дна, т. е. в зоне формирования стока. Вторым по массовости видом в стоке, по их данным, является окунь размером 52 мм, который скатывается в августе и сентябре. Но по результатам гидроакустики во вторых половинах июля и сентября этот вид концентрируется в эпилимнионе, воды которого не участвуют в формировании стока, и в августе и сентябре в Братском водохранилище ещё сохраняется выраженная температурная стратификация. Температура поверхностных слоёв в августе остаётся на уровне 17.0–19.4°С, в сентябре – 10.8–14.1°С, ниже 20 м температура неизменна (4–6°С); осенняя гомотермия наступает только в ноябре (Готлиб и др., 1976; Понкратов, 2013).
Основные кормовые объекты окуня в этот период находятся в эпилимнионе. Биомасса планктона – основного объекта питания мелкого окуня – в тёплом слое составляет 2.2, а глубже 10 м – 0.9 г/м3 (Герасимов и др., 2023). Основные кормовые объекты крупного окуня в верхнем бьефе Братского водохранилища – амфиподы и молодь рыб (Купчинский, Купчинская, 2006). Средняя численность амфипод (Micruropus vortex angarensis Bazikalova, 1962), по нашим данным, в литорали приплотинного плёса на глубинах 1–2 м составляет 99, а на глубинах 3–7 м – 310 экз/м2, на дне в холодном слое их встречаемость единичная. Молодь рыб, по данным гидроакустики, также находится в тёплом слое выше термоклина, составляя до 70% общей численности рыб. В период проведения исследований в июле и сентябре прозрачность воды в верхнем бьефе по диску Секки составляла 1.4 м, т. е. в нижних слоях эпилимниона днём было темно и молоди окуня не было смысла совершать оборонительную вертикальную миграцию (Sajdlová et al., 2018), преодолевая слой температурного скачка. Следовательно, у окуня всех размеров отсутствовала мотивация к преодолению слоя температурного скачка для перемещения в холодный и малопродуктивный гиполимнион.
По данным гидроакустики, в период гомотермии, зимой, в приплотинном участке верхнего бьефа во всей водной толще не обнаружено рыбных скоплений и одиночных особей. Вероятно, это связано с высокой скоростью стокового течения, которое препятствует образованию зимовальных скоплений на этих участках.
В отсутствии температурной стратификации и зрительных ориентиров немотивированные здоровые рыбы даже случайно не могут опуститься на нежелательные глубины, поскольку способны эффективно ориентироваться по глубине. Экспериментально доказано, что они чувствительны не только к высоким, но и к низким скоростям изменения давления, которые характерны для погодных атмосферных процессов (Иванов, 2003). Установлено, что рыбы могут определить глубину своего местонахождения с высокой точностью, используя только гидростатическое давление (Davis et al., 2021). Наиболее вероятным рецептором давления является плавательный пузырь, стенки которого обладают высокой эластичностью и растяжимостью и имеют разветвлённую нервную сеть. Это предположение основано на том, что денервация пузыря (перерезка ramus intestinalis – ветви блуждающего нерва) приводит к прекращению компенсаторных реакций на изменение давления (Иванов, 2003).
Малая вероятность попадания окуня в водозаборные окна, расположенные на глубине более 20 м, обусловлена и тем, что окунь – вид, который относится к закрытопузырным рыбам, у которых вертикальные миграции затруднены из-за свойственного им длительного выравнивания давления в плавательном пузыре. Так, окунь способен наполнить пузырь газами для погружения на каждые 10 м (т. е. до давления ~1013 гПа, эквивалентного 1 атм.) за 20–30 ч (Иванов, 2003; Захарченко, 2004). При быстрых перепадах давления, превышающих эти показатели, например при быстром подъёме рыбы на поверхность с глубины > 20 м, плавательный пузырь, чрезмерно раздуваясь, выходит через ротовое отверстие (рис. 5а, 5б). Это же должно происходить с окунем, который, проходя с потоком через плотину высоконапорной ГЭС, быстро перемещается с глубины водозабора > 20 м в нижний бьеф с нормальным атмосферным давлением, т. е. происходит практически мгновенный перепад давления > 2026 гПа (> 2 атм.).
При сетном лове рыб в нижнем бьефе на протяжении четырёх сезонов среди пойманных окуней не было обнаружено ни одной особи с плавательным пузырём в ротовом отверстии (рис. 4г). Не было этого и у окуня, фото которого приводят в отчёте сотрудники фирмы “Экопром” (рис. 5в).
Наличие в пище баклана широколобок в таком же соотношении, что и в сетных уловах (табл. 3), указывает на то, что он активно питается в нижнем бьефе. Высокая численность широколобок в Ангарских водохранилищах отмечается на участках с низкой температурой воды: на глубоководных (> 30 м) участках и в нижних бьефах плотин ГЭС (Понкратов, 2013). Установленная глубина ныряния большого баклана – до 10 м (Handbook …, 1977; Gremillet et al., 2006; Луговой, 2011). Следовательно, в верхнем бьефе широколобки не доступны для баклана, и он их добывает при питании в нижнем, где глубины < 10 м. При этом ни у одного окуня, обнаруженного в колонии (рис. 4а–4в), и у окуня, сброшенного при взлёте баклана с воды в непосредственной близости от ГЭС (рис. 3б), не было отмечено выпячивания плавательного пузыря через ротовое отверстие. Кроме того, ни у одного окуня, в том числе и у отловленных в сети (рис. 4г), не были обнаружены травмы, которые должны появляться у рыб при скате через гидроагрегаты ГЭС (Павлов, Нездолий, 1981; Hogan et al., 2014; Mueller et al., 2017).
Отсутствие в наших сетных уловах скатившихся особей подтверждается более низким темпом роста у окуней из нижнего бьефа Братской ГЭС. Низкий темп роста зарегистрирован и у окуня, который был сброшен бакланом при взлёте с воды в непосредственной близости от ГЭС. Подобное статистически значимое различие размеров одновозрастных окуней из верхнего и нижнего бьефов обусловлено их обитанием в водных массах с разными температурами. В вегетационный период вода в верхнем бьефе в верхнем слое (0–10 м), в котором, по данным гидроакустики, в этот период обитает окунь, прогревается, по среднемноголетним данным, до 17.3°С; вода на глубинах ниже 20 м не подвержена прогреву и в течение всего года имеет температуру 4–6°С (Понкратов, 2013), с которой и поступает в нижний бьеф. По нашим данным, вода в нижнем бьефе в июле 2022 г. даже на расстоянии 7 км от плотины (у моста на о-ве Тенга) имела температуру ~ 7°С.
Проведённые сотрудниками “Экопром” гидроакустические исследования в нижнем бьефе показали, что наибольшая плотность рыб наблюдается в зонах с пониженной скоростью течения (0.5–0.8 м/с), например, напротив неработающих агрегатов ГЭС. В местах со скоростью течения > 1.5 м/с, независимо от времени суток и глубины, рыб регистрировали только вблизи дна. Евланов и Розенберг (2010, С. 108), определявшие интенсивность ската рыб косвенным путём через учёт количества чаек-хохотуний Larus cachinnans (Pallas, 1811), которые, по их мнению, питались в нижнем бьефе скатившейся травмированной или оглушённой рыбой, приводят сходные с сотрудниками фирмы “Экопром” данные о том, что: “… распределение скатившихся рыб значительно отличается и не может быть обусловлено работой отдельных агрегатов ГЭС”. То есть эти авторы, как и сотрудники фирмы “Экопром”, отмечают, что рыб они регистрировали (в данном случае через питание чаек) напротив неработающих агрегатов ГЭС. Подобное распределение рыб в нижнем бьефе может быть связанно с активным выбором ими участков с оптимальными скоростями течения. Рыбы с повреждениями и стрессом, которые неизбежны при скате через гидроагрегаты ГЭС (Павлов, Нездолий, 1981; Mueller et al., 2017), не способны активно ориентироваться в бурном потоке и выбирать участки с оптимальными скоростями течения. Скорее они будут пассивно сплывать, будучи травмированными и оглушёнными, вниз с потоком воды. В нашем случае в 500 м от плотины Братской ГЭС окуни активно питались у берега и в придонных горизонтах, избегая стрежневой части потока. Основу их пищевого комка составляли амфиподы со значительным содержанием нитчатых зелёных водорослей. Это указывает на то, что окуни питаются у берега, добывая кормовые организмы из густых обрастаний, покрывающих прибрежные камни. В 1000 и 1500 м ниже плотины, где русло становится шире, а поток более медленным и ламинарным, в пище окуня появляется планктон, возрастает индекс наполнения и снижается количество пустых желудков. То есть активное питание и ориентирование рыб в бурном потоке нижнего бьефа указывают на то, что скопление формируют не скатившиеся травмированные и оглушённые особи, а здоровые, постоянно обитающие здесь рыбы.
Подход окуней в нижнем бьефе к плотине в августе–сентябре обусловлен тем, что к концу вегетативного сезона увеличивается скат различных кормовых объектов, живых и отмирающих. Это подтверждают и данные по питанию окуней. У особей, отловленных в нижнем бьефе в июне, индекс наполнения составлял 8‱, при 60% пустых желудков, в июле – 46‱ при 70% пустых желудков, в сентябре – 67‱ при отсутствии пустых желудков.
Вызывает сомнение сама возможность массового ската рыб, которые по своим физическим показателям способны противостоять стоковому течению. Наши наблюдения на речных плёсах Горьковского, Рыбинского, Иваньковского и Угличского водохранилищ на участках с выраженным стоковым течением (Поддубный и др., 2003) показали, что рыбы в основном приурочены к участкам пониженных скоростей (< 15 см/с) на периферии оси стокового течения. Такие виды рыб, как окунь и судак Sander lucioperca, уходят из зоны больших скоростей в зону скоростей 0.10–0.25Vкр (Vкр – критическая скорость, т. е. скорость потока, которой особь определённого вида и размера не способна сопротивляться). Эти скорости для указанных видов при Vкр 40–60 см/с, составили от 4 до 15 см/c. Более низкие скорости течения выбирала и плотва. Предпочитаемые ею скорости составляли ∼0.49Vкр, т. е. ∼20 см/с (Поддубный и др., 2003). Подобная реакция на течение способствует относительной стабильности распределения рыб в реке и позволяет адекватно реагировать на иные факторы среды (распределение корма, хищников и так далее). Это же подтвердили наши исследования на Чебоксарской ГЭС (Герасимов и др., 2014), которая работала только в дневные часы, а в ночное время сброс воды через ГЭС не производился. По данным гидроакустических исследований, ночью рыбы в верхнем бьефе для нагула выходили на русловые участки с максимальными глубинами (рис. 6а). Утром, перед запуском агрегатов ГЭС, рыбы смещались на участки за пределами русла с глубинами не более 10 м (рис. 6б), где стоковое течение имело минимальные скорости. То есть у рыб выработался определённый тип поведения, который позволял им противостоять скату в нижний бьеф плотины. Это же подтверждают данные по Братскому водохранилищу, показывающие, что максимальные плотности скоплений в акватории верхнего бьефа были отмечены у правого и левого берегов за пределами максимальных глубин, по которым проходит стоковое течение (рис. 1а). То же отмечено и в нижнем бьефе: плотные скопления смещены от стрежня к левому берегу, это обеспечивает длительную стабильность пространственного расположения скопления.
Рис. 6. Пространственное распределение пелагических рыб в верхнем (а, б) и нижнем (в) бьефе Чебоксарской ГЭС: а – неработающая ГЭС (ночное время); б, в – работающая ГЭС (дневное время); (―) – изобаты. Масштаб, м: а, б – 2000, в – 1000.
На запуск гидроагрегатов Чебоксарской ГЭС рыба активно реагировала и в нижнем бьефе, образуя в непосредственной близости от плотины скопление, превосходившее по плотности скопления, зарегистрированные в верхнем бьефе. По данным тралового лова оно состояло из планктофагов (в основном из тюльки Clupeonella cultriventris) и хищников, подходивших за тюлькой (судака) (рис. 6в). Здесь же начинали концентрироваться чайки. Формирование скопления начиналось перед запуском агрегатов ГЭС, т. е. не могло быть следствием ската рыбы из верхнего бьефа. Подобное поведение в нижнем бьефе мы наблюдали и во время проведения исследований на Угличской ГЭС, которая также работала только днём. К моменту запуска гидроагрегатов Угличской ГЭС в 09:00 плотность рыб в нижнем бьефе увеличилась в 5.6 раза, по сравнению с данными гидроакустической съёмки, проведённой в 06:00.
Следовательно, рыбы, которые по своим физическим показателям способны противостоять потоку, активно ориентируются в нём по градиенту скоростей, избирая предпочитаемые. При отсутствии мотивации к покатной миграции, возникающей, например, при недостатке корма (внешне обусловленная покатная миграция – по: Павлов и др., 1999, 2007), они будут сохранять своё местоположение на течении, избегая высоких скоростей, способствующих их скату.
Это, по всей видимости, относится и к широколобкам, высокая численность которых отмечается на нижних бьефах ГЭС (Понкратов, 2013). Песчаные широколобки из сетных уловов активно питались амфиподами и собственной молодью, индекс наполнения их желудков составлял 42‱, а желудочно-кишечный тракт единственного экземпляра длиннокрылой широколобки Cottocomephorus inermis (Jakowlew, 1890) содержал остатки Cladocera (28‱).
Следовательно, скопления в нижнем бьефе формируются из рыб, подошедших из акватории этого же бьефа к плотине для питания скатывающимися беспозвоночными (Akopian et al., 1999; Chang et al., 2008). Соответственно, рыбоядных птиц в нижнем бьефе привлекает не массовый скат травмированной и оглушённой рыбы, а образующиеся плотные нагульные скопления.
Наиболее подвержена скату молодь рыб на ранних стадиях онтогенеза, когда их физические возможности не позволяют им сопротивляться потоку, а генетически обусловленная мотивация к покатной миграции на определённой стадии развития, напротив, провоцирует их активный выход на течение (Павлов и др., 2007). Но во время ската покатной молоди массовых видов рыб Братского водохранилища (окунь, плотва), в верхнем бьефе высоконапорной Братской ГЭС уже развивается температурная стратификация. Молодь концентрируется в верхнем тёплом слое 0–10 м, т. е. за пределами зоны формирования стока, и её попадание в водозаборные отверстия на глубине > 20 м маловероятно. Подтверждением этому является отсутствие в нижнем бьефе, по данным гидроакустики, особей размером < 60 мм, которые в литоральной зоне и верхних слоях пелагиали верхнего бьефа составляли до 70% общей численности рыб.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты наших исследований не подтвердили факта массового ската окуня через плотину Братской ГЭС. Во время температурной стратификации, которая продолжается в течение всего вегетационного периода, слой температурного скачка является естественной границей вертикального перемещения массовых видов рыб, что делает их попадание в водозаборные окна на глубине > 20 м маловероятным.
Окуни из нижнего и верхнего бьефов во всех возрастных группах достоверно различаются по размерам. Эти данные указывают на то, что все отловленные окуни в течение жизни росли при разных температурах. Окуни из нижнего бьефа росли при более низкой температуре.
Малая вероятность попадания окуня в глубинные водозаборные окна обусловлена тем, что этот вид относится к закрытопузырным. Его вертикальные миграции затруднены из-за свойственного им длительного выравнивания давления в плавательном пузыре. При скате окуня с глубины водозабора > 20 м в нижний бьеф с нормальным атмосферным давлением происходит мгновенный перепад давления (> 2026 гПа), при этом плавательный пузырь, чрезмерно раздуваясь, должен выходить через ротовое отверстие.
При проведении исследований ни у одного окуня, обнаруженного в колонии бакланов, у окуня, сброшенного при взлёте бакланов с воды, и у окуней, отловленных в течение четырёх сезонов в нижнем бьефе сетями, не было отмечено выпячивания плавательного пузыря через ротовое отверстие. Кроме того, ни у одного из окуней не были обнаружены травмы, которые должны появляться у рыб при скате через гидроагрегаты ГЭС.
Наблюдаемое скопление рыб в нижнем бьефе обусловлено не массовым скатом рыб с верхнего бьефа, а высокой численностью кормовых объектов за счёт ската органики и организмов зоопланктона с верхнего бьефа ГЭС. Соответственно, скопления рыбоядных птиц в нижнем бьефе скорее связаны не с массовым скатом травмированных рыб, а со скоплением рыб, подошедших для питания скатывающимися беспозвоночными.
Рыбы, которые по своим физическим показателям способны противостоять потоку, при отсутствии мотивации к покатной миграции будут сохранять своё местоположение на течении, избегая высоких скоростей потока, что минимизирует вероятность их ската через плотину ГЭС.
Ранняя молодь массовых видов рыб Братского водохранилища, наиболее подверженная скату, концентрируется в верхнем тёплом слое 0–10 м, т. е. за пределами зоны формирования стока и её попадание в водозаборные отверстия на глубине > 20 м маловероятно.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Работа проведена в рамках государственного задания Министерства образования и науки “Биоразнообразие, структура и функционирование пресноводных рыб континентальных водоёмов и водотоков” (регистрационный номер в Единой государственной информационной системе учёта результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 121051100104–6).
1 Отчёт о научно-исследовательской работе “Оценка влияния гидроузла Братской ГЭС на гидробионтов Братского водохранилища и р. Ангары”. Иркутск: Экопром, 2011. 62 с.
2 Отчёт о научно-исследовательской работе “Оценка влияния гидроэнергетики на рыбохозяйственную продуктивность Иркутского и Братского водохранилищ, с целью определения комплекса мер устойчивого воспроизводства ценных видов рыб в современных эколого-экономических условиях для удовлетворения спроса населения Иркутской области в рыбной продукции”. Улан-Удэ: Байкал. филиал ГНПЦ рыб. хоз-ва, 2013. 69 с.
About the authors
Yu. V. Gerasimov
Papanin Institute for Biology of Inland Waters, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: gu@ibiw.ru
Russian Federation, Borok, Yaroslavl Oblast
D. D. Pavlov
Papanin Institute for Biology of Inland Waters, Russian Academy of Sciences
Email: gu@ibiw.ru
Russian Federation, Borok, Yaroslavl Oblast
А. P. Strelnikova
Papanin Institute for Biology of Inland Waters, Russian Academy of Sciences
Email: gu@ibiw.ru
Russian Federation, Borok, Yaroslavl Oblast
I. V. Shlyapkin
Papanin Institute for Biology of Inland Waters, Russian Academy of Sciences
Email: gu@ibiw.ru
Russian Federation, Borok, Yaroslavl Oblast
E. S. Borisenko
Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences
Email: gu@ibiw.ru
Russian Federation, Moscow
References
- Герасимов Ю.В., Поддубная Н.Я., Борисенко Э.С. и др. 2023. Влияние высоконапорной Братской ГЭС на зоопланктон Братского водохранилища // Биология внутр. вод. № 4. С. 473–490. https://doi.org/10.31857/S0320965223040083
- Герасимов Ю.В., Поддубный С.А., Малин М.И., Цветков А.И. 2014. Влияние гидродинамических условий на распределение рыб в Чебоксарском водохранилище // Вопр. рыболовства. Т. 15. № 3. С. 295–305.
- Готлиб Я.Л., Жидких В.М., Сокольников Н.М. 1976. Тепловой режим водохранилищ гидроэлектростанций. Л.: Гидрометеоиздат, 204 с.
- Евланов И.А., Розенберг Г.С. 2010. Особенности расчета ущерба водным биологическим ресурсам волжских водохранилищ от работы ГЭС в современных условиях: положительные и отрицательные стороны гидростроительства // Матер. заседания тематического сообщества по проблемам больших плотин и научного консультативного совета Межведомственной ихтиологической комиссии “Рыбохозяйственные проблемы строительства и эксплуатации плотин и пути их решения”. М.: WWF России. С. 101–110.
- Захарченко А.В. 2004. Влияние гидростатического давления на поведение открыто- и закрытопузырных рыб в потоке воды: Автореф. дис. … канд. биол. наук. М.: ИПЭЭ РАН, 22 с.
- Иванов А.А. 2003. Физиология рыб. М.: Мир, 284 с.
- Крайнюк В.Н., Асылбекова С.Ж., Шуткараев А.В. 2020. Линейный рост окуня Perca fluviatilis L., 1758 (Percidae) в бассейнах рек Нура и Сарысу // Вестн. АГТУ. Сер. Рыб. хоз-во. № 3. С. 83–95. https://doi.org/10.24143/2073–5529–2020–3–83–95
- Купчинский А.Б., Купчинская Е.С. 2006. Состояние ихтиофауны водохранилищ Ангары // Бюл. ВСНЦ СО РАМН. № 2 (48). С. 56–61.
- Логинов В.В., Гелашвили Д.Б. 2016. Вред водным биологическим ресурсам водохранилищ Волжско-Камского каскада от воздействия гидроэлектростанций // Принципы экологии. № 4 (20). С. 4–25. https://doi.org/10.15393/j1.art.2016.4681
- Луговой А.Е. 2011. Большой баклан Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) // Птицы России и сопредельных регионов: Пеликанообразные, Аистообразные, Фламингообразные. М: Т-во науч. изд. КМК. С. 54–82.
- Мамонтов А.М. 1977. Рыбы Братского водохранилища. Новосибирск: Наука, 247 с.
- Методическое пособие по изучению питания и пищевых отношений рыб в естественных условиях. 1974. М.: Наука, 254 с.
- Павлов Д.С., Нездолий В.К. 1981. О травмировании молоди рыб при скате через низконапорные плотины // Информ. бюл. ИБВВ АН СССР. № 50. С. 29–32.
- Павлов Д.С., Костин В.В., Нездолий В.К. и др. 1985. Покатная миграция рыб из водоемов с замедленным водообменном. М.: Изд-во ИЭМЭЖ АН СССР, 136 с.
- Павлов Д.С., Лупандин А.И., Костин В.В. 1999. Покатная миграция рыб через плотины ГЭС. М.: Наука, 255 с.
- Павлов Д.С., Лупандин А.И., Костин В.В. 2007. Механизмы покатной миграции молоди речных рыб. М.: Наука, 212 с.
- Павлов Д.С., Борисенко Э.С., Мочек А.Д., Дегтев А.И. 2008. Исследования распределения рыб в реках с помощью гидроакустических комплексов // Матер. II Междунар. науч.-практ. конф. “Повышение эффективности использования водных биологических ресурсов”. М.: Изд-во ВНИРО. С. 25–28.
- Поддубный С.А., Герасимов Ю.В., Новиков Д.А. 2003. Структура течений и распределение рыб в речных плесах Верхневолжских водохранилищ // Биология внутр. вод. № l. С. 89–97.
- Понкратов С.Ф. 2013. Инвазии чужеродных видов рыб в бассейн Ангарских водохранилищ // Рос. журн. биол. инвазий. № 4. С. 59–69.
- Правдин И.Ф. 1966. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных). М.: Пищ. пром-сть, 376 с.
- Akopian M., Garnier J., Pourriot R. 1999. A large reservoir as a source of zooplankton for the river: structure of the populations and influence of fish predation // J. Plankton Res. V. 21. № 2. P. 285–297. https://doi.org/10.1093/plankt/21.2.285
- Algera D.A., Rytwinski T., Taylor J.J. et al. 2020. What are the relative risks of mortality and injury for fish during downstream passage at hydroelectric dams in temperate regions? A systematic review // Environ. Evid. V. 9. Article 3. https://doi.org/10.1186/s13750–020–0184–0
- Borisenko E.S., Degtev A.I., Mochek A.D., Pavlov D.S. 2006. Hydroacoustic characteristics of mass fishes of Ob-Irtish basin // J. Ichthyol. V. 46. Suppl. 2. Р. S227–S234. https://doi.org/10.1134/S0032945206110130
- Chang K.-H., Doi H., Imai H. et al. 2008. Longitudinal changes in zooplankton distribution below a reservoir outfall with reference to river planktivory // Limnology. V. 9. № 2. P. 125–133. https://doi.org/10.1007/s10201–008–0244–6
- Davis V.A., Holbrook R.I., de Perera T.B. 2021. Fish can use hydrostatic pressure to determine their absolute depth // Commun. Biol. V. 4. Article 1208. https://doi.org/10.1038/s42003–021–02749-z
- Fisheries acoustics. Theory and practice. 2005. Oxford: Blackwell, 437 p. http://doi.org/10.1002/9780470995303
- Grémillet D., Enstipp M.R., Boudiffa M., Liu H. 2006. Do cormorants injure fish without eating them? An underwater video study // Mar. Biol. V. 148. № 5. P. 1081–1087. https://doi.org/10.1007/s00227–005–0130–2
- Handbook of the birds of Europe, the Middle East, and North Africa. The birds of the Western Palearctic. 1977. V. I. Ostrich to Ducks. Oxford et al.: Oxford Univ. Press, 722 p.
- Hogan T.W., Сada G.F., Amaral S.V. 2014. The status of environmentally enhanced hydropower turbines // Fisheries. V. 39. № 4. P. 164–172. https://doi.org/10.1080/03632415.2014.897195
- Kubecka J., Duncan A. 1998. Acoustic size vs. real size relationships for common species of riverine fish // Fish. Res. V. 35. № 1–2. P. 115–125. https://doi.org/10.1016/S0165–7836(98)00066–6
- Le Cren E.D. 1947. The Determination of the age and growth of the perch (Perca fluviatilis) from the opercular bone // J. Anim. Ecol. V. 16. № 2. P. 188–204. https://doi.org/10.2307/1494
- Mueller M., Pander J., Geist J. 2017. Evaluation of external fish injury caused by hydropower plants based on a novel field-based protocol // Fish. Manag. Ecol. V. 24. № 3. P. 240–255. https://doi.org/10.1111/fme.12229
- Pavlov D.S., Mochek A.D., Borisenko E.S., Degtev A.I. 2010. Hydroacoustic investigation of taxonomic composition and of vertical distribution of fish in the riverbed depression // J. Ichthyol. V. 50. № 11. Р. 969–976. https://doi.org/10.1134/S0032945210110019
- Pleizer N.K., Nelson C., Cooke S.J., Brauner C.J. 2020. Understanding gas bubble trauma in an era of hydropower expansion: how do fish compensate at depth? // Can. J. Fish. Aquat. Sci. V. 77. № 3. P. 556–563. https://doi.org/10.1139/cjfas-2019–0243
- Sajdlová Z., Frouzová J., Draštík V. et al. 2018. Are diel vertical migrations of European perch (Perca fluviatilis L.) early juveniles under direct control of light intensity? Evidence from a large field experiment // Freshw. Biol. V. 63. № 5. P. 473–482. https://doi.org/10.1111/fwb.13085
Supplementary files