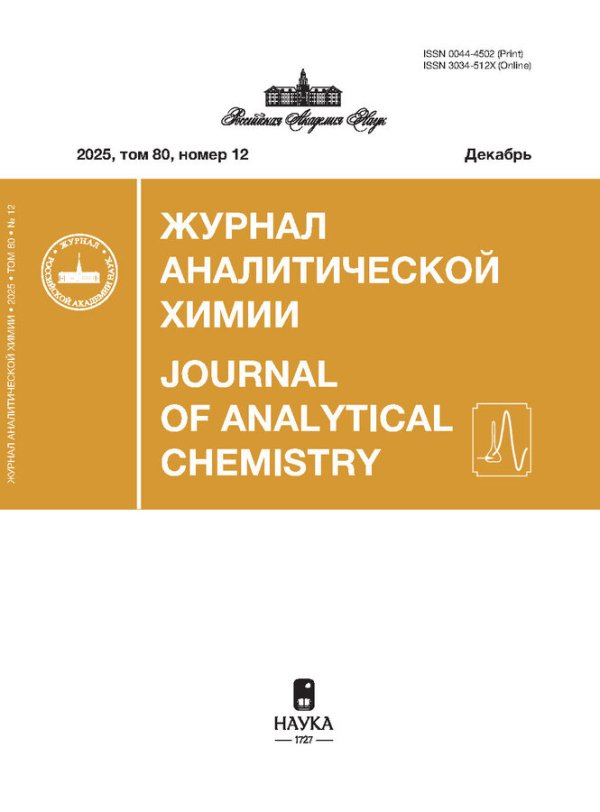Selection of internal standards for the determination of rare earth elements by atomic emission spectrometry with microwave plasma
- Authors: Kim P.V.1, Polyakova E.V.1,2, Nikolaev R.E.2
-
Affiliations:
- Novosibirsk National Research State University
- Nikolaev Institute of Inorganic Chemistry, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 79, No 5 (2024)
- Pages: 515-523
- Section: ORIGINAL ARTICLES
- Submitted: 09.12.2024
- Accepted: 09.12.2024
- URL: https://journal-vniispk.ru/0044-4502/article/view/272528
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044450224050104
- EDN: https://elibrary.ru/upejkd
- ID: 272528
Cite item
Full Text
Abstract
The method of atomic emission spectrometry with excitation spectra in microwave plasma was used to determine the composition of lanthanum sulfide crystals and europium-doped gadolinium oxide, as well as elements in the melt (tin, boron, and lithium). Calibration curves for rare earth elements are nonlinear and do not provide the required accuracy of analysis. To reduce errors and linearize the calibration curves, the internal standard method was used. Molecular ions N2, N2+ and OH did not correct for changes in plasma conditions and inter-element effects. Internal standard elements were selected based on the proximity of the first ionization potential to the analytes, considering Ba, Al, Ga, and In. The use of these elements as internal standards allowed the linearization of calibration curves, achieving an analytical accuracy of 95−105%. The found total mass of the elements was 97−103% of the sample mass, with accuracy confirmed by the method of standard additions.
Keywords
Full Text
Атомно-эмиссионная спектрометрия с микроволновой азотной плазмой (АЭС–МП) в последнее время получает все большее признание и распространение среди химиков-аналитиков. Широкий круг решаемых при помощи этого метода задач отражен в вышедших недавно обзорах [1–3]. Учитывая выраженные матричные эффекты, присущие АЭС–МП [4–7], перспективным является анализ объектов, имеющих несложный состав. К таким объектам можно отнести неорганические вещества, в которых необходимо определять основные элементы. Таким образом, задача сводится к определению нескольких элементов в более или менее предсказуемом диапазоне концентраций.
Кристаллы соединений редкоземельных элементов (РЗЭ) обладают оптическими, магнитными, термоэлектрическими свойствами. При выборе условий их роста возникает необходимость контролировать не только элементы основного состав, но и элементы-допанты или элементы расплава. Сульфид лантана La2S3 выращивают из расплава сульфида олова с испарением растворителя. В зависимости от содержания олова в кристалле может происходить понижение температуры фазового перехода сульфида лантана из β-модификации в высокотемпературную γ-модификацию, которая обладает перспективными оптическими, структурными, магнитными и термоэлектрическими свойствами [8, 9]. Кристаллы оксида гадолиния, допированного европием, выращивают путем растворения смеси порошков оксида гадолиния (Gd2O3) и оксида европия (Eu2O3) [10, 11] в литий-гадолиниевом борате Li6Gd(BO3)3, выступающем в качестве растворителя, который впоследствии испаряется. Присутствие европия обусловливает использование допированного оксида гадолиния для преобразования УФ- и ИК-излучения в видимый свет [12].
Традиционно для определения стехиометрии соединений используют рентгеноспектральный анализ [13, 14] или одноэлементные методы [15]. Между тем в литературе есть упоминания об использовании многоэлементного метода атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой для определения основного состава материалов [16–19]. Основной целью аналитика при определении стехиометрического состава является снижение погрешности анализа. Этого достигают использованием представительной навески, выбором линий с минимальным дрейфом, использованием внутренних стандартов и др. В АЭС–МП редкоземельные элементы определяют в основном в качестве примесей в геологических объектах[20–22].
Известно, что некоторые элементы в АЭС–МП демонстрируют ограниченный диапазон линейности в координатах интенсивность/концентрация, в частности, к ним относятся и РЗЭ. В качестве примера на рис. 1 приведены зависимости интенсивности различных линий лантана от его концентрации в диапазоне 3–100 мг/л. Видно, что они имеют S-образный вид (рис. 1а) и не аппроксимируются удовлетворительно ни в прямых, ни в логарифмических координатах (рис. 1б), чаще всего предлагаемых программным обеспечением (ПО) спектрометров. Таким образом, для аппроксимации с удовлетворительной точностью (R2 > 0.999) требуется использовать дополнительное ПО, что усложняет процедуру анализа.
Рис. 1. Зависимость интенсивности линий лантана от концентрации в прямых (а) и логарифмических (б) координатах. Уравнения аппроксимации приведены в том же порядке, что и линии в легенде.
В одной из наших предыдущих работ показано, что в приборах с типом волновода, сконструированным Хаммером (это наиболее распространенные на рынке приборы с МП), в присутствии элементов с невысокими потенциалами ионизации в концентрации до 0.2 мас. % происходит увеличение аналитических сигналов атомных и ионных линий с Евозб менее ~4 эВ [5]. Это явление нельзя объяснить только сдвигом ион-атомного равновесия или изменением заселенности уровней при изменении температуры. Хотя электронная плотность и атомная температура снижаются, они все еще находятся в пределах погрешности [5]. В работе [23] высказано предположение, что матричные эффекты в коммерчески доступных приборах АЭС–МП возникают, когда импеданс плазмы увеличивается, а мощность, выдаваемая магнетроном, не изменяется, что приводит к меньшему количеству доступной энергии. Таким образом, возникает необходимость учета возможных изменений условий в плазме. Наиболее перспективным, с нашей точки зрения, является использование метода внутреннего стандарта (ВС). Традиционно для АЭС–анализа ВС подбирают, исходя из близких энергетических характеристик, что обеспечивает одинаковые механизмы возбуждения линий. По данным об изменении интенсивностей сигналов различных элементов, представленных в предыдущих работах для АЭС-МП разных конструкций [5, 6], можно заключить, что в АЭС-МП матричный эффект зависит от первого потенциала ионизации матричного элемента (в отличие от индуктивно связанной плазмы, где все определяется вторым потенциалом ионизации, а также суммарной энергией аналитической линии), поэтому аналит и внутренний стандарт должны иметь близкие не только энергии возбуждения линий, но и потенциалы ионизации. Это существенно ограничивает возможности использования метода ВС в АЭС–МП в многоэлементном варианте, что также подтверждается небольшим количеством публикаций, успешно применяющих этот метод. Другой важный момент связан непосредственно со спектром плазмы. Спектр азотной плазмы имеет большое количество молекулярных линий в области до 400 нм, что затрудняет обработку спектра пробы. При регистрации спектров ПО корректирует спектры по спектру воды или контрольного раствора. При этом спектр в области линии ВС, введенной в холостой раствор, не корректируется, поэтому линии ВС должны иметь достаточную интенсивность и не иметь спектральных наложений молекулярных линий. Несомненно, РЗЭ могли бы быть лучшими ВС друг для друга, но их спектры достаточно сложны и трудно выделить линию, не требующую учета молекулярного фона.
Целью данной работы является подбор ВС для коррекции изменения условий и возможных межэлементных влияний, приводящих к увеличению сигналов РЗЭ, для определения основных элементов кристаллов РЗЭ (на примере сульфида лантана, легированного оловом, и оксида гадолиния, допированного европием), а также примесей элементов-растворителей (серы, лития, бора) с помощью АЭС–МП.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Оборудование и реактивы. Работа выполнена на атомно-эмиссионном спектрометре микроволновой плазмы Agilent 4100 MP-AES (Agilent Technologies, Австралия) с генератором азота 4107 Nitrogen Generator (Agilent Technologies, Австралия). Мощность плазмы составила 1 кВт (фиксирована), наблюдение аксиальное в “нулевом” положении. Использовали инертный распылитель One Neb и двухпроходную распылительную камеру циклонного типа. Время стабилизации плазмы составило 15 с, число параллельных измерений – 3. Давление азота в распылителе составило 140 кПа (для серы – 80 кПа).
Для приготовления базовых растворов (2 000 мг/л) использовали оксиды лантана (ГОСТ 48-194-81), гадолиния (ТУ 48-4-200-72) и европия (ТУ 48-4-523-90), борную кислоту (ТУ 6-09-595-82), карбонат лития (ТУ 6-09-3728-83) и металлическое олово (ГОСТ 860-75). В качестве источника серы использовали фиксанал серной кислоты 0.1 N (ТУ 2642-001-33813273-97). Для приготовления растворов внутренних стандартов (500 мг/л) использовали металлические индий (ГОСТ 10297-75), алюминий (ТУ 48-0533-058-91), галлий (ТУ 48-4-350-84), а также хлорид бария (ГОСТ 4108-72). Для растворения использовали ос. ч. азотную (ГОСТ 11125-84), соляную (ГОСТ 14261-77) кислоты, тридистиллированную воду.
Растворение кристаллов. Для исключения потерь серы в виде сероводорода использовали следующую схему: четыре фрагмента кристалла сульфида лантана массой несколько миллиграммов растворяли последовательно в 6 мл HNO3 (для окисления сульфид-ионов до сульфат-ионов), затем добавляли 4 мл HCl (для растворения оксида олова, который образовался при добавлении азотной кислоты), полученные растворы доводили до 50 мл тридистиллированной водой.
Фрагменты кристалла оксида гадолиния массой несколько миллиграммов растворяли в конц. HCl при нагревании, полученные растворы доводили до 50 мл тридистиллированной водой.
Выбор внутренних стандартов. Для коррекции по молекулярным ионам плазмы выбрали N2 (337.097 нм), (391.439 нм) и OH (308.970 нм) [23]. Близкие по потенциалам ионизации и имеющие простые спектры Ba, Al, In, Ga выбрали в качестве потенциальных ВС для РЗЭ. Эмиссионные линии аналитов и ВС и их энергетические характеристики приведены в табл. 1. Для оценки пригодности коррекции по той или иной линии готовили серию растворов для построения градуировки (2–400 мг/л с добавлением 5 мг/л ВС или без него – для оценки молекулярных ионов), а также пять модельных растворов, охватывающих весь градуировочный диапазон с иными соотношениями элементов. Пару линий аналит/ВС считали пригодной для использования, если аналитическая открываемость во всех модельных растворах составляла 95–105%. Каждый эксперимент проводили дважды.
Таблица 1. Энергетические характеристики линий аналитов и внутренних стандартов
Элемент | λ, нм | Еион, эВ | Евозб, эВ |
Аналиты | |||
La | 394.910 (II) | 5.58 | 3.54 |
408.672 (II) | 3.03 | ||
412.323 (II) | 3.32 | ||
433.374 (II) | 3.03 | ||
Sn | 283.999 (I) | 7.34 | 4.78 |
286.333 (I) | 4.32 | ||
303.412 (I) | 4.30 | ||
317.505 (I) | 4.33 | ||
S | 180.669 (I) | 10.36 | 6.86 |
181.972 (I) | 6.86 | ||
182.562 (I) | 6.86 | ||
328.830 (II) | 3.77 | ||
330.241 (II) | 3.77 | ||
Gd | 342.247 (II) | 6.14 | 3.86 |
376.839 (II) | 3.36 | ||
379.637 (I) | 3.29 | ||
385.097 (II) | 3.22 | ||
Eu | 381.967 (II) | 5.67 | 3.24 |
390.710 (II) | 3.37 | ||
393.048 (II) | 3.36 | ||
412.973 (II) | 3.00 | ||
B | 249.677 (I) | 8.30 | 4.96 |
249.772 (I) | 4.96 | ||
Li | 610.365 (I) | 5.39 | 3.87 |
670.764 (I) | 1.85 | ||
Внутренние стандарты | |||
Ba | 455.403 (II) | 5.21 | 2.72 |
493.408 (II) | 2.51 | ||
553.548 (I) | 2.24 | ||
614.171 (II) | 2.72 | ||
Al | 394.401 (I) | 5.98 | 3.14 |
396.152 (I) | 3.14 | ||
Ga | 294.364 (I) | 6.00 | 4.31 |
403.299 (I) | 3.07 | ||
417.204 (I) | 3.07 | ||
In | 325.608 (I) | 5.79 | 4.08 |
410.176 (I) | 3.02 | ||
451.131 (I) | 3.02 | ||
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Использование молекулярных ионов плазмы как внутренних стандартов. Авторы работы [23] показали, что интенсивность молекулярных ионов OH зависит от скорости подачи раствора, т. е. может служить индикатором изменения транспорта раствора. Азотные ионы отражают энергетическую емкость плазмы. Проведенные нами эксперименты с использованием молекулярных ионов показали, что удовлетворительная открываемость (95–105%) наблюдается для серы (180.669, 181.972 нм), олова (283.999, 286.333, 317.505 нм) и бора (249.772 нм) в отсутствие коррекции (данные не приведены). Открываемость для лантана, гадолиния, европия и лития составила 92–120%. Коррекция с использованием линий N2, и OH не улучшила открываемость для изученных аналитов, только в случае коррекции сигнала бора по азотным ионам открываемость не ухудшилась. Таким образом, ни гидроксил-радикал, ни азотные ионы непригодны для коррекции изменения условий, приводящих к отклонению сигналов от линейной зависимости. Аналогично авторы работы [24] не смогли скорректировать влияние натрия на определение металлов и использовали адекватные образцы сравнения в сочетании с ВС, линии которого выбирали по энергии возбуждения.
Выбор элементов – внутренних стандартов. Аналогичные эксперименты провели с добавлением в растворы внутреннего стандарта. В этом случае число удовлетворительных результатов (аналитическая открываемость всех модельных растворов составила 95–105%) значительно увеличилось, выбранные пары линий приведены в табл. 2. При этом расхождение значений открываемости для одинаковых растворов в двух экспериментах составило до 5% (например, 99 и 102%).
Таблица 2. Выбранные пары линий аналит/внутренний стандарт
Элемент | λ, нм | ВС (λ, нм) | Элемент | λ, нм | ВС (λ, нм) |
La | 408.672 | Ba (455.403) | Eu | 381.967 | Ba (553.548) |
Ba (493.408) | 390.710 | Ba (455.403) | |||
Ba (614.171) | Ba (493.408) | ||||
In (410.176) | Ba (614.171) | ||||
In (451.131) | 393.048 | Ba (455.403) | |||
412.323 | Al (394.401) | Ba (493.408) | |||
Al (396.152) | Ba (614.171) | ||||
In (410.176) | Al (394.401) | ||||
In (451.131) | 412.973 | Ba (455.403) | |||
394.910 | In (410.176) | Ba (493.408) | |||
In (451.131) | Ba (614.171) | ||||
433.374 | In (410.176) | Li | 610.365 | Без ВС | |
In (451.131) | Ba (455.403) | ||||
Gd | 342.247 | Al (396.152) | Ba (493.408) | ||
Al (394.401) | Ba (553.548) | ||||
Ga (403.299) | 670.784 | Al (396.152) | |||
376.839 | Ba (455.403) | Ga (403.299) | |||
Ba (553.548) | Ga (417.204) | ||||
Ba (614.171) | Sn | 317.505 | В присутствии Ba, Al, In | ||
Al (394.401) | 286.333 | В присутствии In | |||
Al (396.152) | |||||
Ga (403.299) | B | 249.772 | Без ВС | ||
Ga (417.204) | |||||
379.637 | Al (394.401) | В присутствии Ga | |||
Al (396.152) | |||||
Ga (417.204) | Ga (294.364) | ||||
385.097 | Ba (553.548) | S | 180.669 | Без ВС | |
Ga (417.204) | 181.972 |
Как следует из табл. 1, Ba, In и Al являются наиболее близкими к La по энергетическим характеристикам. Для четырех линий лантана эти элементы подходят в качестве ВС, использование Ga (максимальная разница с La в энергиях ионизации) не позволяет добиться линейной аппроксимации и удовлетворительной открываемости. Для Gd ближе всего по энергии ионизации Al и Ga. Линии этих элементов показали наилучшие результаты аналитической открываемости при линейной аппроксимации. Использование Ba (табл. 2) для коррекции сигналов Gd впоследствии не дало положительных результатов при анализе реальных образцов. Для Eu наиболее подходящими ВС являются Ba, In и Al. Наилучшие результаты при линейной аппроксимации градуировочных зависимостей получаются при использовании Ba. Важно, что при использовании ВС градуировочные функции для РЗЭ линеаризуются (рис. 2). Это делает процедуру анализа удобной, так как позволяет использовать возможности ПО спектрометра (построение градуировочных графиков в логарифмических координатах встроенным ПО не предусмотрено), а также свидетельствует о том, что изменение интенсивности аналита и ВС происходит одинаковым образом.
Рис. 2. Градуировочные зависимости для определения РЗЭ и лития с рациональной аппроксимацией (без внутреннего стандарта) и с линейной аппроксимацией (с внутренним стандартом).
Выбранные ВС имеют Еион на 1–2 эВ ниже, чем у олова. Использование этих элементов не улучшает открываемости, поэтому олово следует определять по линиям Sn 317.505 или Sn 286.333 без применения ВС. Аналогично S и B следует определять без использования ВС (табл. 2). Кроме того, энергии возбуждения линий B, S и Sn составляют более 4 эВ и, скорее всего, возбуждаются иначе, чем более низкоэнергетические линии ВС. Несмотря на близкие значения энергии ионизации и линеаризацию градуировочных кривых, значения открываемости для Li составляют 85–115% при использовании Ba (вероятно, из-за малой интенсивности единственной атомной линии Ba 553.548). Как показано нами в работе [5], литий, обладающий низкими энергиями возбуждения линий (1.85 и 2.03 эВ), демонстрирует значительный положительный матричный эффект, особенно в присутствии элементов с невысокими потенциалами ионизации. Таким образом, для уменьшения матричного эффекта необходимо использовать более высокое разбавление при определении лития.
Анализ экспериментальных кристаллов. В выбранных условиях проанализировали фрагменты экспериментальных кристаллов сульфида лантана и бората лития–гадолиния. Правильность результатов проверяли методом введено–найдено. Значения аналитической открываемости составили 93–106% для выбранных аналитических линий (не приведены). Дополнительной величиной для контроля точности анализа служила найденная общая масса элементов. В табл. 3 приведены средние значения отношения (по четырем пробам) масс найденных элементов в кристалле к массе пробы. Для бората лития-гадолиния недостающую массу кислорода рассчитывали по стехиометрическому соотношению в оксидах отдельных элементов. Видно, что найденная масса элементов удовлетворительно согласуется с массой навески, т. е. систематическая погрешность мала по сравнению со случайной. Результаты анализа отдельных фрагментов кристаллов приведены в табл. 4 и 5. Результаты в отдельных фрагментах рассчитаны как средние по разным линиям элемента в присутствии соответствующего ВС. Для литий-гадолиниевого бората (табл. 5) для отдельных фрагментов также указаны доверительные интервалы, так как средние значения по некоторым элементам значительно различаются. Для определения большинства основных элементов погрешность анализа не превышает 5–7% (при этом погрешность единичного измерения не превышает 3%), что несколько выше требуемых 3–5%. Таким образом, основным источником погрешности является разброс результатов между разными фрагментами для Li и B, что может быть связано с недостаточно эффективной методикой выращивания кристаллов, приводящей к получению не монокристалла, вкладом растворителя на краевых фрагментах или с малой массой образца. Для точной оценки величины погрешности требуется проведение статистического эксперимента с качественными образцами большей массы.
Таблица 3. Отношение найденной суммарной массы элементов к массе навески (rm)
Характеристика | Сульфид лантана | Литий-гадолиниевый борат | |||
ВС | Ba | Al | In | Ba | Al |
rm | 0.97 | 1.02 | 1.06 | 1.02 | 1.01 |
Таблица 4. Найденное содержание элементов во фрагментах кристалла сульфида лантана, (ат.%)
Номер фрагмента/образца | ВС − Ba | ВС − Al | ВС − In | ||||||
La | Sn | S | La | Sn | S | La | Sn | S | |
1 | 35 | 1.8 | 64 | 37 | 1.7 | 62 | 37 | 1.8 | 61 |
2 | 33 | 2.1 | 65 | 36 | 2.0 | 62 | 37 | 2.0 | 61 |
3 | 36 | 2.4 | 62 | 37 | 2.3 | 61 | 39 | 2.5 | 58 |
4 | 36 | 3.3 | 61 | 37 | 3.1 | 60 | 38 | 3.5 | 59 |
Среднее | 35±2 | 2.4±1.0 | 63±3 | 37±1 | 2.3±1.0 | 61±1 | 38±2 | 2.4±1.3 | 60±2 |
Таблица 5. Найденное содержание элементов во фрагментах кристалла литий-гадолиниевого бората, (мас. %)
ВС | Li | B | Gd | Eu |
Без ВС | 0.022±0.007 | 0.033±0.001 | – | – |
0.023±0.006 | 0.033±0.007 | |||
0.011±0.002 | 1.8±0.1 | |||
0.078±0.002 | 1.2±0.1 | |||
Ba | 0.021±0.007 | – | 90±3 | 0.11±0.04 |
0.022±0.005 | 86±3 | 0.11±0.05 | ||
0.011±0.001 | 83±1 | 0.11±0.04 | ||
0.072±0.006 | 86±1 | 0.11±0.05 | ||
Al | – | – | 87±1 | 0.13±0.04 |
87±1 | – | |||
83±1 | – | |||
87±1 | 0.11±0.03 | |||
Ga | – | 0.033±0.001 | 90±3 | – |
0.025±0.001 | 90±3 | |||
1.9±0.1 | 85±2 | |||
1.2±0.1 | 85±3 |
* * *
Предложен подход к выбору внутренних стандартов в АЭС–МП для определения РЗЭ с нелинейными градуировочными зависимостями с концентрациями до 500–800 мг/л. Показано, что использование в качестве ВС молекулярных ионов плазмы неэффективно, в то время как выбор в качестве ВС элементов с близкими значениями энергий ионизации и возбуждения линий позволяет линеаризовать градуировочные зависимости и уменьшить систематическую погрешность анализа, связанную с матричным эффектом и возможными изменениями в плазме. Элементы с высокой энергией ионизации, такие как бор и сера, испытывают наименьшее влияние и могут быть определены без внутреннего стандарта, в то время как легко ионизируемые элементы (Li, La) испытывают наибольшее влияние.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 22-43-02079).
Авторы благодарят Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы данной работы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
About the authors
P. V. Kim
Novosibirsk National Research State University
Email: e.polyakova.niic@gmail.com
Russian Federation, 630090 Novosibirsk
E. V. Polyakova
Novosibirsk National Research State University; Nikolaev Institute of Inorganic Chemistry, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: e.polyakova.niic@gmail.com
Russian Federation, 630090 Novosibirsk; 630090 Novosibirsk
R. E. Nikolaev
Nikolaev Institute of Inorganic Chemistry, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Email: e.polyakova.niic@gmail.com
Russian Federation, 630090 Novosibirsk
References
- Balaram V. Microwave plasma atomic emission spectrometry (MP-AES) and its applications – A critical review // Microchem. J. 2020. V. 35. Article 105483.
- Müller A., Pozebon D., Dressler V.L. Advances of nitrogen microwave plasma for optical emission spectrometry and applications in elemental analysis: A review // J. Anal. At. Spectrom. 2020. V. 35. P. 2113.
- Williams C.B., Amais R.S., Fontoura B.M., Jones B.T., Nobrega J.A., Donati G.L. Recent developments in microwave-induced plasma optical emission spectro- metry and applications of a commercial Hammer-cavity instrument // Trends Anal. Chem. 2019. V. 116. P. 151.
- Zhang Z., Wagatsuma K. Spectrochim. Matrix effects of easily ionizable elements and nitric acid in highpower microwave-induced nitrogen plasma atomic emission spectrometry // Spectrochim. Acta B. 2002. V. 57. P. 1247.
- Polyakova E.V., Pelipasov O.V. Plasma molecular species and matrix effects in the Hummer cavity microwave induced plasma optical emission spectrometry // Spectrochim. Acta B. 2020. V. 173. Article 105988.
- Pelipasov O.V., Polyakova E.V. Matrix effects in atmospheric pressure nitrogen microwave induced plasma optical emission spectrometry // J. Anal. At. Spectrom. 2020. V. 35. P. 1389.
- Serrano R., Grindlay G., Gras L., Mora J. Evaluation of calcium-, carbon- and sulfur-based non-spectral interferences in high-power MIP-OES: comparison with ICP-OES // J. Anal. At. Spectrom. 2019. V. 34. P. 1611.
- Kamarzin A.A., Mironov K.E., Sokolov V.V., Malovitsky Yu.N., Vasil’yeva I.G. Growth and properties of lantanum and rare-earth metal sesquisulfide crystals // J. Cryst. Growth. 1981. V. 52. P. 619.
- Николаев Р.Е., Черновол А.М., Цыганкова А.Р. Изучение системы Nd2S3–SnS и твердого раствора γ-Nd9.5Sn1.8S16 // Неорг. материалы. 2015. Т. 51, С. 126. (Nikolaev R.E., Chernovol A.M., Tsygankova A.R. Study of the Nd2S3–SnS system and γ-Nd9.5Sn1.8S16 so-lid solution // Inorg. Mater. 2015. V. 51. P. 88.)
- Veber P., Velazquez M., Jubera V., Pechev S., Viraphong O. Flux growth of Yb3+-doped RE2O3 (RE = Y, Lu) single crystals at half their melting point temperature // CrystEngComm. 2011. V. 13. P. 5220.
- Veber P., Velázquez M., Gadret G., Rytz D., Peltz M., Decourt R. Flux growth at 1230 °C of cubic Tb2O3 single crystals and characterization of their optical and magnetic properties // CrystEngComm. 2015. V. 17. P. 492.
- Priya R., Pandey O. P., Dhoble S. J. Review on the synthesis, structural and photo-physical properties of Gd2O3 phosphors for various luminescent applications // Opt. Laser Technol. 2021. V. 135. Article 106663.
- Mosqueda Y., Pérez-Cappe E., Ruiz-Hitzky E., Aranda P. Preparation of an Li0.7Ni0.8Co0.2O2 electrode material from a new Li–Co–Ni mixed-citrate precursor // Eur. J. Inorg. Chem. 2005. V. 13. P. 2698.
- Mosqueda Y., Pérez-Cappe E., Arana E., Longo P., Aranda P., Ruiz-Hitzky E. Preparation and characterization of LiNi0.8Co0.2O2/PANI microcomposite electrode materials under assisted ultrasonic irradiation // J. Solid State Chem. 2006. V. 179. P. 308.
- Grosman O., Turanov A.N. Spectrophotometric multi-component determination of yttrium, barium and copper in microsamples of YBa2Cu3Ox ceramics with non-additive behaviour of analytes. // Anal. Chim. Acta. 1992. V. 257. P. 195.
- Tagle M. V., Pozebon D., García R.H., Piñar F.C., Rodríguez M.D.D., Alfonso M.P. Methodology for the determination of stoichiometry and metal impurities in new PZT ceramics by inductively coupled plasma optical spectrometry (ICP OES) // Spectrosc. Lett. 2011. V. 44. P. 138.
- Mosqueda Y., Pomares M., Pérez-Cappe E.L., Miranda A., Fariñas J. C., Larrea M. T. Determination of major, minor and trace elements in cobalt-substituted lithium nickelate ceramic powders by inductively coupled plasma optical emission spectrometry // Anal. Bioanal. Chem. 2006. V. 386. P. 1855.
- Kucharkowski R., Vogt C. Simultaneous ICP atomic emission spectrometry for accurate stoichiometric determination: Application to a YNi2B2C superconducting material system // J. Anal. At. Spectrom. 2002. V. 17. P. 263.
- Kucharkowski R., Vogt C., Marquardt D. Accurate and precise spectrochemical analysis of Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O high-temperature superconductor materials // Fresenius J. Anal. Chem. 2000. V. 366. P. 146.
- Varbanova E., Stefanova V. A comparative study of inductively coupled plasma optical emission spectro-metry and microwave plasma atomic emission spectrometry for the direct determination of lanthanides in water and environmental samples // J. Int. Sci. Publ.: Ecol. Saf. 2015. V. 9. P. 362.
- Whitty-Léveillé L., Turgeon K., Bazin C., Larivière D. A comparative study of sample dissolution techniques and plasma-based instruments for the precise and accurate quantification of REEs in mineral matrices // Anal. Chim. Acta. 2017. V. 961. P. 33.
- Helmeczi E., Wang Y., Brindle I.D. A novel methodo-logy for rapid digestion of rare earth element ores and determination by microwave plasma-atomic emission spectrometry and dynamic reaction cell-inductively coupled plasma-mass spectrometry // Talanta. 2016. V. 160. P. 521.
- Williams C.B., Jones B.T., Donati G.L. Naturally occurring molecular species used for plasma diagnostics and signal correction in microwave-induced plasma optical emission spectrometry // J. Anal. At. Spectrom. 2018. V. 33. P. 1224.
- Serrano R., Anticó E., Grindlay G., Gras L., Fontàs C. Determination of elemental bioavailability in soils and sediments by microwave induced plasma optical emission spectrometry (MIP-OES): Matrix effects and calibration strategies // Talanta. 2022. V. 240. Article 123166.
Supplementary files