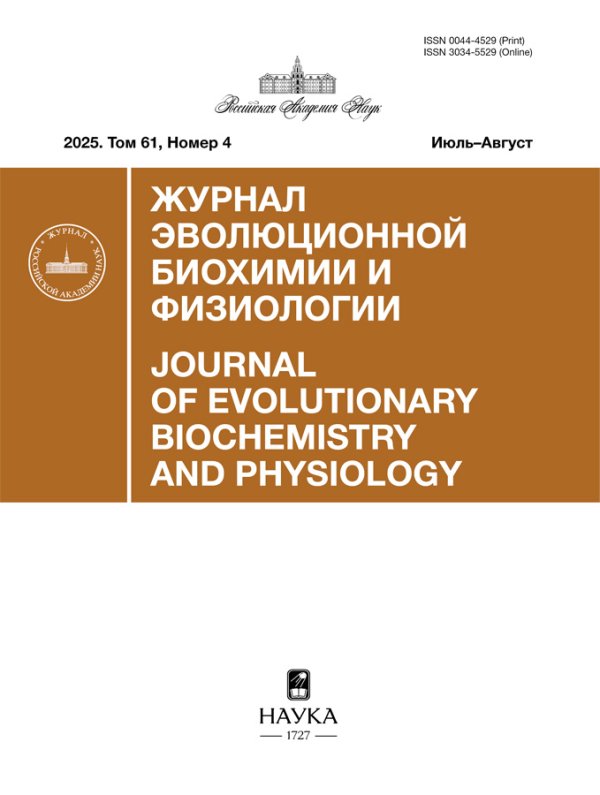Механизмы вовлечения моноаминоксидазы в развитие гипербарических кислородных судорог
- Авторы: Жиляев С.Ю.1, Басова И.Н.1, Платонова Т.Ф.1, Алексеева О.С.1, Гавришева Н.А.2, Демченко И.Т.1
-
Учреждения:
- Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН
- Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова
- Выпуск: Том 60, № 5 (2024)
- Страницы: 526-534
- Раздел: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
- URL: https://journal-vniispk.ru/0044-4529/article/view/273072
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044452924050069
- EDN: https://elibrary.ru/XPEPWU
- ID: 273072
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Дыхание гипербарическим кислородом (ГБО2) вызывает генерализованные тонические и клонические судороги, механизмы возникновения которых недостаточно изучены. Целью настоящей работы являлось исследование механизмов вовлечения моноаминоксидазы (МАО) в развитие гипербарических кислородных судорог. У крыс, находящихся в барокамере под давлением кислорода 5 АТА, анализировали судорожные реакции после введения пиразидола — ингибитора МАО-А и паргилина — ингибитора МАО-Б. Исследования показали снижение активности МАО-изоформ в ГБО2, а также задержку развития судорог у животных при ингибировании МАО-А и МАО-Б. Уровень ГАМК в мозге понижался при ГБО2, а ингибирование МАО-Б с помощью паргилина предотвращало снижение содержания тормозного медиатора. Полученные результаты свидетельствуют о том, что МАО-изоформы играют важную роль в регулировании эпилептогенеза при экстремальной гипероксии. Гипербарический кислород, ингибируя каталитическую активность МАО путем трансформации ее молекулярной структуры, приводит к нарушению регуляции обмена моноаминовых нейротрансмиттеров и понижению уровня ГАМК в мозге, что в совокупности ведет к дисбалансу процессов возбуждения/торможения в ЦНС, лежащему в основе патогенеза кислородной эпилепсии.
Ключевые слова
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Дыхание кислородом под давлением (гипербарический кислород, ГБО2) используется в оксигенобаротерапии для лечения многих заболеваний, а также акванавтами и водолазами для выполнения различных экономических и военных задач. Несмотря на относительную безопасность, использование сжатого кислорода сопряжено с риском его токсического действия на ЦНС, которое проявляется в виде эпилептиформных паттернов на электроэнцефалограмме (ЭЭГ) и тонико-клонических моторных судорог, напоминающих генерализованный эпилептический припадок. Многолетние исследования судорожной активности мозга в ГБО2, получившей название «кислородная эпилепсия» [1], до сих пор не привели к пониманию ее патогенеза. Одним из признаков развития гипероксических судорог является высокая активность периферического отдела симпатической нервной системы, которая сопровождается острой гипертензией с нарушением сердечной и легочной функций [2–4]. Гиперактивность симпатической нервной системы в ГБО2 предшествует появлению судорог, что допускает их причинно-следственную связь. Адренорецепторы головного мозга, как часть центральной адренергической системы, причастны в гиперактивации симпатической нервной системы и влияют на развитие гипербарических кислородных судорог. Доказательством этому служит тот факт, что введение в мозговой желудочек крысы неселективных и селективных антагонистов α- и β-норадренорецепторов (пропранолол, атенолол, фентоламин и празозин), модифицирует сердечно-сосудистые реакции, а пропранолол, кроме того, эффективно предотвращает развитие судорожного синдрома, увеличивая более чем в 2 раза латентный период появления гипероксических судорог [4–5]. Совокупность представленных данных позволяет высказать предположение об участии норадренергической системы в развитии судорожной активности мозга при дыхании гипербарическим кислородом.
Ключевая роль в функционировании норадренергической передачи в мозге принадлежит моноаминоксидазе (МАО), которая осуществляет катаболизм моноаминовых нейромедиаторов посредством их окислительного дезаминирования. МАО поддерживает постоянство концентраций эндогенных моноаминов синаптической передачи в головном мозге. Локализованная в митохондриях, МАО существует в двух функциональных формах: МАО-А и МАО-Б. По своему строению обе изоформы белка сходны между собой, их аминокислотные последовательности совпадают примерно на 70%. Оба типа МАО в большом количестве найдены в нейронах и глиальных клетках головного мозга. Изоформы МАО различаются по своим функциям, каждая из них проявляет преимущественное сродство к субстратам и специфичность к ингибиторам [6–7]. По отношению к биогенным аминам, МАО-А предпочтительно метаболизирует серотонин, норадреналин и адреналин, тогда как МАО-Б преимущественно дезаминирует фенилэтиламин. Дофамин рассматривается как смешанный субстрат, который окисляется с помощью МАО-А в мозге крыс, но с участием МАО-Б в мозге человека [8].
Предположение о причастности МАО к ГБО2-опосредованным судорогам высказывалась ранее и при этом рассматривались три потенциальных механизма вовлечения фермента в развитие судорожного процесса. Согласно этим гипотетическим механизмам, МАО вовлекается в развитие гипероксических судорог за счет: (а) повышения содержания в мозге перекиси водорода, являющейся конечным продуктом дезаминирования моноаминовых нейромедиаторов и обладающей просудорожным действием [9]; (б) МАО-опосредованных изменений уровня катехоламинов в мозге, приводящих к нарушениями нервной передачи, проявляющейся в активации периферического и центрального отделов адренергической системы в ГБО2 [4, 10]; (в) влияния МАО на метаболизм ГАМК [11–12]. Все названные механизмы вовлечения МАО в развитие ГБО2-опосредованных судорог обосновывались косвенными данными и их валидность до сих пор остается недоказанной.
Целью настоящей работы являлся экспериментальный анализ трех вышеизложенных потенциальных механизмов вовлечения МАО в развитие гипероксических судорог. В рамках поставленной цели оценивали каталитическую активность двух изоформ МАО при введении пиразидола и паргилина, а также динамику мозговой ГАМК у животных в барокамере под давлением 5 АТА. Пиразидол (пирлиндол) является селективным обратимым ингибитором МАО-А. Активность этой изоформы фермента восстанавливается в течение нескольких часов после использования ингибитора. Пиразидол ингибирует активность МАО-А и блокирует пути метаболического разрушения нейромедиаторов норадренергической системы мозга, что препятствует нормальной терминации их медиаторного действия и ведет к возрастанию функциональной активности симпатоадреналовой системы [13]. Паргилин является необратимым селективным ингибитором МАО-Б (IC50 для МАО-А составляет 0.01152 мкмоль/л, а для МАО-Б — 0.00820 мкмоль/л). МАО-Б преимущественно дезаминирует фенилэтиламин, но принимает также участие в окислительном дезаминировании катехоламинов, таких, как норадреналин и дофамин, в пресинаптических нервных окончаниях. Ингибируя катаболизм этих биогенных аминов в головном мозге, паргилин увеличивает их синаптическую концентрацию и связывание с постсинаптическими рецепторами.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В опытах использовали крыс линии Wistar массой 265–295 г, закупленных в питомнике лабораторных животных «Рапполово» (Всеволожский район, Ленинградская область).
Эксперименты выполнены на бодрствующих и наркотизированных животных в барокамере, заполненной кислородом под давлением 5 АТА (атмосфер абсолютных). В первой серии опытов использовали интактных (не оперированных) крыс, которым за 30 мин до компрессии кислородом вводили внутрибрюшинно физиологический раствор (контрольная группа), пиразидол (Фармстандарт-Лексредства, Москва, Россия) в дозе 10, 25, 100 мг/кг или паргилин (Pargyline hydrochloride, Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, USA) в дозе 25 мг/кг. Препараты растворяли в физиологическом растворе и вводили в объеме 1.0 мл на животное. Через 30 мин после инъекции крыс помещали в кислородную барокамеру объемом 100 литров по четыре животных в каждом опыте. Повышение давления кислорода в камере до 5 АТА в опытах осуществляли со скоростью 1 АТА/мин. Температуру в камере поддерживали в пределах 23–25°С, влажность около 60%, содержание СО2 не превышало 0.05%. Экспозиция крыс в ГБО2 продолжалась до появления выраженных тонических или клонических судорог, а при их отсутствии — максимально до 90 мин.
У интактных животных после 4-минутной декомпрессии извлекали головной мозг, согласно утвержденному протоколу, выделяли теменную кору, стриатум и гипоталамус, в которых измеряли активность моноаминоксидазы. Для этого использовали фрагменты митохондриальных мембран каждого из трех отделов головного мозга крыс, частично очищенных от балластного белка посредством их экстракции в 0.0075 М калий-фосфатном буфере, рН = 7.4. Содержание белка в ферментных препаратах определяли по методу Лоури [14]. Активность МАО определяли спектрофотометрическим методом при длине волны 440 нм по количеству аммиака, образующегося в результате ферментативной реакции окислительного дезаминирования субстрата (норадреналина), по модифицированному методу Конвея с последующей несслеризацией [15–16]. Анализируемые пробы (конечный объем 2.5 мл) содержали 1 мг/мл митохондриального белка, 0.01 М фосфатного буфера, рН = 7.4 и норадреналина гидротартрата в форме моногидрата (концентрации 4.010–4 М). В опытах с введением паргилина (25 мг/кг) активность МАО определяли в теменной коре крыс аналогичным предыдущему методом, используя спектрофотометрическое измерение активности фермента по количеству аммиака, образующегося в результате дезаминирования субстрата (норадреналин) и подробно изложенного в работе [17].
Во второй серии опытов использовали крыс, которым под наркозом (в расчете на 100 гр. массы животного): золетил 0.3 мг в/м, ксилазин 0.8 мг в/м, атропина сульфат 0.1 % раствор — 0.01 мл п/к, в стриатум мозга имплантировали платиновые электроды диаметров 150 мкм согласно стереотаксическим координатам (АР = + 1.0 мм, L = 2.5 мм, D = 6.7 мм) по атласу [18]. Платиновые электроды использовались для измерений кровотока методом водородного клиренса [19]. Через 7 дней после операции, животным за 30 мин до кислородной экспозиции внутрибрюшинно вводили физраствор (контрольная группа), пиразидол (25 мг/кг) или паргилин (25 мг/кг). Через 30 мин после инъекции крыс помещали в кислородную барокамеру объемом 100 литров по одному оперированному животному в каждом опыте. Параметры ГБО2-экспозиции были такими же, как и в первой серии опытов. Экспозиция крыс в ГБО2 продолжалась до появления выраженных тонико-клонических судорог, а при их отсутствии — максимально до 90 мин.
В третьей серии опытов измеряли содержание внеклеточной ГАМК в стриатуме крыс, находящихся в барокамере под давлением кислорода 5 АТА. Для этого наркотизированным животным (уретан 750 мг/кг + хлоралоза 250 мг/кг, внутрибрюшинно) в стриатум (координаты такие же, как для измерения кровотока) вводили микродиализные канюли (CMA/11, CMA/Microdialysis AB, Швеция). Во время ГБО2-экспозиции канюли перфузировали искусственным ликвором со скоростью 1.0 мкл/мин, а пробы диализата обьемом 15 мкл автоматически отбирали каждые 15 мин (CMA 142 Microfraction Collector, AB, Швеция). Биоэлектрическую активность коры мозга (ЭКоГ) у наркотизированных животных в ГБО2 регистрировали с помощью винтов из нержавеющей стали диаметром 2.4 мм. Один винт вводили через отверстие в теменной кости черепа до соприкосновения с твердой мозговой оболочкой, а другой, индифферентный, — в лобную пазуху. Для регистрации ЭКоГ использовали измерительный комплекс с вычислением спектральных характеристик биоэлектрического процесса (LabView 2, iWORK, CA, США. Появление судорожной активности мозга оценивали по наличию повторяющихся комплексных спайков.
Измерения ГАМК в пробах диализата проводили с помощью высокопроизводительной жидкостной хроматографии (HPLC) с электрохимической детекцией ГАМК в диализате (ESA model 5100A). Содержание ГАМК в пробах диализата определяли в мкмоль/л по калибровочным стандартам. Параметры ГБО2-экспозиции были такими же, как и в двух первых сериях опытов.
Всего в исследованиях было использовано 75 животных, разделенных на 12 групп. В первой серии опытов использовано 42 крыс, разделенных на 6 групп. Животных первой группы (n = 7) с интактной МАО подвергали действию гипербарического кислорода 5 АТА после внутрибрюшинного введения физраствора (контрольная группа). За 30 мин до ГБО2-экспозиции крысам второй (n = 7), третьей (n = 7) и четвертой групп (n = 7) внутрибрюшинно вводили пиразидол в дозах 10, 25 и 100 мг/кг соответственно, а животным пятой группы (n = 7) вводили паргилин в дозе 25 мг/кг. Крысам шестой группы (n = 7) вводили пропранолол (5 мг/кг) с последующей экспозицией под давлением кислорода 5 АТА.
Во второй серии опытов с вживленными электродами использовали 21 животное, разделенные на 3 группы. Кровоток в стриатуме под давлением кислорода 5 АТА измеряли без введения препаратов (группа 7, n = 7), а в группах 8 (n = 7) и 9 (n = 7) после введения пиразидола в дозе 25 мг/кг и паргилина в дозе 25 мг/кг, соответственно, с последующей экспозицией в ГБО2.
В третьей серии опытов использовано 12 животных, у которых ГАМК в стриатуме измеряли при дыхании воздухом в течении 75 мин (группа 10, n = 3), в барокамере под давлением кислорода 5 АТА (группа 11, n = 4) и в группе крыс (группа 12, n = 5), которым за 30 мин до ГБО2-экспозиции внутрибрюшинно вводили паргилин (25 мг/кг).
Для статистического анализа с применением программы SigmaPlot 13.0 (Systat Software, Inc., San Jose, CШA) использовали значения латентного периода появления гипероксических судорог, а также величины каталитической активности МАО и мозгового кровотока. Однофакторный дисперсионный анализ применяли для сравнения латентных периодов судорожных реакций у животных первой серии опытов. Двухфакторный дисперсионный анализ использовали для определения эффектов ГБО2 и МАО-ингибиторов на мозговой кровоток. Для выявления достоверности отличий использовали парный t–критерий с поправкой Бонферрони для множественных сравнений. Все данные представлены как М ± SЕМ, статистически значимые изменения принимались при уровне р < 0.05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Моторные проявления гипероксических судорог
У животных, которым не вводили препараты, в период ГБО2 появлялись характерные двигательные нарушения, разделенные нами на 4 стадии в соответствии с известной шкалой интенсивности судорожной активности [20]. В первые 10–15 мин гипероксической экспозиции животные оставались неподвижными, затем у них появлялся интенсивный груминг, единичные встряхивания головы и передних лап (стадия 1). Стадия 2 характеризовалась усиливающимися сокращениями мышц головы и передних конечностей продолжительностью 3–15 сек с последующим повторением. На стадии 3 у животных появлялись сокращения мышц всего тела продолжительностью до 20 сек, при этом животные вставали на задние лапы и пятились назад. На стадии 4 у крыс развивались генерализованные клонические или тонические судороги, которые сопровождались острыми нарушениями сердечной деятельности и внешнего дыхания.
Стадийное развитие судорожного синдрома в ГБО2 сохранялось у животных, которым предварительно вводили пиразидол или паргилин. При введении пиразидола в дозе 10, 25 и 100 мг/кг латентный период развития 4-й стадии судорожного синдрома максимально удлинялся по сравнению с таковым для контрольных животных при дозе 25 мг/кг (рис. 1а). Паргилин в дозе 25 мг/кг также статистически значимо увеличивал время появления судорог по сравнению с контрольной группой животных. Противосудорожная активность обоих ингибиторов, введенных в равных дозах, была одинаковой. Введение пропранолола максимально предотвращало развитие гипербарических кислородных судорог (рис. 1b).
Рис. 1. Латентный период развития 4-й стадии судорог у крыс при дыхании кислородом под давлением 5 АТА после введения ингибиторов МАО: (a) — после введения различных доз пиразидола (мг/кг), * p < 0.05 по отношению к контролю (введение физраствора); (b) –при введении пиразидола (25 мг/кг), паргилина (25 мг/кг), пропранолола (5 мг/кг). * p < 0.05 по отношению к ГБО2, # p < 0.05 по отношению к пиразидолу и паргилину
Влияние пиразидола и паргилина на активность МАО
У контрольной группы крыс кислород под давлением 5 АТА достоверно понижал активность МАО (субстрат норадреналин) в коре и гипоталамусе, но повышал в стриатуме. У животных с предварительным введением пиразидола в дозе 10 или 25 мг/кг и последующей экспозицией в ГБО2 было выявлено дальнейшее снижение активности МАО во всех трёх структурах (р < 0.05). При увеличении дозы препарата до 100 мг/кг отмечали снижение активности МАО в коре, тогда как в стриатуме и гипоталамусе активность фермента уменьшалась недостоверно по отношению к значениям, измеренным при дыхании воздухом (рис. 2). Активность МАО в теменной коре крыс при введении паргилина и экспозиции животных в кислороде под давлением 5 АТА понижалась примерно на 30% и составляла в среднем 69 ± 4.8% по отношению к контролю.
Рис. 2. Изменение активности МАО в структурах мозга крыс после их экспозиции в гипербарическом кислороде под давлением 5 АТА с предварительным введением различных доз пиразидола. *р < 0.05 по отношению к активности МАО при дыхании воздухом (пунктирная линия)
Мозговой кровоток при ингибировании МАО
Абсолютная величина кровотока в стриатуме головного мозга крыс при дыхании воздухом составляла 81 ± 6.3 мл/мин/100 г мозга. Введение пиразидола этим животным вызывало понижение кровотока в стриатуме на 5–13 % в ходе 60-минутных измерений. Во время ГБО2-экспозиции наблюдались фазные изменения кровотока в стриатуме: понижение в первые 30 мин с последующим повышением перед появлением генерализованных судорог (рис. 3). В группе животных, которым вводили пиразидол в дозе 25 мг/кг с последующей экспозицией в барокамере под повышенным давлением кислорода, наблюдалась только первая фаза снижения кровотока, а церебральная гиперемия не проявлялась. Предварительное введение паргилина в дозе 25 мг/кг также предотвращало развитие гиперемии в мозге животных во время ГБО2-экспозиции (рис. 3).
Рис. 3. Изменение кровотока в стриатуме крыс при дыхании кислородом под давлением 5 АТА после введения паргилина (25 мг/кг) и пиразидола (25 мг/кг). *р < 0.05 по отношению к кровотоку при дыхании воздухом (пунктирная линия)
У наркотизированных животных моторных судорожных проявлений в ГБО2 не наблюдалось, но на ЭКоГ появлялись повторяющиеся эпилептиформные спайки через 67 ± 7.7 мин после начала кислородной экспозиции при давлении 5 АТА. Относительные значения мощностей для дельта- и тета-частотных диапазонов ЭКог возрастали на 35 и 78 % соответственно по отношению к контрольным величинам.
Концентрация ГАМК в стриатуме наркотизированных крыс при дыхании атмосферным воздухом составляла 0.073 ± 0.068 мкмоль/л. Контрольный уровень ГАМК сохранялся на протяжении 75 мин измерений. У животных в ГБО2 с интактной МАО уровень ГАМК постепенно понижался, достигая величины 42 ± 8.3% от контрольного значения при дыхании воздухом. После внутрибрюшинного введения крысам паргилина в дозе 25 мг/кг с последующей их экспозицией в ГБО2 уровень внеклеточной ГАМК в стриатуме приближался к значениям, полученным при дыхании воздухом (рис. 4).
Рис. 4. Влияние иигибирования МАО-В с помощью паргилина (25 мг/кг) на содержание ГАМК в стриатуме крыс при дыхании гипербарическим кислородом. *р < 0.05 по отношению к значениям ГАМК при дыхании воздухом (пунктирная линия)
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В настоящей работе получены новые данные, указывающие на причастность МАО к развитию судорожной активности головного мозга в условиях гипербарической гипероксии. В частности, установлено, что дыхание кислородом под давлением 5 АТА приводило к развитию судорог и разнонаправленным изменениям активности МАО в мозге крыс: достоверному снижение в коре и гипоталамусе, и повышению в стриатуме. Далее, при ингибировании МАО-А с помощью пиразидола или МАО-В с помощью паргилина активность фермента понижалась во всех исследуемых мозговых структурах, а развитие судорог заметно ослаблялось. И еще, у животных в ГБО2 мозговая ГАМК понижалась, а при ингибировании МАО с помощью паргилина внеклеточная ГАМК в стриатуме оставалась на уровне контрольных значений.
Полученные результаты позволяют провести валидацию обсуждаемых в литературе механизмов вовлечения МАО в развитие ГБО2-опосредованной судорожной активности головного мозга. Один их таких механизмов связывается с изменениями активности МАО в гипероксической среде. Выявленное в настоящей работе понижение активности фермента в коре и гипоталамусе после пребывания животных в ГБО2 согласуется с результатами другого исследования, показавшего понижение активности МАО в митохондриальной фракции целого мозга крыс после их экспозиции в гипербарическом кислороде [11]. Вместе с тем, в настоящей работе одновременно со снижением активности МАО выявлено повышение каталитических свойств фермента в стриатуме мозга крыс после их пребывания в гипероксической среде под давлением 5 АТА. Основываясь на этих данных логично допустить, что появление гипероксических судорог зависит от направленности изменений активности МАО в определенных мозговых структурах. Системное ингибирование фермента с помощью пиразидола или паргилина перед ГБО2-экспозицией приводило к понижению активности МАО во всех исследуемых структурах мозга и замедляло появление судорог, Это означает, что умеренное снижение активности МАО в ГБО2 напрямую не является причиной развития гипероксических судорог или, по меньшей мере, пониженного уровня активности фермента недостаточно для их развития. При этом следует отметить, что противосудорожные эффекты пиразидола и паргилина одинаковы, когда ингибиторы сравнивались в равных дозах, а для оценки активности фермента в обоих случаях использовали норадреналин. Это указывает на то, что в норадренергической системе мозга существуют разные мишени для подавления или предупреждения гипербарических кислородных судорог. Доказательством этому служит тот факт, что противосудорожное действие пропранолола в наших опытах оказалось значительно сильнее, чем у двух ингибиторов МАО (рис. 1).
Другим, обсуждаемым в литературе, механизмом вовлечения МАО в развитие гипероксических судорог является возможное участие в их патогенезе перекиси водорода и аммиака — конечных продуктов окислительного дезаминирования моноаминов [21]. Действительно, уровень Н2О2 в головном мозге повышается в условиях гипербарической гипероксии [9, 22]. Однако причастность МАО к увеличению внеклеточного уровня Н2О2 неочевидна, так как по нашим данным и результатам других исследований [11] каталитическая активность фермента подавляется в гипербарической гипероксии, а значит и уровень конечных продуктов дезаминирования нейромедиаторов должен понижаться. Выявленное повышение уровня экстраклеточной Н2О2 в мозге [9, 22], вероятнее всего, связано с биотрансформацией супероксидных анионов, генерация которых в условиях гипероксии значительно усиливается [23–25].
Следующим потенциальным механизмом участия МАО в развитии гипероксических судорог может быть усиление функции адренергической системы в мозге за счет повышения уровня катехоламинов [26]. В настоящей работе мы не измеряли уровень мозгового норадреналина, но, используя его в качестве субстрата для определения активности МАО в мозге, получили результаты, предполагающие повышение уровня катехоламинов, по меньшей мере в коре и гипоталамусе. Если ингибирование МАО ведет к повышению уровня норадреналина, то это может приводить к возрастанию функциональной активности адренергической системы в мозге и, в целом, к гиперактивации всей симпатоадреналовой системы [27, 28]. Подтверждением этому является усиление симпатической активности и повышение содержания норадреналина в плазме крови крыс, у которых наблюдались судороги в гипероксии под давлением 5 АТА [29]. Просудорожное действие норадреналина показано и на других экспериментальных моделях эпилепсии [27].
Косвенным доказательством причастности норадреналина к развитию судорог является противосудорожное действие блокаторов нораденергических рецепторов в мозге [4]. Так как норадренергическая система оказывает тормозящее действие на функцию ГАМК-ергических нейронов мозга, повышение ее активности может приводить к растормаживанию и усилению процессов возбуждения в центральной нервной системе и, как следствие, к возникновению у животных судорожной активности. Однако следует отметить, что блокада не всех типов адренорецепторов приводит к противосудорожному эффекту. В частности, малоэффективным противосудорожным эффектом обладал фентоламин — неселективный блокатор α1- и α2- рецепторов, а прозазин — селективный блокатор α1 вообще не оказывал действия на развитие судорог у крыс в гипербарическом кислороде [5]. Важно также отметить, что ингибирование обеих изоформ моноаминоксидазы приводило к увеличению внеклеточной концентрации дофамина и 3-метокситирамина при нормобарической гипероксии [30]. В больших концентрациях дофамин стимулирует α- и β-адренорецепторы и это действие связано с его способностью высвобождать норадреналин из гранулярных пресинаптических депо, то есть оказывать непрямое адреномиметическое действие [31].
При существовании множества доказательств активации норадренергической системы в генезе гипербарических кислородных судорог, имеются данные о дефиците норадреналина, приводящем к развитию эпилептических судорог. Так. из клиники известно о снижение уровня норадреналина у пациентов с височной эпилепсией [32]. В настоящей работе выявлено повышение активности МАО в стриатуме крыс при их экспозиции в ГБО2. Можно предположить, что следствием активации фермента в стриатуме может быть снижение уровня норадреналина в этой структуре. Однако из-за отсутствия прямых его измерений, как в настоящей работе, так в других исследованиях, не представляется возможным однозначно считать причиной развития кислородных судорог понижение уровня этого нейромедиатора в стриатуме. Следует лишь упомянуть, что снижение уровня другого катехоламина — дофамина в стриатуме наблюдалось у крыс во время их экспозиции в гипербарическом кислороде [33]. При всей привлекательности гипотезы о вовлечении катехоламинов в развитие гипероксических судорог, результаты настоящей работы являются косвенным доказательством участия МАО в нарушении норадренергической передачи, приводящем к судорожному синдрому. До сих пор неизвестны ни уровень катехоламинов, ни их динамика в разных структурах мозга при развитии патологической реакции на экстремальную гипероксию.
Еще один потенциальный механизм вовлечения МАО в развитие кислородных судорог может базироваться на том, что подавление каталитической активности МАО в ГБО2 сопровождается появлением качественно новых реакций дезаминирования азотистых соединений, не относящихся к моноаминам. Некоторые аминокислоты, такие, как лизин и ГАМК, являются субстратами для химически модифицированной МАО [34]. Качественная модификация мембраносвязанного МАО обычно наблюдается в экспериментальных условиях, вызывающих стимуляцию перекисного окисления липидов (ПОЛ) в биомембранах и окисление SH-групп в составе фермента-белка [12]. Условия экстремальной гипероксии являются идеальными для биотрансформации МАО, так как характеризуются выраженными реакциями ПОЛ, окислением или S-нитрозилированием различных белков, в том числе и ферментов [35]. Результаты исследований подтверждают ранее полученные данные [11] и гипотезу о том, что трансформированная в гипероксии МАО дезаминирует ГАМК, что приводит к снижению ее внеклеточного содержания и развитию судорог. В наших опытах паргилин, ингибируя МАО, ослабляет скорость дезаминирования ГАМК и поддерживает ее на уровне, достаточном для противодействия развитию гипероксических судорог.
Таким образом, валидация предполагаемых механизмов вовлечения МАО в развитие гипербарических кислородных судорог свидетельствует о том, что МАО играет важную роль в регулировании эпилептогенеза в экстремальной гипероксии. Гипербарический кислород, ингибируя каталитическую активность МАО путем трансформации ее молекулярной структуры, приводит к нарушению регуляции обмена моноаминовых нейротрансмиттеров и понижению уровня ГАМК в мозге, что в совокупности ведет к дисбалансу процессов возбуждения/торможения в ЦНС, приводящему к развитию кислородной эпилепсии.
ВКЛАДЫ АВТОРОВ
Идея работы и дизайн эксперимента (И.Т.Д.), постановка экспериментов (С.Ю.Ж., Т.Ф.П., И.Н.Б.), сбор данных (С.Ю.Ж., Т.Ф.П., Н.А.Г., И.Н.Б., О.С.А.), обработка данных (И.Т.Д., С.Ю.Ж., Н.А.Г., И.Н.Б., О.С.А.), написание и редактирование текста (И.Т.Д., О.С.А., С.Ю.Ж., Н.А.Г.).
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Работа выполнена в рамках государственного задания ИЭФБ РАН (рег. № 075-00264-24-00).
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Все применимые международные, национальные и/или институциональные принципы ухода и использования животных были соблюдены. Все процедуры, выполненные в исследованиях с участием животных, соответствовали этическим стандартам, утвержденным правовыми актами РФ, принципам Базельской декларации и рекомендациям Комиссии по биоэтике ИЭФБ РАН (протокол № 1-12/2022 от 27.01.2022 г.).
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией данной статьи.
Об авторах
С. Ю. Жиляев
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН
Email: osa72@inbox.ru
Россия, Санкт-Петербург
И. Н. Басова
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН
Email: osa72@inbox.ru
Россия, Санкт-Петербург
Т. Ф. Платонова
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН
Email: osa72@inbox.ru
Россия, Санкт-Петербург
О. С. Алексеева
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: osa72@inbox.ru
Россия, Санкт-Петербург
Н. А. Гавришева
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова
Email: osa72@inbox.ru
Россия, Санкт-Петербург
И. Т. Демченко
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН
Email: osa72@inbox.ru
Россия, Санкт-Петербург
Список литературы
- Зальцман ГЛ (1968) Стадии развития кислородной эпилепсии и функциональное состояние нервной системы. В кн. Гипербарические эпилепсия и наркоз. Л. Наука. С. 129–136. [Zal’tsman GL (1968) Stages of formation of oxygen-induced epilepsy and the functional state of the nervous system. In: Hyperbaric Epilepsy and Narcosis: Neurophysiological Studies (in Russion with English abstracts). Zal’tsman GL (ed.). Nauka. Leningrad, pp. 129–136.]
- Bean JW, Zee D, Thom B (1966) Pulmonary changes with convulsions induced by drugs and oxygen at high pressure. J Appl Physiol 21(3): 865–872. https://doi.org/10.1152/jappl.1966.21.3.865
- Dean JB, Mulkey DK, Henderson RA 3rd, Potter SJ, Putnam RW (2004) Hyperoxia, reactive oxygen species, and hyperventilation: oxygen sensitivity of brain stem neurons. J Appl Physiol (1985) 96(2): 784–791. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00892.2003
- Gasier HG, Demchenko IT, Zhilyaev SY, Moskvin AN, Krivchenko AI, Piantadosi CA (2018) Adrenoceptor blockade modifies regional cerebral blood flow responses to hyperbaric hyperoxia: protection against CNS oxygen toxicity. J Appl Physiol (1985) 125(4): 1296–1304. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00540.2018
- Platonova TF, Alekseeva OS, Nikitina ER, Demchenko IT (2020) Blockade of Brain Adrenoreceptors Delays Seizure Development during Hyperbaric Oxygen Breathing. J Evol Biochem Phys 56(5): 425–433. https://doi.org/10.1134/S0022093020050051
- Glover V, Gibb C, Sandler M (1986) The role of MAO in MPTP toxicity. J Neural Transm Suppl 20: 65–76.
- Knoll J (1978) On the dual nature of monoamine oxidase. Horiz Biochem Biophys 5: 37–64.
- Magyar K (1993) Pharmacology of monoamine oxidase type B inhibitors. In: Inhibitors of Monoamine Oxidase B. Pharmacology and Clinical Use in Neurodegenerative Disorders (ed. Szelenyi I) Birkhauser, Basel 125–143.
- Yusa T, Beckman JS, Crapo JD, Freeman BA (1987) Hyperoxia increases H2O2 production by brain in vivo. J Appl Physiol (1985) 63(1): 353–358. https://doi.org/10.1152/jappl.1987.63.1.353.PMID: 362413
- Demchenko IT, Zhilyaev SY, Moskvin AN, Piantadosi CA, Allen BW (2010) Autonomic activation links CNS oxygen toxicity to acute cardiogenic pulmonary injury. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 300(1): L102–111. https://doi.org/10.1152/ajplung.00178.2010
- Горошинская ИА, Кричевская АА, Шугалей ВС, Шерстнев КБ, Баламирзоева РМ (1986) Активность моноаминоксидазы и уровень гамма-аминомасляной кислоты при гипероксии, влияние хлоргилина. Вопросы медицинской химии 32(2): 76–79. [Goroshinskaia IA, Krichevskaia AA, Shugaleĭ VS, Sherstnev KB, Balamirzoeva RM (1986) Monoamine oxidase activity and gamma-aminobutyric acid levels in hyperoxia. The effect of clorgyline. Vopr Med Khim 32(2): 76–79.]
- Medvedev AE, Rajgorodskaya DI, Gorkin VZ, Fedotova IB, Semiokhina AF (1992) The role of lipid peroxidation in the possible involvement of membrane-bound monoamine oxidases in gamma-aminobutyric acid and glucosamine deamination in rat brain. Focus on chemical pathogenesis of experimental audiogenic epilepsy. Mol Chem Neuropathol 16(1–2): 187–201. https://doi.org/10.1007/BF03159969
- Bruhwyler J, Liégeois JF (1997) Pirlindole: a selective reversible inhibitor of monoamine oxidase A. A review of its preclinical properties. Géczy J Pharmacol Res 36(1): 23–33. https://doi.org/10.1006/phrs.1997.0196
- Lowry OH, Rosebrough NJ, Farr AL, Randall RJ (1951) Protein measurement with the Folin phenol reagent. J Biol Chem 193(1): 265–275.
- Северина ИС (1979) О возможном механизме избирательного торможения хлоргилином и депренилом активности митохондриальной моноаминоксидазы печени крыс. Биохимия 44(2): 195–207. [Severina IS (1979) Possible mechanism of selective inhibition of rat liver mitochondrial monoamine oxidase by chlorgiline and deprenyl. Biokhimiia. 44(2): 195–207. (In Russ)].
- Стрелков РБ (1967) К модификации методики изотермической перегонки аммиака. Лабораторное дело. 1: 17–19. [Strelkov RB (1967) On the modification of the method of isothermic sublimation of ammonia. Lab Delo. 1: 17–19. (In Russ)].
- Zhang J, Piantadosi CA (1991) Prevention of H2O2 generation by monoamine oxidase protects against CNS O2 toxicity. J Appl Physiol (1985) 71(3): 1057–1061. https://doi.org/10.1152/jappl.1991.71.3.1057
- Paxinos G, Watson C (2005) The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates. Boston, MA: Elsevier.
- Demchenko IT, Luchakov YuI, Moskvin AN, Gutsaeva DR, Allen BW, Thalmann ED, Piantadosi CA (2005) Cerebral blood flow and brainoxygenation in rats breathing oxygen under pressure. J Cereb Blood Flow Metab 25(10): 1288–1300. https://doi.org/10.1038/sj.jcbfm.9600110
- Racine RJ (1972) Modification of seizure activity by electrical stimulation. II. Motor seizure. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 32(3): 281–294. https://doi.org/10.1016/0013-4694(72)90177-0
- Faiman MD, Nolan RJ, Baxter CF, Dodd DE (1977) Brain gamma-aminobutyric acid, glutamic acid decarboxylase, glutamate, and ammonia in mice during hyperbaric oxygenation. J Neurochem 28(4): 861–865. https://doi.org/10.1111/j.1471-4159.1977.tb10640.x
- Piantadosi CA, Tatro LG (1990) Regional H2O2 concentration in rat brain after hyperoxic convulsions. J Appl Physiol (1985) 69(5): 1761–1766. https://doi.org/10.1152/jappl.1990.69.5.1761
- D'Agostino DP, Putnam RW, Dean JB (2007) Superoxide (•O2–) production in CA1 neurons of rat hippocampal slices exposed to graded levels of oxygen. J Neurophysiol 98(2): 1030–1041. https://doi.org/10.1152/jn.01003.2006
- Ciarlone GE, Dean JB (2016) Normobaric hyperoxia stimulates superoxide and nitric oxide production in the caudal solitary complex of rat brain slices. Am J Physiol Cell Physiol 311(6): C1014–C1026. https://doi.org/10.1152/ajpcell.00160.2016
- Oury TD, Ho YS, Piantadosi CA, Crapo JD (1992) Extracellular superoxide dismutase, nitric oxide, and central nervous system O2 toxicity. Proc Natl Acad Sci U S A 89(20): 9715–9719. https://doi.org/10.1073/pnas.89.20.9715
- Arai M, Takata K, Takeda Y, Mizobuchi S, Morita K (2011) The excitement of multiple noradrenergic cell groups in the rat brain related to hyperbaric oxygen seizure. Acta Med Okayama 65(3): 163–168. https://doi.org/10.18926/AMO/46627 PMID: 21709713
- Fitzgerald PJ (2010) Is elevated norepinephrine an etiological factor in some cases of epilepsy? Seizure 19(6): 311–318. https://doi.org/10.1016/j.seizure.2010.04.011
- Finberg JP (2014) Update on the pharmacology of selective inhibitors of MAO-A and MAO-B: focus on modulation of CNS monoamine neurotransmitter release. Pharmacol Ther 143(2): 133–152. https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2014.02.010
- Demchenko IT, Zhilyaev SY, Moskvin AN, Piantadosi CA, Allen BW (2011) Autonomic activation links CNS oxygen toxicity to acute cardiogenic pulmonary injury. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 300(1): L102–111. https://doi.org/10.1152/ajplung.00178.2010
- Adachi YU, Watanabe K, Hideyuki Higuchi H, Tetsuo Satoh T, Vizi ES (2001) Oxygen inhalation enhances striatal dopamine metabolism and monoamineoxidase enzyme inhibition prevents it: a microdialysis study. Eur J Pharmacol 422(1-3): 61–68. https://doi.org/10.1016/s0014-2999(01)01074-3
- Cho HU, Kim S, Sim J, Yang S, An H, Nam MH, Jang DP, Lee CJ (2021) Redefining differential roles of MAO-A in dopamine degradation and MAO-B in tonic GABA synthesis. Exp Mol Med 53(7): 1148–1158. https://doi.org/10.1038/s12276-021-00646-3
- Pacia SV, Doyle WK, Broderick PA (2001) Biogenic amines in the human neocortex in patients with neocortical and mesial temporal lobe epilepsy: identification with in situ microvoltammetry. Brain Res 899(1-2): 106–111. https://doi.org/10.1016/s0006-8993(01)02214-4
- Lavoute C, Weiss M, Risso JJ, Rostain JC (2014) Alteration of striatal dopamine levels under various partial pressure of oxygen in pre-convulsive and convulsive phases in freely-moving rats. Neurochem Res 39(2): 287–294. https://doi.org/10.1007/s11064-013-1220-z
- Gorkin VZ (1985) Studies on the nature and specific inhibition of monoamine oxidases. In Neuropharmacology 85 (eds. Kelemen K, Magyar K, Vizi ES). Akademiai Kiodo, Budapest 9–14.
- Hess DT, Stamler JS (2012) Regulation by S-nitrosylation of protein post-translationalmodification. J Biol Chem 287(7): 4411–4418. https://doi.org/10.1074/jbc.R111.285742
Дополнительные файлы