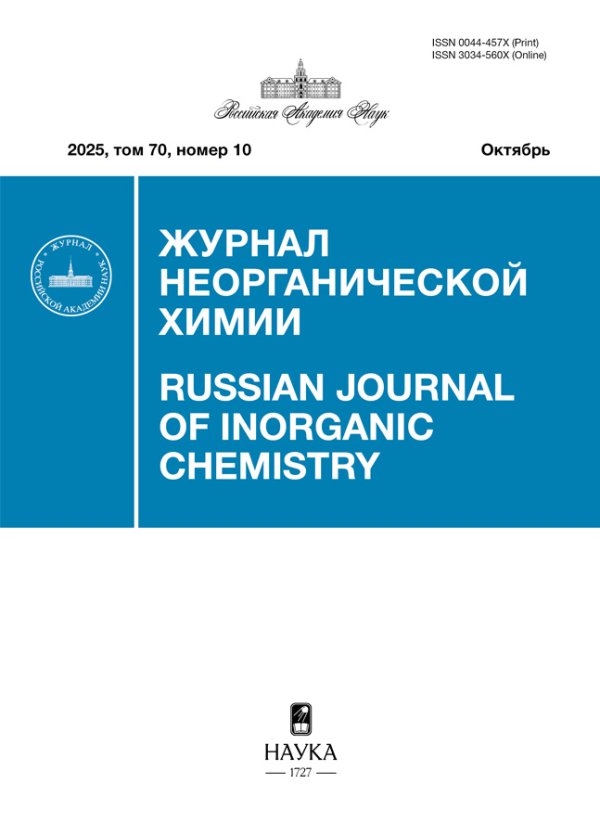Фотоактивные слои на основе наностержней ZnO, полученных гидротермальным синтезом, для сенсибилизированных красителями солнечных элементов
- Авторы: Аверочкин Е.П.1, Степарук А.С.2, Текшина Е.В.3, Крупанова Д.А.1,4, Емец В.В.5, Волкова Л.С.1, Рязанов Р.М.1, Лебедев Е.А.1, Козюхин С.А.3,6
-
Учреждения:
- Национальный исследовательский университет “МИЭТ”
- Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН
- Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН
- Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
- Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
- Томский государственный университет
- Выпуск: Том 69, № 6 (2024)
- Страницы: 919-927
- Раздел: НЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И НАНОМАТЕРИАЛЫ
- URL: https://journal-vniispk.ru/0044-457X/article/view/273156
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044457X24060149
- EDN: https://elibrary.ru/XSSKMS
- ID: 273156
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Рассмотрено применение наностержней оксида цинка ZnO различной высоты, полученных гидротермальным синтезом, в качестве функциональных слоев для сенсибилизированных красителем солнечных элементов. Структура, морфология и оптические свойства слоев наностержней были исследованы методами рентгенофазового анализа, сканирующей электронной микроскопии, оптической спектроскопии. Изготовлены фотоаноды с использованием красителей на основе тиено[3,2-b]индола IS 4 и IS 9. Механизм адсорбции красителей и структур ZnO был изучен методом ИК-спектроскопии. С помощью фотоэлектрохимических измерений была исследована эффективность работы фотоанодов. Показана зависимость эффективности сенсибилизированных красителем солнечных элементов от длины наностержней. Максимальный результат преобразования света был получен для фотоанода со средней высотой наностержней 2.5 мкм и адсорбированным красителем IS 4.
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
ZnO является объектом многочисленных исследований, активно используется в различных научных и технических областях. Данное обстоятельство обусловлено уникальным сочетанием таких физико-химических свойств, как ширина запрещенной зоны (3.37 эВ), большая энергия связи экситонов (60 мэВ) и высокая подвижность электронов (200 см2 В–1 с–1), хорошая химическая и термическая стабильность, высокая удельная поверхность, доступность в больших количествах, низкая стоимость и безвредность для окружающей среды [1–5]. Кроме того, с развитием нанотехнологий дополнительно возрос интерес к ZnO, поскольку на его основе можно создавать новые наноматериалы, которые позволяют снизить массу, объем, энергопотребление, повысить быстродействие и фотокаталитическую активность в различных применениях [6–8]. Такие материалы обладают большим потенциалом для множества практических приложений, например, в оптоэлектронных устройствах (светоизлучающие диоды, лазеры), диодах, фотоприемниках, наногенераторах, транзисторах, сенсорах, катализаторах, активных соединениях в солнцезащитных средствах и др. [9–11]. Одной из областей применения ZnO является использование его в качестве функционального слоя при создании различных фотовольтаических устройств [1, 12].
В области фотовольтаики сейчас активно развиваются исследования по созданию сенсибилизированных красителем солнечных элементов (СКСЭ). Эти устройства являются альтернативой традиционным солнечным элементам на основе кремния. В отличие от классических солнечных элементов на основе p–n-перехода, где полупроводнику отведена двойная роль: поглощение света, а также разделение и транспорт носителей заряда, в СКСЭ реализуется принцип разделения этих функций. Падающий свет поглощается молекулой органического красителя, нанесенного на поверхность неорганического нанокристаллического широкозонного полупроводникового слоя, как правило, на основе диоксида титана TiO2. Возбужденный электрон инжектируется в зону проводимости TiO2, покинув молекулу красителя, которая переходит в окисленное состояние. Инжектированные электроны проходят через пористую нанокристаллическую структуру в прозрачный проводящий оксидный слой стеклянной подложки (фотоанод) и через внешнюю нагрузку поступают на противоэлектрод. С противоэлектрода (фотокатода) электроны переходят к электролиту, который содержит ионы трийодида и восстанавливает их до ионов йода. Цикл замыкается восстановлением окисленного красителя ионами йода электролита [1]. Преимуществом СКСЭ является простота процесса изготовления и стоимость изделия, а также широкая возможность модификации функциональных слоев с целью улучшения рабочих параметров [13, 14].
Эффективность преобразования энергии в СКСЭ зависит от поглощения света, транспорта и инжекции фотогенерированных носителей, а также сбора и скорости рекомбинации заряда. Эти параметры напрямую связаны с морфологией и структурой материалов, из которых изготовлен фотоанод [15]. Наночастицы TiO2, как было отмечено выше, широко используются в качестве материала для изготовления фотоанодов СКСЭ, тем не менее эффективность большинства подобных устройств ограничена низкой подвижностью электронов внутри полупроводникового слоя, которая составляет порядка 1 см2 В–1 с–1 [16].
ZnO – потенциально подходящая замена TiO2 в качестве материала фотоанода. Наночастицы ZnO имеют большую площадь поверхности для адсорбции красителя, что способствует эффективному сбору света и, следовательно, высокой эффективности фотопреобразования. Считается, что одномерные наноструктуры оксида цинка, такие как наностержни, наноремни и др., повышают эффективность фотопреобразования в СКСБ на основе ZnO, так как одномерные наноструктуры обеспечивают прямой и беспрепятственный перенос электронов [17−22].
Существует несколько способов получения наноструктурированного оксида цинка: метод термического разложения, основанный на использовании органических соединений цинка, золь-гель синтез и метод гидротермального синтеза, который позволяет получать нанокристаллы различных форм и размеров [23–24]. Метод гидротермального синтеза обладает значительными преимуществами по сравнению с другими, поскольку позволяет контролировать морфологию и размер синтезируемых частиц, а также получать слабоагломерированные наноразмерные частицы, а сам процесс протекает в относительно мягких условиях при температуре ˂350°C [25–27].
Таким образом, целью настоящей работы является получение полупроводниковой структуры ZnO в виде наностержней различной длины гидротермальным синтезом, изготовление фотоанодов на их основе и изучение фотовольтаических свойств с красителями на основе тиено[3, 2-b]индола со структурой донор-π-линкер-акцептор (D-π-A).
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Процедура очистки стеклянных подложек и нанесение затравочного слоя ZnO. Стеклянные подложки со слоем оксида олова, легированного фтором FTO (Sigma-Aldrich) размером 2.0 × 2.0 см, предварительно очищали выдерживанием в смеси H2O2 (марка А, Русхим) и H2SO4 (ос. ч., Русхим) (1 : 1 по объему) в течение 20 мин, затем стеклянные подложки промывали в горячей и холодной деионизированной воде и сушили в парах изопропилового спирта (х. ч.). После этого на поверхность FTO, за исключением квадрата 6 × 6 мм, был нанесен химически стойкий лак. Затем методом магнетронного распыления наносили затравочный слой ZnO толщиной 200 нм. Перед нанесением была дополнительно проведена ионная зачистка поверхности образцов в течение 4 мин. Режим напыления: мощность – 500 Вт, продолжительность – 20 мин, рабочий газ – аргон. Была использована мишень ZnO. После напыления слой лака был убран с помощью пинцета.
Гидротермальный синтез наностержней ZnO. Навески 0.74 г Zn(NO3)2 · 6H2O (ч. д. а., Русхим) и 3.98 г NaOH (ч. д. а., Русхим) растворяли в 250 мл деионизованной воды при комнатной температуре в течение 10 мин при постоянном перемешивании. Затем приготовленный раствор был термостатирован при температуре 80°C в течение 10 мин. Подложки с нанесенным затравочным слоем ZnO погружали в стакан проводящей стороной вниз на 30 и 120 мин. Приготовленный раствор постоянно перемешивали со скоростью 900 об/мин, при этом уровень pH раствора в начале каждого процесса был равен 13. Синтез проводили при атмосферном давлении. Полученные образцы с наностержнями ZnO промывали в деионизированной воде и сушили потоком сжатого воздуха при комнатной температуре.
Адсорбция красителей на поверхность наностержней ZnO. Адсорбцию ранее синтезированных красителей на основе тиено[3, 2-b]индола со структурой D-π-A [28], содержащих в качестве донорной части фрагмент тиено[3, 2-b]индола и фрагмент 2-цианоакриловой кислоты IS 4 или 5-(метилен)барбитуровой кислоты IS 9 в качестве акцепторно-якорной части, на поверхность наностержней ZnO осуществляли из раствора в хлороформе с концентрацией 5 × 10–4 М выдерживанием фотоанода (активная площадь 0.36 см2) в течение 24 ч. Структурные формулы красителей представлены на рис. 1.
Рис. 1. Структурные формулы красителей IS 4 и IS 9.
Приборы и методы для физико-химического анализа. Для исследования морфологии поверхности использовали растровые электронные микроскопы Jeol JSM 6010 PLUS/LA (ускоряющее напряжение 0.5–20 кВ) и Helios G4CX (FEI), позволяющие получать изображения с разрешением ˃0.8 нм и работать с кристаллами и пластинами до 200 мм. С помощью программы Image J были измерены средняя высота полученных стержней и их средний диаметр. Фазовый анализ образцов определяли методом рентгенофазового анализа (РФА) с использованием порошкового рентгеновского дифрактометра Bruker D8 Advance (CuKα-излучение) в диапазоне углов 10°–70° с шагом 0.02 × 2θ и выдержкой не менее 0.4 с/шаг. Индицирование дифрактограмм проводили с помощью базы данных ICDD PDF2 (2012). Оптические свойства были исследованы с помощью спектрометра Cary Series UV-Vis-NIR Spectrophotometer (Agilent Technologies) в диапазоне длин волн от 350 до 800 нм. ИК-спектры исследуемых материалов были зарегистрированы на ИК-Фурье-спектрометре Spectrum One (Perkin Elmer), оснащенном приставкой диффузного отражения (DRA), в интервале 4000–1000 см–1.
Фотоэлектрохимические свойства фотоанодов. Для данных измерений использовали трехэлектродную ячейку PECC-2 (Zahner Elektrik). Рабочим электродом служил фотоанод с адсорбированным красителем, а вспомогательным электродом – платиновая проволока с поверхностью 5 см2. В качестве электрода сравнения использовали серебряную проволоку. Относительно этого электрода сравнения приведены все потенциалы на рисунках. В качестве электролита использовали смесь (0.5 М LiI + 0.05 M I2) в ацетонитриле. Вольтамперометрические измерения проводили на потенциостате IPC Pro MF. Рабочий электрод освещали симулятором солнечного спектра АМ 1.5 (Newport) мощностью 100 мВт/см2. Мощность освещения контролировали с помощью аппарата Nova (Ophir-Spiricon Inc.). Измерения квантовой эффективности фотоанодов проводили на приборе CIMPS-QE/IPCE (ZAHNER). Рабочий электрод освещали перестраиваемым источником света TLS03.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Кристаллическая структура наностержней ZnO была охарактеризована с помощью РФА. На рис. 2 показана дифрактограмма массивов наностержней ZnO на стеклянной подложке FTO. Два дифракционных рефлекса при 2θ = 26.7°, 51.7° соответствуют проводящему слою FTO [29, 30]. Оставшиеся рефлексы относятся к однофазному оксиду цинка гексагональной структуры вюрцита в соответствии с JCPDS (36-1451). Рефлексы при 2θ = 33.9°, 34.6°, 37.9° и 47.8° относятся к плоскостям (100), (002), (101) и (102) соответственно [31−34]. Наиболее интенсивный рефлекс наблюдается при 2θ = 34.7°, что соответствует плоскости (002) и демонстрирует ориентацию наностержней вдоль оси с. Следует отметить, что интенсивность дифракционного максимума при 2θ = 47.8° крайне мала, что свидетельствует о медленном росте структуры в направлении (102).
Рис 2. Рентгеновская дифрактограмма массивов наностержней ZnO на стеклянной подложке со слоем FTO. Звездочкой обозначены рефлексы, соответствующие проводящему слою FTO.
С помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) была исследована морфология одномерных наностержней ZnO с различным временем роста. Установлено, что выращенные массивы наностержней преимущественно ориентированы перпендикулярно относительно поверхности подложки, имеют высокую плотность по площади и равномерно распределены на проводящей стеклянной подложке. На рис. 3 показаны наностержни ZnO, время роста которых составило 30 и 120 мин. Массив с меньшим временем роста имеет среднюю высоту 1.3 мкм (рис. 3a) и средний диаметр 100 нм (рис. 3в). При увеличении времени роста до 120 мин происходит увеличение средней высоты наностержней до 2.5 мкм (рис. 3б), но при этом их средний диаметр не меняется. Наностержни имеют шестиугольную форму на верхней грани в направлении (100), что хорошо видно на рис. 3г. Полученные снимки согласуются с литературными данными [35, 36].
Рис. 3. СЭМ-изображения наностержней ZnO, ориентированных на стеклянной проводящей подложке, с различным временем роста: a, в – 30 мин; б, г – 120 мин.
Таким образом, данные РФА и СЭМ подтвердили образование кристаллической гексагональной структуры ZnO в виде наностержней.
Спектры оптического поглощения представлены на рис. 4a. Оптическую ширину запрещенной зоны образцов оценивали с помощью уравнения Тауца в предположении, что это прямозонный полупроводник [37]:
, (1)
где α − коэффициент поглощения, h − постоянная Планка (6.626 × 10–34 м2 кг/с), ν − частота фотона, а Eg − энергия оптической запрещенной зоны. Значение Eg было оценено графическим способом (рис. 4б). Ширина запрещенной зоны составила 3.24 и 3.22 эВ для наностержней, полученных в течение 30 и 120 мин соответственно, что согласуется с результатами, полученными в работах [1, 38, 39].
Рис. 4. Нормированные спектры поглощения (a) и расчет ширины запрещенной зоны (б) наностержней ZnO, полученных в течение 30 (1) и 120 мин (2).
Красители на поверхности наностержней ZnO оказывают влияние на оптические характеристики фотоанодов. Спектры поглощения наноструктур с красителями IS 4 и IS 9 представлены на рис. 5. Наибольший вклад в увеличение поглощения видимого света вносит краситель IS 4 по сравнению с красителем IS 9. При этом добавление красителей IS 4 и IS 9 не приводит к изменению поглощения после 550 нм.
Рис. 5. Спектры поглощения наностержней ZnO, полученных в течение 30 (a) и 120 мин (б) без красителей и с красителями IS 4, IS 9, адсорбированными на поверхности ZnO: 1 – ZnO; 2 – IS 4 на ZnO; 3 – IS 9 на ZnO.
Механизм взаимодействия и адсорбции якорных групп красителей на поверхности ZnO оказывает прямое влияние на перенос электронов и характеристики получаемых СКСЭ [40]. Для изучения механизма адсорбции органических красителей на поверхности ZnO были записаны ИК-спектры красителей IS 4, IS 9 до и после адсорбции (рис. 6). Полоса при 2214 см–1, соответствующая колебаниям ν(C≡N), не изменилась после адсорбции красителя IS 4 на поверхности ZnO. Полосы колебания ν(OH) при 3095 см–1 и ν(C=O) при 1680 см–1 в красителе IS 4 исчезли или сместились после адсорбции красителя на поверхности ZnO. Следовательно, адсорбция красителя IS 4 на поверхности ZnO происходит через карбоксильную группу и носит характер химической адсорбции. В случае красителя IS 9, содержащего фрагмент 5-метиленбарбитуровой кислоты в качестве якорной группы, в области 1735−1650 см–1 ИК-спектра присутствуют три полосы колебаний, относящиеся к ν(C=O). После адсорбции красителя они сдвигаются в сторону низких частот 1692−1591 см–1. Это смещение можно отнести к лактам-лактимной таутомерии [41] во фрагменте 5-метиленбарбитуровой кислоты, за счет чего происходит связывание с поверхностью ZnO. Однако было замечено, что при погружении фотоанода с адсорбированным красителем IS 9 в электрохимическую ячейку, содержащую электролит на основе 0.5 М LiI и 0.05 M I2 в ацетонитриле, происходит частичное растворение красителя IS 9 c поверхности фотоанода. Это свидетельствует о том, что удержание красителя IS 9 на поверхности ZnO происходит не только за счет химических взаимодействий вследствие лактам-лактимной таутомерии, но и за счет физической адсорбции, которая является обратимым процессом. В результате это приводит к уменьшению количества красителя IS 9 на поверхности ZnO, что, как будет показано ниже, влияет на фотоэлектрохимические характеристики. Для красителя IS 4 подобного эффекта не наблюдалось. В работе [28] были получены аналогичные результаты для фотоанодов на основе TiO2 с адсорбированными красителями IS 4 и IS 9, но в отличие от ZnO на поверхности TiO2 связывание красителя IS 9 происходило только за счет физической адсорбции. Оптическое поглощение в растворе красителей в случае IS 9 (максимум поглощения 556 нм и молярный коэффициент экстинкции 58900 М–1 см–1) превосходит IS 4 (максимум поглощения 506 нм и молярный коэффициент экстинкции 45000 М–1 см–1) [28]. Учитывая различие оптических свойств красителей, перспективным способом улучшения их свойств может стать дальнейшая модификация структуры акцепторной части 5-(метилен)барбитуровой кислоты путем добавления функциональных заместителей с хорошей “якорной” функцией, например, карбоксильной группы –COOH.
Рис. 6. ИК-спектры пропускания красителей IS 4 (a) и IS 9 (б), адсорбированных на поверхности ZnO: 1 – краситель; 2 – краситель на ZnO; 3 – ZnO.
Вольт-амперные характеристики (ВАХ) для полученных фотоанодов с красителями IS 4 и IS 9 были измерены для образцов 1–4. Их описание приведено в табл. 1.
Таблица 1. Характеристики фотоанодов
№ | Время роста, мин | Средняя высота наностержней, мкм | Краситель | Iкз, мА/см2 | Uxx, В | FF | КПД, % |
1 | 30 | 1.3 | IS 4 | 1.71 | 0.59 | 0.38 | 0.41 |
2 | IS 9 | 0.33 | 0.49 | 0.03 | <0.01 | ||
3 | 120 | 2.5 | IS 4 | 3.51 | 0.59 | 0.37 | 0.77 |
4 | IS 9 | 0.27 | 0.38 | 0.02 | <0.01 |
ВАХ для всех четырех образцов представлены на рис. 7. Было установлено, что фотоэлектрохимические свойства фотоанодов на основе наностержней ZnO с адсорбированным красителем IS 9 проявляют низкие значения плотности тока короткого замыкания Iкз (0.33 и 0.27 мА/см2), напряжения холостого хода Uxx (0.49 и 0.38 В) и не зависят от времени гидротермального синтеза наностержней ZnO.
Рис. 7. Вольт-амперные характеристики образцов фотоанодов 1–4 с красителями IS 4 и IS 9. На вставке представлено изображение фотоанода с адсорбированным красителем.
Напротив, в случае использования красителя IS 4 наблюдается зависимость фотоэлектрохимических параметров от высоты наностержней ZnO. Так, плотность тока короткого замыкания Iкз возрастает от 1.71 до 3.51 мА/см2 при увеличении времени синтеза от 30 до 120 мин. Стоит отметить, что фотоанод на основе наностержней ZnO с длиной 2.5 мкм показал лучшую эффективность преобразования энергии (КПД, 0.77%) среди всех образцов, что, вероятно, связано с количеством адсорбированного красителя на поверхности наностержней ZnO.
Для фотоанода с наностержнями ZnO длиной 2.5 мкм и адсорбированным красителем IS 4 был измерен спектр квантовой эффективности, который представлен на рис. 8. Основной спектральный диапазон охватывает область 350–600 нм с максимальным значением ~9% при длине волны 450 нм.
Рис. 8. Квантовая эффективность образца 3.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С помощью гидротермального синтеза получены структурированные слои в виде наностержней оксида цинка. Показано, что при увеличении времени гидротермального синтеза от 30 до 120 мин происходит увеличение средней высоты наностержней от 1.3 до 2.5 мкм, но при этом средний диаметр практически не изменяется.
Ширина запрещенной зоны для наностержней ZnO с разным временем роста составила ⁓3.2 эВ.
Были изготовлены фотоаноды на основе стержней ZnO разной высоты, на которые были адсорбированы ранее синтезированные красители D-π-A, содержащие в качестве донорной части фрагмент тиено[3, 2-b]индола и фрагмент 2-цианоакриловой кислоты IS 4 или 5-(метилен)барбитуровой кислоты IS 9 в качестве акцепторно-якорной части.
Установлено, что фрагмент 2-цианоакриловой кислоты красителя IS 4 обеспечивает более надежное связывание с поверхностью наностержней ZnO. Показана зависимость эффективности устройств от высоты наностержней. Среди исследованных образцов максимальный результат преобразования света с эффективностью 0.77% (Iкз = 3.51 мА/см2, Uxx = 0.59 В) и квантовой эффективностью ~9% при длине волны 450 нм был получен для фотоанода, обладающего средней высотой наностержней ZnO 2.5 мкм и адсорбированным красителем IS 4.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Настоящая работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования МСТ и ЭКБ МИЭТ, ФМИ ИОНХ РАН и САОС ИОС УрО РАН.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 22-73-00291).
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
Об авторах
Е. П. Аверочкин
Национальный исследовательский университет “МИЭТ”
Автор, ответственный за переписку.
Email: aep1997@rambler.ru
Россия, пл. Шокина, 1, Москва, 124498
А. С. Степарук
Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН
Email: aep1997@rambler.ru
Россия, ул. С. Ковалевской, 22/20, Екатеринбург, 620137
Е. В. Текшина
Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН
Email: aep1997@rambler.ru
Россия, Ленинский пр-т, 31, Москва, 119991
Д. А. Крупанова
Национальный исследовательский университет “МИЭТ”; Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Email: aep1997@rambler.ru
Россия, пл. Шокина, 1, Москва, 124498; Институтский пер., 9, Долгопрудный, 141701
В. В. Емец
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
Email: aep1997@rambler.ru
Россия, Ленинский пр-т, 31, Москва, 119991
Л. С. Волкова
Национальный исследовательский университет “МИЭТ”
Email: aep1997@rambler.ru
Россия, пл. Шокина, 1, Москва, 124498
Р. М. Рязанов
Национальный исследовательский университет “МИЭТ”
Email: aep1997@rambler.ru
Россия, пл. Шокина, 1, Москва, 124498
Е. А. Лебедев
Национальный исследовательский университет “МИЭТ”
Email: aep1997@rambler.ru
Россия, пл. Шокина, 1, Москва, 124498
С. А. Козюхин
Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН; Томский государственный университет
Email: aep1997@rambler.ru
химический факультет
Россия, Ленинский пр-т, 31, Москва, 119991; ул. Аркадия Иванова, 49, Томск, 634050Список литературы
- Kumar V., Gupta R., Bansal A. // ACS Appl. Nano Mater. 2021. V. 4. P. 6212. https://doi.org/10.1021/acsanm.1c01012
- Kim K.H., Utashiro K., Abe Y., Kawamura M. // Materials. 2014. V. 7(4). P. 2522. https://doi.org/10.3390/ma7042522
- Kumar R., Umar A., Kumar G. et al. // Mater. Sci. 2017. V. 52. P. 4743. https://doi.org/10.1007/s10853-016-0668-z
- Shah M.A. // Mod. Phys. Lett. B. 2008. V. 22. № 26. P. 2617. https://doi.org/10.1142/S0217984908017126
- Samanta P.K., Bandyopadhyay A.K. // Appl. Nanosci. 2012. V. 2. P. 111. https://doi.org/10.1007/s13204-011-0038-8
- Li X., Li R., Feng X. // Russ. J. Inorg. Chem. 2023. V. 68. P. 1386. https://doi.org/10.1134/s0036023623601307
- Bouarroudj T., Aoudjit L., Nessaibia I. et al. // Russ. J. Phys. Chem. A. 2023. V. 97. P. 1074. https://doi.org/10.1134/S0036024423050278
- Duangnet L., Phuruangrat A., Thongtem T. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2022. V. 67. P. 721. https://doi.org/10.1134/S0036023622050114
- Djurisic A.B., Chen X., Leung, Y.H. et al. // J. Mater. Chem. 2012. V. 22. P. 6526. https://doi.org/10.1039/c2jm15548f
- Guell F., Galdamez-Martinez A., Martinez-Alanis P.R. et al. // Mater. Adv. 2023. V. 4. P. 3685. https://doi.org/10.1039/D3MA00227F
- Mokrushin A.S., Gorban Y.M., Nagornov I.A. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2022. V. 67. P. 2099. https://doi.org/10.1134/S0036023622601520
- Ulyankina A.A., Tsarenko A.D., Molodtsova T.A. et al. // Russ. J. Electrochem. 2023. V. 59. P. 1032. https://doi.org/10.1134/S1023193523120145
- Grätzel M. // Prog. Photovolt: Res. Appl. 2006. V. 14. № 5. P. 429. https://doi.org/10.1002/pip.712
- Grifoni F., Bonomo M., Naim W. et al. // Adv. Energy Mater. 2021. V. 11. P. 1. https://doi.org/10.1002/aenm.202101598
- Ahmad W., Mehmood U., Al-Ahmed A. et al. // Electrochim. Acta. 2016. V. 222. P. 473. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2016.10.200
- Tiwana P., Docampo P., Johnston M.B. et al. // ACS Nano. 2011. V. 5. P. 5158. https://doi.org/10.1021/nn201243y
- Sufyan M., Mehmood U., Qayyum Gill Y. et al. // Mater. Lett. 2021. V. 297. P. 1. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2021.130017
- Qu, J., Lai C. // J. Nanomater. 2013 V. 2013. P. 1. https://doi.org/10.1155/2013/762730
- Law M., Greene L.E., Johnson J.C. et al. // Nat. Mater. 2005. V. 4. P. 455. https://doi.org/10.1038/nmat1387
- Marimuthu T., Anandhan N. // AIP Conf. Proc. 2015. V. 1728. P. 020621-1. https://doi.org/10.1063/1.4946672
- Yodyingyong S., Zhang Q., Park K. et al. // Appl. Phys. Lett. 2010. V. 96. № 7. P. 073115-1. https://doi.org/10.1063/1.3327339
- Brown P., Takechi K., Kamat P.V. // J. Phys. Chem. C. 2008. V. 112. № 12. P. 4776. https://doi.org/10.1021/jp7107472
- Bharat T.C., Shubham, Mondal S. et al. // Mater. Today: Proc. 2019. V. 11. P. 767. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2019.03.041
- Lin C.C., Li Y.Y. // Mater. Chem. Phys. 2009. V. 113. P. 334.
- Gan Y.X., Jayatissa A.H., Yu Z. et al. // J. Nanomater. 2020. V. 2020. P. 1. https://doi.org/10.1155/2020/8917013
- Edalati K., Shakiba A., Vahdati-Khaki J., Zebarjad S.M. // Mater. Res. Bull. 2016. V. 74. P. 374. https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2015.11.001
- Mohajerani M.S., Lak A., Simchi A. // J. Alloys Compd. 2009. V. 485. № 1–2. P. 616. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2009.06.054
- Steparuk A.S., Irgashev R.A., Zhilina E.F. et al. // J. Mater. Sci. – Mater. Electron. 2022. V. 33. P. 6307. https://doi.org/10.1007/s10854-022-07805-w
- Iyengar P., Das C., Balasubramaniam K.R. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2017. V. 50. № 10. P. 1. https://doi.org/10.1088/1361-6463/aa5875
- Chowdhury M.S., Rahman K.S., Selvanathan V. et al. // RSC Advances. 2021. V. 11. № 24. P. 14534. https://doi.org/10.1039/D1RA00338K
- Yang F., Ma S., Zhang X. et al. // Superlattices Microstruct. 2012. V. 52. № 2. P. 210. https://doi.org/10.1016/j.spmi.2012.05.004
- Jeon E.H., Yang S., Kim Y. et al. // Nanoscale Res. Lett. 2015. V. 10. № 1. P. 1. https://doi.org/10.1186/s11671-015-1063-4
- Khan A., Hussain M., Nur O. et al. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2014. V. 47. № 34. P. 1. https://doi.org/10.1088/0022-3727/47/34/345102
- Maikap A., Mukherjee K., Mondal B., Mandal N. // RSC Advances. 2016. V. 6. P. 64611. https://doi.org/10.1039/C6RA09598D
- Laha P., Nazarkin M., Volkova A.V. et al. // Appl. Phys. Lett. 2015. V. 106. P. 101904. https://doi.org/10.1063/1.4913909
- Li J.Y., Chen X.L., Li H. et al. // J. Cryst. Growth. 2001 V. 233. P. 5. https://doi.org/10.1016/S0022-0248(01)01509-3
- Tauc J., Scott T.A. // Phys. Today. 1967. V. 20. № 10. P. 105. https://doi.org/10.1063/1.3033945
- Musa I., Qamhieh N., Mahmoud S.T. // Res. in Phys. 2017. V. 7. P. 3552. https://doi.org/10.1016/j.rinp.2017.09.035
- Idiawati R., Mufti N., Taufiq A. et al. // IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng. 2017. V. 202. P. 012050. https://doi.org/10.1088/1757-899X/202/1/012050
- Zhang L., Cole J.M. // ACS Appl. Mater. and Interfaces. 2015. V. 7. P. 3427. https://doi.org/10.1021/am507334m
- Bojarski J.T., Mokrosz J.L., Barton H.J. et al. // Adv. Heterocycl. Chem. 1985. V. 38. P. 229. https://doi.org/10.1016/S0065-2725(08)60921-6
Дополнительные файлы