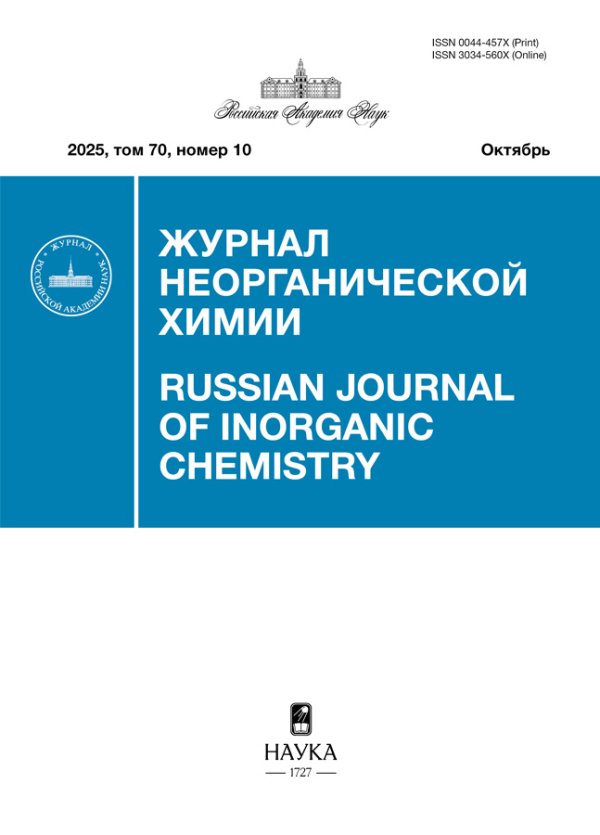Study of MoO3 and TixMoyOz thin films obtained by atomic layer deposition
- Authors: Maksumova A.M.1, Bodalyov I.S.2, Abdulagatov I.M.1, Rabadanov M.K.1, Abdulagatov A.I.1
-
Affiliations:
- Dagestan State University
- St. Petersburg State Institute of Technology
- Issue: Vol 69, No 1 (2024)
- Pages: 110-119
- Section: НЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И НАНОМАТЕРИАЛЫ
- URL: https://journal-vniispk.ru/0044-457X/article/view/257666
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044457X24010136
- EDN: https://elibrary.ru/ZYWEVC
- ID: 257666
Cite item
Full Text
Abstract
This work demonstrates ex situ characterization of molybdenum oxide (MoO3) and titanium–molybdenum oxide (TixMoyOz) thin films obtained at 150°C by atomic layer deposition using titanium tetrachloride (TiCl4), molybdenum oxotetrachloride (MoOCl4) and water. Atomic layer deposition of TixMoyOz was carried out using supercycles consisting of TiCl4/H2O and MoOCl4/H2O subcycles. Two types of TixMoyOz films were obtained in this work, where the ratio of subcycles was 1 : 1 (1Ti1MoO) and 1 : 7 (1Ti7MoO). The film growth rate was determined by spectroscopic ellipsometry and X-Ray reflectometry. The density and root-mean-square roughness of the films were also determined by X-Ray reflectometry. The composition of the films was determined by X-Ray photoelectron spectroscopy and found that the degree of oxidation of molybdenum in the MoO3 and 1Ti7MoO films was +6, and in the 1Ti1MoO film, molybdenum was found in the oxidation state of +5 and +6. X-Ray diffraction analysis showed that the films had an amorphous structure.
Full Text
Введение
Триоксид молибдена MoO3 является фоточувствительным непрямозонным полупроводником n-типа с шириной запрещенной зоны от 2.9 до 3.15 эВ в монокристаллах и обладает слоистой структурой [1]. Благодаря уникальному строению и связанным с ним свойствам [2] MoO3 может использоваться в различных областях твердотельной электроники [3], фотокатализе [4, 5], электрохромных и фотохромных устройствах [6], литий-ионных батареях [7], газовых сенсорах [8] и др. В свою очередь, смешанные титан-молибденовые оксиды востребованы в фотокатализе [9, 10]. Легированные молибденом пленки оксида титана демонстрируют улучшенные по сравнению с TiO2 фотокаталитические свойства в видимой части солнечного спектра [11], а также могут найти применение в качестве анода в литий-ионных аккумуляторах [12] и активного материала в газовых сенсорах [13] и др.
Данное исследование является продолжением работы [14], посвященной in situ исследованию процесса атомно-слоевого осаждения MoO3 и TixMoyOz с использованием TiCl4, MoOCl4 и H2O методом кварцевого пьезоэлектрического микровзвешивания (КПМ) в диапазоне температур 115–180°С. Метод атомно-слоевого осаждения (АСО), разработанный советскими учеными В.Б. Алесковским и С.И. Кольцовым [15, 16], является прецизионным методом, позволяющим получать однородные и высококонформные оксидные пленки различного состава [17]. Рост пленки в АСО осуществляется за счет повторяющихся поверхностных реакций. Вследствие цикличности процесса возможен контроль толщины осаждаемой пленки и прецизионное легирование. Несмотря на то, что в основе метода АСО лежат принципы, гарантирующие формирование на поверхности твердых тел моно- и полислоев заданного состава и строения, необходима идентификация состава и строения целевого продукта с использованием физико-химических методов [18]. Данная работа посвящена ex situ анализу полученных методом АСО пленок MoO3 и TixMoyOz с привлечением комплекса оптических и рентгеновских методов исследования. Пленки были проанализированы методами спектроскопической эллипсометрии (СЭ) [19–21], рентгеновской рефлектометрии (РР или метод отражения рентгеновских лучей), которая дает информацию о толщине, плотности и среднеквадратичной шероховатости получаемых тонких пленок [22–24], а также рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС), позволяющей определить элементный состав пленок и химическое состояние атомов на уровне 3–5 нм [25, 26].
Цель настоящей работы заключалась в выявлении химико-технологических подходов к синтезу методом АСО тонких пленок MoO3 и TixMoyOz путем определения закономерностей процесса роста от условий синтеза, в частности от выбранной химии поверхности, с привлечением in situ и ex situ методик анализа.
Экспериментальная часть
АСО оксидных пленок проводили на оборудовании компании OOO “АСО НаноТех” (Махачкала, Россия). Экспериментальная установка оборудована вакуумной камерой с горячими стенками, которая продувалась потоком инертного газа (газ-носитель). В процессе АСО прекурсоры напускали в поток газа-носителя для переноса в реакционную зону. Рост всех пленок проводили при 150°С. В качестве инертного газа использовали азот особой степени чистоты (ос. ч., ООО “Гермес-газ”, 99.999%). Давление в реакторе поддерживали азотом ~1.0 Торр. Чистота TiCl4 (CAS номер 7550450, Sigma-Aldrich) и MoOCl4 (CAS номер 13814750, Sigma-Aldrich) составляла ≥99.0 и 97.0% соответственно. MoOCl4 или TiCl4 загружали в контейнер для подачи реагента в перчаточном боксе в атмосфере аргона. Воду перед использованием деионизировали и дегазировали. Во время АСО MoOCl4 нагревали до 60°С для достижения достаточного давления паров сублимации. Температура плавления MoOCl4 составляет ~105°С [27]. Из литературных источников известно, что MoOCl4 термически нестабилен и при комнатной температуре медленно разлагается [28]. Несмотря на это, изменение цвета прекурсора после нагревания в контейнере до 60°С не наблюдалось.
Для осаждения пленок в качестве подложек использовали кремниевые пластины Si(100) размером 1.5 × 1.5 см со слоем естественного оксида кремния толщиной ~20 Å. До нанесения покрытий подложки последовательно очищали ацетоном, изопропанолом, деионизированной водой и высушивали в потоке N2 (ос. ч.). До начала осаждения подложки выдерживали в реакционной камере в течение ~30 мин для дегазации. До начала АСО TixMoyOz поверхность Si(100) покрывали в том же реакторе АСО-пленкой Al2O3 толщиной ~60 Å, для этого использовали триметилалюминий (ТМА) и H2O.
Данные рентгеновской рефлектометрии и рентгенодифракционного анализа (РДА) получены при помощи исследовательского комплекса Bruker D8 Discover. Для моделирования слоев в составе пленок для рентгеновской рефлектометрии использовали пакет программ Bruker Diffrac.Suite. Методом рентгеновской рефлектометрии была получена информация о толщине, плотности и среднеквадратичной шероховатости (RMS) пленок, а методом рентгенодифракционного анализа — информация об их кристаллической структуре.
С помощью РФЭС определяли атомный состав и энергию связей элементов в пленке. Данные РФЭС получены с использованием комплексного спектрометра Thermo Fisher Scientific Escalab 250Xi, снабженного монохроматическим рентгеновским AlKá-источником (1486.6 эВ) с энергией пропускания 100.0 эВ для обзорных спектров и 50.0 эВ для спектров высокого разрешения. Размер шага сканирования составлял 0.5 эВ для обзорных спектров и 0.1 эВ для спектров высокого разрешения. Все спектры были откалиброваны по пику C1s с центром при 284.8 эВ. Разложение спектральных фотоэлектронных линий проводили функцией Гаусса, фоновую составляющую вычитали методом Ширли. Удаление приповерхностного слоя ионами Ar+ до снятия спектров не проводили из-за возможной модификации химического состава пленок.
Многоволновой спектроскопический эллипсометр (Film Sense) использовали для определения толщины полученных тонких пленок на кремниевой подложке. Для моделирования слоев в пленках использовали программное обеспечение эллипсометра. Эллипсометрические измерения проводили следующим образом. Задавали сэндвич-модель: подложка — Si, первый слой — естественный оксид кремния толщиной 25 Å, второй слой — аморфный оксид алюминия толщиной 50 Å, третий слой — оксид титана толщиной x в случае пленок TixMoyOz и оксид молибдена толщиной x в случае пленок MoO3. Слои выбирали из имеющейся у эллипсометра базы данных. В используемой базе данных при длине волны света 630 нм для естественного SiO2 на кремнии показатель преломления составляет 1.46, для Al2O3 — 1.65, для TiO2 — 2.59, для MoO3 — 2.19. Эллипсометрические измерения проводили после определения состава пленок методом РФЭС и определения толщины, плотности и среднеквадратичной шероховатости пленок методом рентгеновской рефлектометрии. В случае пленок TixMoyOz, ввиду отсутствия точных данных о структуре пленок и низкого содержания молибдена в пленках, его содержанием пренебрегали. Толщина естественного оксида кремния на кремниевой подложке и затравочного слоя оксида алюминия была определена в предварительных экспериментах.
Время напуска и продувки прекурсоров во время одного цикла АСО MoO3 или суперцикла TixMoyOz составляло 1.0 и 30.0 с соответственно. Парциальное давление MoOCl4, TiCl4 и H2O при времени напуска 1.0 с составляло ~5, ~15 и ~50 м Торр соответственно.
Термохимические расчеты проводили с использованием программы HSC Chemistry (версия 9).
Результаты и обсуждение
Анализ АСО-пленок методами спектроскопической эллипсометрии, рентгеновской рефлекто- и дифрактометрии
Пленки МоО3. На рис. 1 приведены данные спектроскопической эллипсометрии зависимости толщины АСО-пленки от количества циклов АСО, полученные для пленок MoO3.
Рис. 1. СЭ-данные зависимости толщины пленок MoO3 от числа АСО-циклов на затравочном Al2O3.
На графике приведены значения толщины пленок, полученных с использованием 50, 150 и 200 циклов АСО. Как видно из рисунка, наблюдается увеличение толщины с увеличением количества циклов АСО, постоянная роста для пленки, полученной с использованием 200 циклов АСО, составила 0.15 Å/цикл. Для пленки, полученной в результате процесса с использованием 150 циклов АСО, постоянная роста составила 0.17 Å/цикл, а при количестве циклов АСО, равном 50, значение постоянной роста составило 0.4 Å/цикл. Таким образом, для данного процесса наблюдается тенденция уменьшения постоянной роста с увеличением количества циклов АСО и установления на значении ~0.15 Å/цикл, это объясняется тем, что на этапе нуклеации на затравочном слое Al2O3 постоянная роста выше, а по мере образования монослоя MoO3 на поверхности при установившемся режиме формирования пленки значение постоянной роста стабилизируется на одном уровне. Такой тип роста АСО-пленок ранее характеризовался как поверхностно-стимулированный [29].
Методом рентгеновской рефлектометрии была определена постоянная роста, среднеквадратичная шероховатость и плотность пленок MoO3, полученных на Si-подложке со слоем Al2O3 с использованием 200 циклов MoOCl4–H2O. Постоянная роста пленки МоО3 составила 0.2 Å/цикл, плотность — 3.9 г/см3, шероховатость — 9.2 Å. Для сравнения плотность кристаллического МоО3 составляет 4.69 г/см3 [27]. Полученные значения постоянной роста для АСО MoO3 методами СЭ и РР практически совпадают с расчетным значением, полученным с использованием плотности пленки и прироста массы за цикл из КПМ (7.0 нг/см2) [14], которое равно 0.18 Å/цикл. Данное значение также близко к значению 0.1 Å/цикл, ранее полученному для АСО MoO3 при 300°С с использованием тех же прекурсоров [30]. Постоянные роста, полученные с использованием MoOCl4 и H2O, ниже значений, полученных с использованием металлорганических (МО) прекурсоров, которые для термического АСО составляют 0.3–1.0 Å/цикл [31–33]. Это может быть связано с меньшей термической стабильностью МО-прекурсоров, что согласуется с присутствием в пленках примесей углерода и азота [31, 34]. Плотность полученной в данной работе пленки МоО3 близка к значению для пленки аморфного МоО3, полученной в работе [35] при помощи плазменно-стимулированного АСО при температуре 150°С (4.2 г/см3) с использованием (NtBu)2(NMe2)2Mo и плазмы O2.
РДА полученной нами МоО3 пленки показал, что она имеет аморфную структуру.
Пленки TixMoyОz. АСО TixMoyOz проводили с использованием суперциклов, состоящих из субциклов ТiCl4/H2O и MoOCl4/H2O. В работе получены два типа пленок TixMoyOz, в которых соотношение субциклов составляло 1 : 1 (1Ti1MoO) и 1 : 7 (1Ti7MoO).
На рис. 2 приведены данные СЭ-зависимости толщины пленок TixMoyОz от количества суперциклов.
Рис. 2. СЭ-данные зависимости толщины пленок TixMoyОz от числа АСО-суперциклов на затравочном Al2O3.
Наблюдается увеличение толщины с увеличением количества суперциклов АСО. Данные постоянной роста из СЭ составили 0.83 и 2.3 Å/суперцикл для 1Ti1MoО (150 суперциклов) и 1Ti7MoО (70 суперциклов) соответственно. Поскольку интерполяционные линии не проходят через начало координат, как и в случае АСО МоО3 на Al2O3, можно предположить поверхностно-стимулированный механизм роста [29].
Методом рентгеновской рефлектометрии были определены постоянная роста, среднеквадратичная шероховатость и плотность полученных пленок. Постоянная роста для пленки, полученной из процесса 1Ti1MoO с использованием 150 суперциклов АСО, составила 0.5 Å/суперцикл, плотность — 4.11 г/см3, шероховатость — 7.13 Å. Расчетное значение постоянной роста с использованием значения плотности пленки и прироста массы за суперцикл из КПМ (37.0 нг/см2) [14] составило 0.9 Å/суперцикл.
Постоянная роста для пленки, полученной из процесса 1Ti7MoO с использованием 70 суперциклов АСО, составила 1.55 Å/суперцикл, плотность — 4.47 г/см3, шероховатость — 8.52 Å. Ожидаемое значение постоянной роста для процесса 1Ti7MoO, полученное с использованием плотности пленки и прироста массы за суперцикл из КПМ (80.0 нг/см2) [14], составило 1.79 Å/суперцикл.
Таким образом, для пленок 1Ti1MoO и 1Ti7MoO значения постоянной роста, полученные методом спектроскопической эллипсометрии, немного выше значений, полученных методом рентгеновской рефлектометрии. Ожидаемые значения, рассчитанные с использованием данных КПМ, немного ниже данных постоянной роста, полученных методами СЭ и РР, это может быть связано с тем, что для расчета используется только прирост массы в устоявшемся режиме без учета нуклеационного периода на Al2O3.
Увеличение плотности пленок с 4.11 до 4.47 г/см3 при повышении количества субциклов MoOCl4/H2O объясняли увеличением концентрации молибдена. Для сравнения плотность аморфной АСО-пленки TiO2, полученной при схожих условиях с использованием TiCl4 и Н2О, составляет 3.7 г/см3 [36], а плотность пленки MoO3 равна 3.9 г/см3 (настоящая работа).
Рентгенодифракционный анализ показал, что полученные пленки имеют аморфную структуру.
РФЭС-анализ
АСО-пленки МоО3. Элементный состав полученных на затравочном слое Al2O3 пленок MoO3 определяли из обзорных спектров РФЭС. Анализ пленки толщиной 40 Å показал следующий состав: Mo3d (3.00 ат. %), Al2p (24.44 ат. %), O1s (51.57 ат. %), С1s (20.99 ат. %). Содержание атомов хлора в пленках было ниже чувствительности инструмента (~0.5 ат. %), что говорит о полноте реакций гидролиза. Присутствие атомов алюминия обусловлено тем, что Al2O3 осаждался на поверхность подложки в качестве затравочного слоя, а также тем, что толщина МоО3 меньше глубины пробы РФЭС, составляющей ~50 Å. Присутствие примесей углерода обусловлено загрязнением поверхности образцов при контакте с воздухом в промежутке между осаждением и анализом РФЭС, т. е. отсутствуют примеси, связанные с неполнотой поверхностной реакции, по сравнению с металлорганическими прекурсорами [31, 34], где для АСО MoO3 в качестве прекурсора молибдена использовали оксоамидинаты Mo(VI) в комбинации с O3 или O3/H2O, и сообщается об образовании частично азотированного оксида молибдена (MoONx) из-за примесей азота. В работе [33], где для АСО MoO3 использован b-дикетонат молибдена (MoO2(thd)2) в комбинации с O3, сообщается, что основной примесью в полученной пленке был водород (2–7 ат. %), а содержание С и N составляло ~1 ат. %. В работе [37] РФЭС-анализ АСО-пленок оксида молибдена, полученного с использованием (NtBu)2(NMe2)2Mo и O3, показал присутствие примесей азота на уровне 9 ат. %, а содержание примесей углерода и водорода составляло ~1 ат. %. Присутствие примесей может влиять на свойства полученных пленок.
Для детального определения химического состояния молибдена в полученных пленках было выполнено РФЭС-сканирование высокого разрешения в области спектральных линий 3d-уровня Мо. На рис. 3 приведен спектр РФЭС для АСО-пленки МоО3 (на Al2O3), полученной при температуре 150°С с использованием MoOCl4 и Н2О. В спектре остовных уровней Mo 3d преобладает спин-орбитальный дублет Mo3d3/2–Mo3d5/2. Позиция пика Mo3d5/2 с энергией связи 233.2 эВ находится в пределах литературных значений для МоО3, где Mo имеет степень окисления +6 [38]. Позиция пика Mo3d3/2 с энергией связи 236.3 эВ [39] также находится в пределах литературных значений для Mo6+, что соответствует степени окисления молибдена в прекурсоре (MoOCl4).
Рис. 3. РФЭС-спектр линии Mo3d высокого разрешения с моделями для пленки MoO3, полученной при 150 оС с использованием MoOCl4 и Н2О.
Из литературных данных РФЭС-анализ пленок оксида молибдена, полученных с использованием (NtBu)2(NMe2)2Mo(VI) [35], MoO2(tBuAMD)2(VI) [31], Mo(ethylbenzene)2(II) и Н2О [40], МоО2(thd)2(VI) и O3 [33], указывает на смещение пиков Мо3d, связанное с частичным восстановлением молибдена (для (NtBu)2(NMe2)2Mo, MoO2(tBuAMD)2 и МоО2(thd)2(VI)) и частичным окислением (для Mo(ethylbenzene)2(II)) до степени окисления +4, +5, что говорит о неидеальности выбранной в этих работах химии поверхности для роста МоО3.
РФЭС-сканы высокого разрешения, полученные в области энергий связи атомов кислорода (O 1s) для пленок MoO3, показали синглетный пик с энергией связи 531.5 эВ, что можно отнести к связи Al–OH, пик для которой, по данным [41], наблюдается при энергии связи 531.3–531.4 эВ, а также к адсорбированной молекулярной воде и/или связи О–Н [42].
АСО-пленки TixМоyОz. РФЭС-анализ пленки 1Ti1MoO толщиной 75 Å показал следующий состав: Ti 2p (27.12 ат. %), Mo 3d (0.24 ат. %), O 1s (48.94 ат. %), Al 2p (4.11 ат. %), С 1s (19.6 ат. %), а пленки 1Ti7MoO толщиной 108.5 Å — Ti 2p (20.61 ат. %), Mo 3d (4.02 ат. %), O 1s (50.72 ат. %), Al 2p (4.24 ат. %), С 1s (20.41 ат. %). Для обоих типов пленок содержание титана превышает содержание молибдена. Увеличение количества субциклов MoOCl4/H2O от одного (1Ti1MoО) до семи (1Ti7MoО) приводит к увеличению концентрации молибдена в ~ 16.8 раз. Содержание атомов хлора в пленках ниже чувствительности инструмента (< 0.5 ат. %). Присутствие атомов алюминия обусловлено предварительным осаждением на подложку Al2O3, служившего в качестве затравочного слоя.
Исходя из полученных РФЭС-данных, вычислили расчетную плотность пленок TixMoyOz по правилу смесей:
(1)
где w1 и w2 — массовые доли атомов Ti и Mo в пленках соответственно, полученные методом РФЭС (настоящая работа); r1 и r2 — плотность АСО-пленок оксидов титана и молибдена соответственно. Из уравнения (1) получили значения 3.7 и 3.75 г/см3 для пленок 1Ti1MoО и 1Ti7MoО соответственно.
Используя основанное на правиле смесей уравнение, предложенное в работе [43], рассчитали атомную долю молибдена в полученных пленках:
(2)
где Dmsub (нг/см2) — прирост массы за субцикл (КПМ-данные работы [14] (для 1Ti1MoO Dmsub,Ti–O = = 17.0 нг/см2, Dmsub,Mo–O = 20.0 нг/см2; для 1Ti7MoO Dmsub,Ti–O = -2.0 нг/см2 и Dmsub,Mo–O = 82.0 нг/см2)), М — молярная масса, рассчитали значение относительной концентрации (cКПМ) молибдена в 1Ti1MoО, равное 0.566, что отличается от РФЭС-данных для 1Ti1MoО (0.009). Отклонение от правила смесей наблюдали и в других схожих АСО-процессах [36, 44–46]. Среди причин такого поведения систем называют эффект “конверсии” [47, 48] и связанные с ним процессы травления. Процесс конверсии в данном случае может протекать на стадии напуска TiCl4 по схеме: MoO3 + TiCl4(г) → TiO2 + MoOCl4(г), DG(150oC) = -5.5 ккал/моль и/или 2MoO3 + + TiCl4(г) → TiO2 + 2MoO2Cl2(г), DG(150oC) = = -6.4 ккал/моль (в перерасчете на один атом молибдена DG(150oC) = -3.2 ккал/моль). Обе реакции термодинамически разрешимы, при этом формирование MoOCl4 более выгодно, т. е. наряду с осаждением пленки происходит ее травление с переходом Мо в газовую фазу в результате перехода хлор-лигандов TiCl4. Данными процессами травления ранее мы объясняли наблюдаемую на КПМ потерю массы после дозирования TiCl4 (вместо ожидаемого прироста) в процессе АСО 1Ti7MoO [14]. Из данных РФЭС можно предположить, что процессы конверсии происходят и в ходе АСО 1Ti1MoO, хотя на КПМ и не наблюдалось явной потери массы во время напуска TiCl4 [14]. Согласно расчетам, удаление титана в газовую фазу в результате перехода хлор-лигандов MoOCl4 является термодинамически невыгодным процессом.
Расчетным путем оценили количество удаляемого в газовую фазу MoO3 во время субцикла TiCl4/H2O в процессе АСО 1Ti1MoO и 1Ti7MoO. Если предположить, что на субцикле ТiCl4/Н2О наряду с присоединением оксида титана происходит стравливание оксида молибдена в количестве Ämetch,Mo–O, нг/см2, то массу последнего можно вычислить по уравнению
(3)
где cРФЭС — относительная концентрация Mo из РФЭС (0.009 для 1Ti1MoO и 0.163 для 1Ti7MoO).
Для 1Ti1MoO Dmetch,Mo–O = 19.4 нг/см2, что составляет 97% от общего количества присоединенного молибдена на субцикле MoOCl4/H2O, а для 1Ti7MoO Dmetch,Mo–O = 61.2 нг/см2 (75% от общего количества). Согласно уравнению реакции травления (MoO3 + + TiCl4(г) → TiO2 + MoOCl4(г)), стравливание оксида молибдена должно привести к образованию такого же количества оксида титана, масса которого составит 10.8 нг/см2 в случае 1Ti1MoO и 33.9 нг/см2 для 1Ti7MoO. Общий же прирост массы за суперцикл TiCl4/H2O складывается из массы оксида титана, образовавшегося после процесса конверсии, и массы оксида титана, осажденного по АСО-механизму за вычетом стравленного оксида молибдена: Dmsub,Ti–O = = Dmconv,sub,Tio–O + DmALD,sub,Tio–O – Dmetch,Mo–O. Таким образом, за счет традиционного АСО в случае 1Ti1MoO осаждается 25.6 нг/см2 TiO2, а в случае 1Ti7MoO — 25.3 нг/см2. Эти значения близки к величине прироста массы в процессе АСО TiO2 с использованием TiCl4 и H2O при схожих условиях (22.0 нг/см2). Видно, что процесс конверсии (травления) наблюдается как в случае АСО 1Ti1MoO, так и в случае пленки 1Ti7MoO. Таким образом, процесс конверсии (травления) позволяет объяснить отклонение cКПМ от cРФЭС .
Спектральные данные и модели линий остовного уровня Mo 3d для пленок 1Ti1MoO и 1Ti7MoO представлены на рис. 4а и 4б соответственно. Для пленки 1Ti1MoO Mo3d5/2 можно разложить на два пика с энергиями связи 232.7 и 231.8 эВ, что согласуется с литературными данными для Mo+6 [38] и Mo+5 [38] соответственно. Также для данной пленки Mo3d3/2 разложили на два пика с энергиями связи 235.9 эВ (Mo+6) [49] и 234.9 эВ (Mo+5) [50].
Рис. 4. РФЭС-спектр линии Mo 3d высокого разрешения с моделями для пленок: а — 1Ti1MoO и б — 1Ti7MoO, полученных при 150оС.
Для пленки 1Ti7MoO позиции пика Mo 3d5/2 с энергиями связи 233.05 [38] и 232.2 эВ [50], а также позиции пика Mo3d3/2 с энергиями связи 235.35 [50] и 236.15 эВ [51] находятся в пределах литературных значений, характерных для Mo+6.
РФЭС-сканы высокого разрешения, полученные в области энергий связи атомов титана (450–480 эВ, Ti 2p) для 1Ti1MoO и 1Ti7MoO, показали синглетный пик с энергией связи 458.8 эВ, что находится в пределах литературных значений для пленок TiO2 и соответствует Ti+4 в TiCl4 [52].
РФЭС-сканы высокого разрешения атомов кислорода показали синглетные пики с энергиями связи 530.2 и 530.4 эВ соответственно. Это отвечает O–2, связанному с атомами молибдена (530.317 эВ) [32] и/или титана (529.9 эВ) [42]. Полученные данные также согласуются с энергиями связи Al–O (530.3–530.4 эВ) для АСО-пленок Al2O3, полученных с использованием тех же прекурсоров [41].
На РФЭС-сканах высокого разрешения атомов углерода пленок MoO3 и TixMoyOz обнаружены пики с энергией связи в пределах 284.8–284.9 эВ, которые, как известно из данных [41, 53], относятся к связям C–О и/или C–H. Пики, наблюдаемые в диапазоне энергий связи 286.1–286.2 и 288.6–288.9 эВ, как правило, относят к связям C–O и C=O, а пики при энергии связи 291.8–291.9 эВ, предположительно, соответствуют переходу ð → ð* (291.5 эВ) [54].
Позиции пиков 3d-уровня Мо для пленок MoO3 и 1Ti7MoO отличаются от пленки 1Ti1MoO, где наблюдаются пики частично восстановленного молибдена Mo+6 до Mo+5. Проведенный для пленки 1Ti1MoO анализ пиков 3d-уровня Mo с учетом их площади и ширины позволяет сделать вывод о том, что соотношение Mo+6 и Mo+5 составляет ~1.5 : 1. В данном случае относительная концентрация Мо+6 выше концентрации Mo+5, но она может быть завышена из-за возможного окисления на воздухе [50] верхних слоев пленок. Для сравнения в нашей предыдущей работе по АСО AlxMoyOz с использованием ТМА, МоOCl4 и Н2О [55] молибден в пленках частично восстанавливался до +5 и +4. Признаков восстановления молибдена в пленке 1Ti7MoO не обнаружено (возможно из-за предела чувствительности инструмента). С увеличением количества субциклов MoOCl4–H2O процессы восстановления в пленках TixMoyOz становятся менее выраженными.
Отклонение механизма поверхностных реакций от идеализированной схемы, представленной в работе [14], сопровождаемое восстановлением молибдена, может быть связано с формированием поверхностных комплексов (–O)хTi ← :O=MoCl4 (рис. 5), вследствие образования ковалентной связи между неподеленной электронной парой атома кислорода в молекуле MoOCl4 с вакантными d-орбиталями атомов титана по донорно-акцепторному механизму. При образовании подобной связи при АСО 1Ti1MoO есть вероятность переноса электронной плотности с атома кислорода на атом молибдена и гетеролитического разрыва связи в Mo=O-группе, что может привести к восстановлению Mo с +6 до +5. Подобные эффекты в АСО ранее рассмотрены на примере P=O: → Ti и P=O: → V поверхностных донорно-акцепторных комплексов и подробно описаны в работе [56].
Рис. 5. Предлагаемая схема образования связи по донорно-акцепторному механизму в пленках TixMoyOz с восстановлением молибдена.
По предложенному выше механизму во время стадии напуска MoOCl4 открывается возможность замещения еще двух лигандов хлора (с учетом того, что два из четырех хлор-лигандов MoOCl4, хемосорбированного по донорно-акцепторному механизму, вступают в реакцию замещения с парами H2O, а два расходуются на образование мостиковых связей), и можно объяснить наблюдаемое на КПМ увеличение прироста массы в процессе АСО MoO3 с 7.0 до 20.0 нг/см2 во время АСО TixMoyOz [14].
Заключение
С привлечением комплекса рентгеновских и оптических методов анализа исследованы физико-химические аспекты роста молибденоксидных и титан-молибденовых оксидных АСО-пленок, полученных с использованием TiCl4, MoOCl4 и H2O. MoOCl4 показал относительно высокую реакционную способность в процессах роста TixMoyOz в сравнении с МоО3 и, соответственно, перспективность его использования для получения других смешанных оксидов. Данное изменение в реакционности, возможно, связано с формированием связи по донорно-акцепторному механизму между атомами кислорода (:O=) оксомолибденовой группировки и атомами Ti. Однако реакция TiCl4 с молибденоксидной поверхностью ведет к удалению молибдена в газовую фазу (согласно расчетам, в форме MoOCl4 и/или МоО2Cl2) за счет перехода лигандов Cl от Ti к Мо. Это приводит к отклонению от правила смесей и в итоге к снижению относительной концентрации Mo в получаемых пленках. Анализ состава полученных пленок МоО3 показал присутствие Мо только в степени окисления +6, а в случае TixMoyOz — частичное восстановление Мо+6 до Мо+5 в процессе АСО 1Ti1MoO. Предположительно, восстановление молибдена происходит за счет разрыва двойной связи в оксогруппе MoOCl4 после формирования донорно-акцепторных связей.
Финансирование работы
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (государственное задание FZNZ-2020-0002).
Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
About the authors
A. M. Maksumova
Dagestan State University
Email: ilmutdina@gmail.com
Russian Federation, Makhachkala, 367000
I. S. Bodalyov
St. Petersburg State Institute of Technology
Email: ilmutdina@gmail.com
Russian Federation, Saint Petersburg, 190013
I. M. Abdulagatov
Dagestan State University
Author for correspondence.
Email: ilmutdina@gmail.com
Russian Federation, Makhachkala, 367000
M. Kh. Rabadanov
Dagestan State University
Email: ilmutdina@gmail.com
Russian Federation, Makhachkala, 367000
A. I. Abdulagatov
Dagestan State University
Email: ilmutdina@gmail.com
Russian Federation, Makhachkala, 367000
References
- Goodenough J.B. Chemistry and Uses of Molybdenum. Colorado: Climax Molybdenum Corp., 1982.
- Deb S.K. Physical Properties of a Transition Metal Oxide: Optical and Photoelectric Properties of Single Crystal and Thin Film Molybdenum Trioxide. London: Proc. R. SOC., 1968.
- Jiang Y., Yan X., Cheng Y. et al. // RSC Advances. 2019. V. 9. № 23. P. 13207. https://doi.org/10.1039/C8RA10232E
- Chen Y., Lu Ch., Xu L. et al. // Cryst. Eng. Comm. 2010. V. 12. P. 3740. https://doi.org/10.1039/C000744G
- Huang L., Hu L., Zhang R. et al. // Appl. Surf. Sci. 2013. V. 283. P. 25. 10.1016/j.apsusc.2013.05.106
- Lin Sh.-Yu., Wang Ch.-M., Kao K.-Sh. et al. // J. Sol-Gel Sci. Technol. 2010. V. 53. № 1. P. 51. http://dx.doi.org/10.1007/s10971-009-2055-6
- Mai L., Hu B., Chen W. et al. // Adv. Mater. 2007. V. 19. № 21. P. 3712. https://doi.org/10.1002/adma.200700883
- Rahmani M.B., Keshmiri S.H., Yu J. et al. // Sensor. Actuat. B-Chem. 2010. V. 145. № 1. P. 13. https://doi.org/10.1016/J.SNB.2009.11.007
- Huang J-G., Guo Xu-T., Wang B. et al. // J. Spectrosc. 2015. V. 2015. P. 681850. https://doi.org/10.1155/2015/68185010.
- Liu H., Ting L., Zhu Ch., Zhu Zh. // Sol. Energy Mater. Sol. Cells. 2016. V. 153. P. 1. https://doi.org/10.1016/j.solmat.2016.04.013
- Sreedhar M., Brijitta J., Reddy I.N. et al. // Surf. Interface Anal. 2017. V. 50. № 2. P. 171. https://doi.org/10.1002/sia.6355
- Zhang J., Huang T., Zhang L., Yu A. // J. Phys. Chem. C. 2014. V. 118. № 44. P. 25300. https://doi.org/10.1021/jp506401q
- Galatsis K., Li Y.X., Wlodarski W. et al. // Sensor. Actuat. B-Chem. 2002. V. 3. №1–3. P. 276. https://doi.org/10.1016/S0925-4005(01)01072-3
- Максумова А.М., Абдулагатов И.М., Палчаев Д.К. и др. // Журн. физ. химии. 2022. Т. 96. Вып. 10. С. 1490. https://doi.org/10.31857/S0044453722100181
- Кольцов С.И., Алесковский В.Б. // Тез. докл. Науч.-техн. конф. ЛТИ им. Ленсовета. Ленинград. 1965. С. 67.
- Малыгин А.А. // Сб. тез. докл. III Междунар. семинара “Атомно-слоевое осаждение: Россия, 2021”. СПб., 2021. С. 13.
- George S.M. // Chem. Rev. 2010. V. 110. № 1. P. 111. https://doi.org/10.1021/cr900056b
- Соснов Е.А., Малков А.А., Малыгин А.А. // Журн. прикл. химии. 2021. T. 94. № 8. С. 967. https://doi.org/10.31857/S0044461821080028
- Кольцов С.И., Громов В.К., Алесковский В.Б. Исследование методом иммерсионной эллипсометрии системы монокристаллический кремний — сверхтонкий слой оксида титана, синтезированный методом молекулярного наслаивания. Эллипсометрия — метод исследования поверхности. Новосибирск: Наука, 1983.
- Громов В.К., Кольцов С.И. Аномальное поведение эллипсометрических параметров системы подложка — титанкислородный слой, наблюдаемое в процессе синтеза слоя методом молекулярного наслаивания на поверхности диэлектриков, полупроводников, металлов. Эллипсометрия — метод исследования поверхности. Новосибирск: Наука, 1983.
- Кольцов С.И., Яковлев А.С., Бухалов Л.Л. // Поверхность. 1992. T. 5. C. 75.
- Sintonen S., Ali S., Ylivaara O.M.E. et al. // J. Vac. Sci. Technol., A. 2014. V. 32. № 1. P. 01A111. https://doi.org/10.1116/1.4833556
- Ishi D., Ishikawa K., Numazawa M. et al. // Appl. Phys. Express. 2020. V. 13. P. 087001. https://doi.org/10.35848/1882-0786/aba7a5
- Jensen J.M., Oelkers A.B., Toivola R. et al. // Chem. Mater. 2002. V. 14. № 5. P. 2276. https://doi.org/10.1021/cm011587z
- Kokkonen E., Kaipio M., Nieminen H.-E. et al. // Rev. Sci. Instrum. 2022. V. 93. P. 01390. https://doi.org/10.1063/5.0076993
- Motamedi P., Cadien K. // Appl. Surf. Sci. 2014. V. 315. P. 104. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2014.07.105
- Haynes W.M. CRC Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton: CRC, 2014.
- Pershina V., Fricke B. // Russ. J. Phys. Chem. 1995. V. 99. № 1. P. 144.
- Puurunen R.L., Vandervorst W. // J. Appl. Phys. 2004. V. 96. № 12. P. 7686. http://dx.doi.org/10.1063/ 1.1810193
- Kvalvik J.N., Borgersen J., Hansen P.-A. et al. // J. Vac. Sci. Technol. A. 2020. V. 38. P. 042406. https://doi.org/ 10.1116/6.0000219#suppl
- Mouat A.R., Mane A.U., Elam J.W. et al. // Chem. Mater. 2016. V. 28. № 6. P. 1907. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.6b00248
- Diskus M., Nilsen O., Fjellva H. // J. Mater. Chem. 2011. V. 21. P. 705. https://doi.org/10.1039/C0JM01099E
- Mattinen M., King P.J., Khriachtcheva L. et al. // Mater. Today Chem. 2018. V. 9. P. 17. https://doi.org/10.1016/j.mtchem.2018.04.005
- Jurca T., Peters A.W., Mouat A.R. et al. // Dalton Trans. 2017. V. 46. P. 1172. https://doi.org/10.1039/C6DT03952A
- Vos M.F.J., Macco B., Thissen N.F.W. et al. // J. Vac. Sci. Technol. A. 2016. V. 34. P. 01A103. https://doi.org/10.1116/1.4930161
- Абдулагатов А.И., Максумова А.М., Палчаев Д.К. и др. // Журн. прикл. химии. 2021. Т. 94. № 7. С. 835. https://doi.org/10.1134/S1070427221070053
- Abdulagatov A.I., Maksumova A.M., Palchaev D.K. et al. // Russ. J. Appl. Chem. 2021. V. 94. № 7. P. 890. https://doi.org/10.1134/S1070427221070053
- Bertuch A., Sundaram G., Saly M. et al. // Vac. Sci. Technol. A. 2014. V. 32. № 1. P. 01A119. https://doi.org/10.1116/1.4843595
- Plyuto Yu.V., Babich I.V., Plyuto I.V. et al. // Appl. Surf. Sci. 1997. V. 119. № 1–2. P. 11.
- Światowska-Mrowiecka J., de Diesbach S., Maurice V. et al. // J. Phys. Chem. C. 2008. V. 112. P. 11050. https://doi.org/10.1021/jp800147f
- Drake T.L., Stair P.C. // J. Vac. Sci. Technol. A. 2016. V. 34. P. 051403. https://doi.org/10.1116/1.4959532
- Iatsunskyi I., Kempiński M., Jancelewicz M. et al. // Vacuum. 2015. V. 113. P. 52. https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2014.12.015
- Potlog T., Dumitriu P., Dobromir M. et al. // MSEB. 2014. V. 4. № 6. P. 163. 10.17265/2161-6221/2014.06.004
- Larsson F., Keller J., Primetzhofer D. et al. // J. Vac. Sci. Technol. A. 2019. V. 37. № 3. P. 030906. https://doi.org/10.1116/1.5092877
- Mackus A.J.M., Schneider J.R., MacIsaac C. et al. // Chem. Mater. 2019. V. 31. № 4. P. 1142. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.8b02878
- Coll M., Napari M. // Appl. Mater. 2019. V. 7. № 11. P. 110901. https://doi.org/10.1063/1.5113656
- Абдулагатов А.И., Максумова А.М., Палчаев Д.К. и др. // Журн. общ. химии. 2022. Т. 92. № 8. С. 1310. https://doi.org/10.31857/S0044460X22080182
- Abdulagatov A.I., Maksumova A.M., Palchaev D.K. et al. // Russ. J. Gen. Chem. 2022. V. 92. № 8. P. 1498. https://doi.org/10.31857/S0044460X22080182
- Du Mont J.W., Marquardt A.E., Cano A.M., George S.M. // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2017. V. 9. № 11. P. 10296. https://doi.org/10.1021/acsami.7b01259
- Myers T.J., Cano A.M., Lancaster D.K. et al. // J. Vac. Sci. Technol. A. 2021. V. 39. № 2. P. 021001. https://doi.org/10.1116/6.0000680
- Baltrusaitis J., Mendoza-Sanchez B., Fernandez V. et al. // Appl. Surf. Sci. 2015. V. 326. P. 151. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2014.11.077
- Choi J.G., Thompson L.T. // Appl. Surf. Sci. 1996. V. 93. № 2. P. 143. https://doi.org/10.1063/1.370690
- Patterson T.A., Carver J.C., Leyden D.E., Hercules D.M. // J. Phys. Chem. 1976. V. 80. P. 1700. https://doi.org/10.1021/j100556a011
- Lee S.Y., Jeon Ch., Kim S.H. et al. // Jpn. J. Appl. Phys. 2012. V. 51. P. 031102. https://doi.org/10.1143/JJAP.51.031102
- Haeberle J., Henkel K., Gargouri H. et al. // Beilstein J. Nanotechnol. 2013. V. 4. P. 732. https://doi.org/10.3762/bjnano.4.83
- Park J., Back T., Mitchel W.C. et al. // Sci. Rep. 2015. V. 5. № 1. P. 14374. https://doi.org/10.1038/srep14374
- Максумова А.М., Бодалев И.С., Сулейманов С.И. и др. // Неорган. материалы. 2023. T. 59. № 4. C. 384. https://doi.org/10.31857/S0002337X2304005X
- Малыгин А.А. // Журн. общ. химии. 2002. T. 72. № 4. C. 617.
Supplementary files