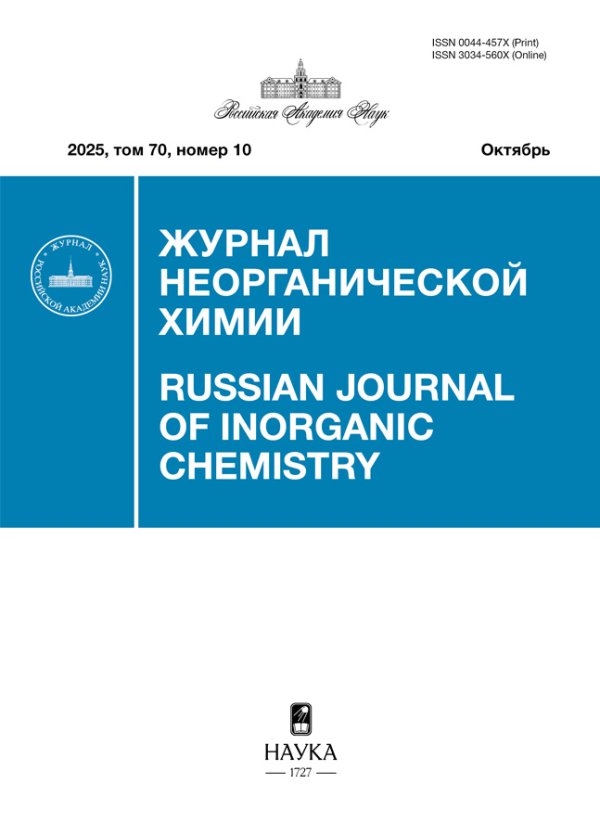Исследование структуры и свойств магнитных нанопорошков твердых растворов магнетит-маггемитового ряда методом МУРПН
- Авторы: Шилова О.А.1, Коваленко А.С.1, Николаев А.М.1, Хамова Т.В.1, Кручинина И.Ю.1, Копица Г.П.1,2
-
Учреждения:
- Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН
- Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ "Курчатовский институт"
- Выпуск: Том 69, № 3 (2024)
- Страницы: 350-363
- Раздел: СТРУКТУРА, МАГНИТНЫЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ
- URL: https://journal-vniispk.ru/0044-457X/article/view/262879
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044457X24030096
- EDN: https://elibrary.ru/YDZPDI
- ID: 262879
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Осаждением из водных растворов и золь-гель методом синтезированы нанопорошки магнетит-маггемитового ряда и выполнено сравнительное комплексное исследование их структуры методами рентгенофазового анализа, растровой электронной микроскопии, низкотемпературной адсорбции азота и малоуглового рассеяния поляризованных нейтронов. Установлено, что полученные нанопорошки оксидов железа являются пористыми системами, обладающими в зависимости от метода синтеза одноуровневой, двухуровневой (для порошков, полученных водным синтезом) или трехуровневой (для порошков, полученных золь-гель методом) иерархической организацией структуры с разным масштабом и разным типом агрегации для каждого из структурных уровней, причем характерный размер для большего по размеру уровня в обоих случаях >45 нм. Выявлено, что магнитная структура полученных порошков оксидов железа независимо от метода синтеза состоит из суперпарамагнитных частиц с характерным радиусом магнитных RМ ~ 4 нм и магнитно-ядерных кросс-корреляций RMN ~ 3 нм для порошков, полученных золь-гель методом, и RM ~ 5–11 нм, RMN ~ 4–8 нм для порошков, полученных водным синтезом, в зависимости от условий получения.
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Метод получения магнитных наночастиц посредством осаждения из водных растворов солей давно и широко используется на практике [1–6]. Его достоинства связаны прежде всего с простотой используемых технологических операций, доступностью исходных материалов и небольшим влиянием на окружающую среду [1]. Полученные наночастицы не требуется отмывать от органических растворителей, они не содержат вредных токсичных примесей. Это особенно важно при использовании порошков в медицине и сельском хозяйстве. Процесс также можно масштабировать, например, используя микрореакторы с интенсивно закрученными потоками [7]. Основным недостатком этого метода, как, впрочем, и других жидкофазных методов синтеза нанопорошков, является существенная зависимость их структуры и свойств от условий синтеза на всех этапах этого процесса (выбор и соотношение исходных компонентов, режим осаждения, извлечение из маточного раствора, промывка, сушка, термообработка). Несмотря на большое число исследований по получению магнитных нанопорошков магнетита и маггемита, в научной литературе отсутствуют четкие указания для надежного управления их формой, размером, фазовым составом, надатомной структурой и магнитными свойствами. Следует отметить, что при синтезе осаждением из водных растворов солей железа(II, III) на воздухе без добавления реагентов окислителей или восстановителей сложно получить нанопорошки магнитных наночастиц, состав которых соответствует чистой фазе маггемита или магнетита. Как показали наши многолетние исследования, в этих условиях, как правило, образуются наночастицы, отвечающие фазовому составу твердых растворов магнетит-маггемитового ряда [8, 9].
Используя классические методы исследований (рентгенофазовый анализ, сканирующую и просвечивающую электронную микроскопию, ИК-спектроскопию, низкотемпературную адсорбцию азота), практически невозможно количественно охарактеризовать надатомную структуру нанопорошков и тип агрегации, что важно для их воспроизводимого синтеза и применения на практике. В то же время такую возможность предоставляют методы малоуглового рассеяния рентгеновских лучей (МУРР) и нейтронов (МУРН) [10–14]. Так, авторы [15] отмечают прорывную роль метода МУРН для золь-гель синтеза и исследования композитов с заданными морфологическими особенностями.
Еще бóльшие трудности возникают при необходимости охарактеризовать магнитную надатомную структуру нанопорошков. Для исследования структуры наноразмерных порошков, в том числе оксидов железа, как правило, используют методы сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа и мессбауэровской спектроскопии. Однако они не дают информацию о пространственном распределении и характере спиновых корреляций в исследуемом материале, хотя она важна для характеризации структуры. В то же время данную информацию можно получить, используя метод МУРН, в первую очередь метод малоуглового рассеяния поляризованных нейтронов (МУРПН) [16–18], в том числе определяя вклад магнитно-ядерной интерференции в образце нанопорошка [19–24].
Для магнитных нанопорошков, соответствующих составу твердых растворов магнетит-маггемитового ряда с различным соотношением катионов Fe2+/Fe3+, нам удалось обнаружить лишь несколько аналогичных исследований [25–27], посвященных изучению их ядерной и магнитной мезоструктуры, в том числе с учетом оценки магнитно-ядерной составляющей. В то же время именно особенности строения магнитной надатомной структуры и ее связь с фазовым составом и морфологией наночастиц, их текстурой и магнитными свойствами представляют интерес для целевого использования наночастиц, например в медицине и агротехнологиях [28–36].
Целью данного исследования было методом МУРПН количественно охарактеризовать ядерные и магнитные надатомные структуры нанопорошков магнетит-маггемитового ряда, сопоставить эти данные с характеристиками, полученными ранее классическими методами исследования, проанализировать влияние условий синтеза (соосаждение из водных растворов, золь-гель метод) нанопорошков и сравнить их с характеристиками нанопорошков природного и коммерческого магнетита.
Для решения указанной задачи мы опирались на массив данных, полученных нами ранее в результате исследования структуры и свойств нанопорошков оксидов железа маггемит-магнетитового ряда, синтезированных осаждением из водных растворов и золь-гель методом, а также образцов сравнения – коммерческого нанопорошка магнетита и диспергированного природного минерала магнетита [8, 13, 23, 31].
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Описание объектов исследования. Нами синтезированы и исследованы магнитные нанопорошки оксидов железа, полученные двумя способами: совместным осаждением из водных растворов и золь-гель методом. В процессе синтеза как осаждением из водных растворов хлоридов железа(II, III) водным раствором аммиака, так и по золь-гель технологии из раствора нитрата железа(III) в этиленгликоле использовали различные технологические приемы, чтобы сдвинуть процесс синтеза в сторону получения магнитного нанопорошка одной из фаз – магнетита или маггемита (табл. 1) [8, 9, 23, 30, 31]. Так, в процессе осаждения из водных растворов применяли несколько разных технологических приемов воздействия на формирующиеся наночастицы: гомогенизацию реакционной смеси с помощью ультразвука, барботирование аргоном при небольшом нагреве, модификацию осадка олеиновой кислотой и длительное выдерживание осадка в маточном растворе. В двух случаях синтез нанопорошков золь-гель методом осуществляли в одинаковых условиях, но термообработку при высокой температуре проводили как в вакууме, так и на воздухе.
Таблица 1. Описание особенностей синтеза магнитных нанопорошков оксидов железа, полученных разными методами
Маркировка | Осаждение из водных растворов солей FeCl2 и FeCl3 водным раствором аммиака | Состав | |||
этап: осаждение | этап: извлечение из маточного раствора, сушка | цвет порошка | |||
С/О 1 | Ультразвук 240 Вт, 40 кГц, 30 мин | Оранжево-коричневый | γ-Fe2O3 | ||
С/О 2 | Барботирование аргоном, t = 60°C | Коричневый | Твердый раствор γ-Fe2O3–Fe3O4 | ||
С/О 3 | Барботирование аргоном, t = 60°C | Коричневый | Твердый раствор γ-Fe2O3–Fe3O4@OleicAcid | ||
С/О 4 | Магнитная мешалка, созревание в маточном растворе в течение 16 ч [8, 9, 30, 31] | Темно-коричневый | Твердый раствор Fe3O4–γ-Fe2O3 | ||
Маркировка | Золь-гель синтез из раствора Fe(NO3)3 · 9H2O в этиленгликоле C2H4(OH)2 | Состав | |||
этап: получение золя | этап: золь-гель переход | этап: сушка и термообработка | цвет порошка | ||
З/Г 5 | Магнитная мешалка, t = 40°C, 2 ч [23] | t = 80°C, ~30 мин [23] | Сушка, t = 120°C, 4 ч, термообработка в вакууме, t = 300°C, 2 ч [23] | Черный | Fe3O4 |
З/Г 6 | Магнитная мешалка, t = 40°C, 2 ч [23] | t = 80°C, ~30 мин [23] | Сушка, t = 120°C, 4 ч, термообработка в вакууме, t = 300°C, 2 ч, термообработка на воздухе, t = 300°C, 30 мин [23] | Красно-коричневый | g-Fe2O3 с примесью гематита |
Примечание. Объектами сравнения служили коммерческий нанопорошок магнетита (SigmaAldrich, CAS № 1317-61) и природный минерал магнетит из Койкарского месторождения (Карелия, Россия), предварительно измельченный до нанометрового уровня дисперсности.
Было выполнено комплексное исследование физико-химических свойств этих нанопорошков. Основные характеристики нанопорошков представлены в табл. 2.
Таблица 2. Характеристики нанопорошков оксидов железа, полученных осаждением из водных растворов солей железа и золь-гель методом, в сравнении с коммерческим и природным магнетитом и литературными данными
Маркировка (см. табл. 1) | Наименование методов исследования | |||||
РФА | СЭМ, ПЭМ | Низкотемпературная адсорбция азота | ||||
параметр элементарной ячейки a*, Å | ОКР, нм | размер частиц/размер агломератов, нм | удельная площадь поверхности SBET, м2/г | удельный объем пор VP/P0 → 0.995, см3/г | форма и средний диаметр пор, нм | |
С/О 1 | 8.341(4) | 14 | ~10–20/150 | 80.9 ± 1.4 | 0.29 | Цилиндрические, 13.4 |
С/О 2 | 8.355(4) | 19 | ~15–20/50 | 51.7 ± 1.1 | 0.34 | Щелевидные, 24.2 |
С/О 3 | 8.359(4) | 12 | ~5–10/50 | 75.0 ± 11.0 | 0.43 | Щелевидные, 1.9; 7.9 |
С/О 4 | 8.367(3) | 13 | ~10–20/200 | 87.5 ± 1.6 | 0.26 | Цилиндрические, 11 |
З/Г 5 | 8.402(3) | 8 | –/~100–400 | 63.5 ± 1.2 | 0.26 | Бутылкообразные, 3.9 |
З/Г 6 | 8.352(4) | 12 | –/~100–600 | 57.5 ± 0.6 | 0.26 | Бутылкообразные, 6.3 |
Магнетит (природный минерал) | 8.3840(3) | 61 | ~100–500** | 2.5 ± 0.5 | 0.005 | Щелевидные, 2.4 |
Магнетит коммерческий | 8.3855(2) | 63 | ~100/1000 | 12 ± 3 | 0.03 | Щелевидные, 2 |
* По литературным данным, параметр элементарной ячейки (a) маггемита (γ-Fe2O3) составляет 8.336–8.339 Å [37, 38], магнетита (Fe3O4) – 8.396–8.397 Å [37, 39].
** Приведен размер частиц после диспергирования природного минерала.
РФА параметров кристаллических решеток оксидов показал, что все синтезированные нанопорошки оксидов железа имеют фазовый состав магнетит-маггемитового ряда. При этом порошки, полученные методом водного химического осаждения, имеют состав твердых растворов магнетит-маггемитового ряда с различным соотношением в них Fe2+ и Fe3+, в то время как полученные золь-гель методом нанопорошки оксидов железа имеют состав, наиболее близкий к магнетиту или к маггемиту.
Аналогичный вывод можно сделать и по результатам ИК-спектроскопии. В спектрах обнаружены полосы, характерные как для магнетита (580 см–1), так и для маггемита (559, 632 см–1) [35]. Для нанопорошка с поверхностью, модифицированной олеиновой кислотой, дополнительно обнаружены полосы, по которым можно судить о ее наличии: 2927 см–1 – СН2 (асимметричные колебания), 2852 см–1 – СН2 (симметричные колебания), 1706 см–1 – C=O, 1409 см–1 – СН3 [36].
Для сравнения и интерпретации данных был также изучен коммерческий порошок и предварительно измельченный порошок из природного минерала. Оба порошка отвечают фазовому составу магнетита (табл. 2).
Видно, что нанопорошки, полученные по золь-гель технологии, имеют меньший размер наночастиц (DОКР ~ 8–12 нм) по сравнению с порошками, полученными методом совместного осаждения (DОКР ~ 12–19 нм), и с образцами сравнения (DОКР ~ 61–63 нм).
Порошки, синтезированные обоими методами, являются магнито-мягкими материалами, при этом значение удельной остаточной намагниченности увеличивается с ростом размеров частиц (табл. 2).
Все синтезированные нанопорошки оксидов железа, независимо от метода синтеза, обладают развитой поверхностью (SBET ~ 52–88 м2/г) и достаточно большим удельным объемом мезопор (VP/P0→0.99 = 0.26–0.43 см3/г) по сравнению с коммерческим и природным порошками магнетита (SBET ~ 12 и 2 м2/г, VP/P0→0.99 = 0.03 и 0.005 см3/г соответственно). При этом различие в методиках синтеза по-разному сказывается на форме и размере пор, что косвенно указывает на различие в надатомной структуре, морфологии и типе агрегации наночастиц исследуемых порошков.
Методика эксперимента. Измерения методом МУРПН проводили на установке KWS-1 (реактор FRM-II, Гархинг, Германия), которая является классическим малоугловым дифрактометром, работающим в геометрии, близкой к точечной. В эксперименте использовали пучок поляризованных нейтронов с начальной поляризацией P0 ~ 0.95 и длиной волны λ = 0.5 нм с Äë/ë = 0.1. Расстояние образец–детектор SD = 8 м позволяло измерять интенсивность рассеяния нейтронов в диапазоне переданных импульсов 0.08 < q < 1 нм−1. Регистрацию рассеянных нейтронов осуществляли двумерным сцинтилляционным позиционно-чувствительным детектором на основе 6Li (128 × 128 ячеек с пространственным разрешением 5 × 5 мм2).
Исследуемые порошки оксидов железа помещали в кварцевую кювету толщиной 1 мм. Измерения проводили в “нулевом” поле (Н ~ 0) и внешнем магнитном поле Н = 1 Т, которое прикладывали в горизонтальном направлении перпендикулярно падающему пучку нейтронов. В эксперименте измеряли зависимость интенсивности рассеяния нейтронов от q при поляризации нейтронов P0, направленной параллельно I +(q, P0+) и антипараллельно I −(q, P0−) внешнему магнитному полю H. Исходные спектры корректировали с помощью стандартной процедуры с учетом рассеяния арматурой установки и кварцевой кюветы, а также фона зала. Для разделения изотропной и анизотропной компонент рассеяния проводили радиальное усреднение интенсивности в окрестности углов a = 0 и p/2 на плоскости детектора (сектор усреднения ±2°), которые соответствовали направлениям вдоль и поперек приложенного магнитного поля Н. Такое усреднение привело к системе уравнений:
(1)
с помощью которой были определены ядерный ⟨FN2(q)⟩, магнитный ⟨FM2(q)⟩ и интерференционный ⟨FN(q)FM(q)⟩ вклады в суммарную интенсивность рассеяния I(q) = (I +(q, P0+) + I −(q, P0−))/2.
Предполагая, что ядерное рассеяние не зависит от магнитного поля, магнитный вклад в интенсивность рассеяния при Н ~ 0 определяли как:
(2)
Полученные интенсивности рассеяния были приведены к абсолютным значениям путем нормировки на сечение некогерентного рассеяния плексигласа с учетом эффективности детектора и насыпной плотности rн для каждого порошка. Для предварительной обработки данных использовали программу QtiKWS [40].
Измерение магнитных свойств порошков оксидов железа проводили на экспериментальной установке, основанной на методе ядерного магнитного резонанса (ЯМР), по методике, подробно описанной в работе [41]. Определение намагниченности осуществляли по разнице измеренных значений индукции и напряженности постоянного и однородного магнитного поля в соответствии с классическим уравнением:
(3)
где В – индукция магнитного поля; μ0 – магнитная постоянная; H – напряженность магнитного поля.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На рис. 1 представлены двухмерные интенсивности рассеяния на образцах оксидов железа, полученные для двух поляризационных состояний нейтронного пучка (I –(q, α) и I +(q, α)) при измерениях в “нулевом” (Н ~ 0) и горизонтальном магнитных полях (Н = 1 Т) соответственно, а также их разность ÄIMN(q, α) = I –(q, α) – I+(q, α) (магнитно-ядерный интерференционный член) при проведении измерений во внешнем магнитном поле. Видно (рис. 1), что для спектров, измеренных в магнитном поле Н = 1 Т, наблюдаемая картина рассеяния анизотропна со значительным изменением соотношений сторон для двух состояний поляризации. Разностный сигнал ÄIMN(q, á), где все фоновые вклады вычтены, показывает угловую зависимость от α с незначительной интенсивностью вдоль направления приложенного магнитного поля Н. Разделенные вклады в рассеяние (ядерный FN2(q), магнитный FM2(q) и интерференционный ⟨FN(q)FM(q)⟩H = 1 T) представлены на рис. 2а–2е. Из приведенных данных видно, что ядерное рассеяние ⟨FN2(q)⟩ для всех нанопорошков оксидов железа, за исключением природного и коммерческого образцов Fe3O4, значительно (практически на порядок) превышает магнитное рассеяние ⟨FM2(q)⟩H = 1 T .
Рис. 1. Экспериментальные двумерные интенсивности рассеяния в разных поляризационных состояниях падающих нейтронов и разность IMN(q, α) = I –(q, α) – I+(q, α), полученные для нанопорошков оксидов железа при измерениях во внешнем магнитном поле Н = 1 Т. Квадрат в центре детектора – след от поглотителя пучка (beamstop).
Ядерное сечение dΣN(q)/dΩ МУРПН (Н = 1 Т)
Картина рассеяния, наблюдаемая для ядерной компоненты сечения рассеяния dΣN(q)/dΩ МУРПН (рис. 2), характерна для пористых систем (твердая фаза–пора), имеющих неупорядоченную структуру [10–14, 42–44]. В то же время поведение dΣN(q)/dΩ зависит от условий синтеза нанопорошков оксидов железа.
Рис. 2. Зависимости ядерного dΣN(q)/dΩ (○), магнитного dΣM(q)/dΩ (■) и магнитно-ядерного интерференционного dΣNM(q)/dΩ (◊) вкладов в сечение МУРПН для оксидов железа: а – γ-Fe2O3 (№ 1); б – γ-Fe2O3–Fe3O4 (№ 2); в – γ-Fe2O3–Fe3O4 @OleicAcid (№ 3); г – Fe3O4–γ-Fe2O3 (№ 4); д – природный Fe3O4; е – коммерческий Fe3O4 от q, полученные из двумерных спектров (рис. 1). Сплошные линии – результат подгонки экспериментальных данных по формулам (4)–(7), (9).
Так, для нанопорошков состава твердого раствора из середины магнетит-маггемитового ряда ã-Fe2O3–Fe3O4 (С/О 2, рис. 2б), в том числе после модификации поверхности олеиновой кислотой ã-Fe2O3–Fe3O4@OleicAcid (С/О 3) (рис. 2в), общим является наличие на кривых рассеяния двух диапазонов q, где поведение dΣN(q)/dΩ подчиняется степенным законам q–Ä с разными значениями показателей степени Ä = n1 и n2 соответственно. Вблизи точки кроссовера qc (точка перехода из одного режима рассеяния в другой) поведение dΣN(q)/dΩ удовлетворительно описывается экспоненциальной зависимостью (режим Гинье [45]). Наблюдаемая картина МУРН типична для рассеяния на двухуровневых иерархических структурах с разным характерным масштабом и разным типом агрегации для каждого из уровней [14, 46, 47]. Причем выпуклая форма кривых dΣN(q)/dΩ (n1 > n2) ясно свидетельствует о том, что неоднородности последующего (большего по характерному размеру Rc) структурного уровня формируются из меньших по размеру неоднородностей предыдущего структурного уровня, т.е. Rc2 > Rc1.
Следует отметить, что отсутствие отклонения кривых рассеяния dΣN(q)/dΩ от степенной зависимости q–n2 в области малых q говорит о том, что характерный размер неоднородностей второго уровня Rс2 превышает максимальный размер неоднородностей Rmax, рассеяние на которых может быть зарегистрировано в эксперименте с данным разрешением прибора. В данном случае Rс2 > Rmax ~ ~ 3.5/qmin ~ 45 нм [48].
Исходя из вышесказанного, для анализа данных МУРН мы использовали унифицированное экспоненциально-степенное выражение, учитывающее наличие в рассеивающей системе двух структурных уровней [49]:
(4)
Суммирование производится по числу структурных уровней. В общем случае это выражение обусловливает наличие четырех свободных параметров для каждого структурного уровня, таких как Gi – префактор Гинье, Rgi – радиус гирации, Bi – степенной префактор, ni – показатель степени.
В свою очередь, для нанопорошка, наиболее близкого по составу к маггемиту γ-Fe2O3 (С/О 1) (рис. 2а) и, наоборот, наиболее близкого к магнетиту, среди нанопорошков, полученных совместным соосаждением Fe3O4–γ-Fe2O3 (С/О 4) (рис. 2г), на кривых рассеяния также наблюдаются два диапазона q, где поведение dΣN(q)/dΩ описывается степенной зависимостью q–Δ с разными значениями показателей степени = n1 и n2. Однако близость значений показателя степени n2 к 1 свидетельствует о том, что наблюдаемое МУРН происходит в системах, состоящих из случайно ориентированных сильно вытянутых анизодиаметричных (несферических) неоднородностей, которые характеризуются радиусом Rc и длиной L [50–52]. Следовательно, соответствующая им область Гинье должна включать в себя два диапазона q. Отсутствие в данном случае второго участка Гинье свидетельствует о том, что длина L > Rmax = 45 нм. Диапазон q > qc, где поведение сечения рассеяния dΣN(q)/dΩ описывается степенной зависимостью q–n1, отвечает режиму Порода [53].
Таким образом, при анализе кривых dΣN(q)/dΩ для образцов γ-Fe2O3 (С/О 1) (рис. 2а) и Fe3O4–γ-Fe2O3 (С/О 4) (рис. 2г) была использована обобщенная эмпирическая модель Гинье–Порода [54]:
(5)
где (3 – n2) является размерным фактором; G – префактор Гинье; Rg – радиус гирации, который для сильно вытянутых объектов равен Rg = Rс/, B – степенной префактор, n1 – показатель степени.
Поведение сечения dΣN(q)/dΩ МУРН для природного Fe3O4 (рис. 2д) удовлетворительно описывается двумя степенными зависимостями:
(6)
что также соответствует рассеянию на неупорядоченной структуре, состоящей из двух типов неоднородностей с разным характерным масштабом и разным типом агрегации. В то же время получить оценку характерного размера Rс1 неоднородностей первого типа из имеющихся данных не представляется возможным из-за наложения в соответствующем диапазоне q рассеяния от крупномасштабных неоднородностей второго типа, характерный размер которых Rс2 > Rmax = 45 нм.
В случае коммерческого Fe3O4 наблюдаемое МУРН (рис. 2е) во всем диапазоне q описывается лишь степенной зависимостью q–n, что соответствует рассеянию на частицах магнетита с Rс > Rmax = 45 нм.
Окончательные результаты, полученные путем сворачивания выражений (4)–(6) с функцией разрешения установки и обрабатывания их методом наименьших квадратов (МНК), представлены на рис. 2 и в табл. 3.
Таблица 3. Параметры надатомной структуры синтезированных нанопорошков оксидов железа, природного и коммерческого магнетита, полученные из анализа ядерной компоненты dΣN(q)/dΩ МУРПН
Параметры | С/О 1 | С/О 2 | С/О 3 | С/О 4 | Магнетит (природный минерал) | Магнетит коммерческий | З/Г 5 | З/Г 6 |
Rс3, нм | − | − | − | − | − | − | > 45 | |
n3 | – | 3.18 ± 0.02 | – | |||||
DM3 = n3 | – | 2.35 ± 0.02 | ||||||
DS3 = 6 – n3 | – | 2.82 ± 0.02 | – | |||||
Rg2, нм | > 45 | – | – | |||||
, нм | – | – | – | – | – | – | 5.1 ± 0.5 | 16 ± 3 |
n2 | 0.95 ± 0.03 | 2.33 ± 0.02 | 2.41 ± 0.02 | 1.15 ± 0.03 | – | 4.00 ± 0.04 | 3.54 ± 0.06 | 2.74 ± 0.04 |
DM2 = n2 | − | 2.33 ± 0.02 | 2.41 ± 0.02 | − | − | − | − | 2.74 ± 0.04 |
DS2 = 6 – n2 | − | − | − | − | − | 4.00 ± 0.04 | 2.46 ± 0.06 | − |
Rc1 = √—(5—/3—) · —R—g1, нм | − | 6.8 ± 1.3 | 5.7 ± 0.4 | − | − | − | − | 5.9 ± 0.8 |
Rc = √—2 ∙ —R—g1, нм | 4.7 ± 0.5 | − | − | 5.9 ± 0.7 | − | − | − | − |
n1 | 4.00 ± 0.05 | 3.97 ± 0.05 | 3.45 ± 0.05 | 3.70 ± 0.03 | 4.47 ± 0.02 | 3.54 ± 0.03 | − | 4.00 ± 0.05 |
DS1 = 6 – n1 | 2.00 ± 0.05 | 2.03 ± 0.05 | 2.55 ± 0.05 | 2.30 ± 0.06 | − | 2.46 ± 0.06 | − | − |
Примечание. Rc1 – характерный размер неоднородностей первого структурного уровня; Rс2 – характерный размер неоднородностей второго структурного уровня; Rс3 – характерный размер неоднородностей третьего структурного уровня; DS1 – фрактальная размерность неоднородностей первого структурного уровня; DS2 – фрактальная размерность неоднородностей второго структурного уровня; DS3 – фрактальная размерность неоднородностей третьего структурного уровня; DM2 – фрактальная размерность кластеров второго структурного уровня; DM3 – фрактальная размерность кластеров третьего структурного уровня.
Согласно полученным данным (табл. 3), нанопорошок γ-Fe2O3–Fe3O4 (С/О 2) состоит из практически гладких частиц с характерным размером Rс1 ~ 7 нм, из которых на втором структурном уровне образуются массово-фрактальные кластеры с размерностью DM = 2.33. В то же время в случае нанопорошка ã-Fe2O3–Fe3O4@OleicAcid (С/О 3), модифицированного олеиновой кислотой, из частиц первого структурного уровня с характерными размерами Rс1 ~ 6 нм, обладающих развитой фрактальной поверхностью с размерностью DS = 2.55, на втором структурном уровне образуются массово-фрактальные кластеры с размерностью DM = 2.41. Аналогичная картина структурообразования по типу иерархических фрактальных структур наблюдалась ранее для нанопорошков оксидов железа Fe3O4 (З/Г 5) и γ-Fe2O3 (З/Г 6), синтезированных золь-гель методом [23].
В свою очередь, нанопорошки состава, как практически отвечающего маггемиту ã-Fe2O3 (С/О 1), так и более близкого к магнетиту Fe3O4–ã-Fe2O3 (С/О 4) (табл. 3), состоят из случайно ориентированных сильно вытянутых несферических (анизодиаметричных) частиц с радиусом гирации Rс ~ 5 и 6 нм соответственно. Если в случае оксида железа ã-Fe2O3 (С/О 1) это практически гладкие частицы, то в случае нанопорошка, более близкого по составу к магнетиту Fe3O4–γ-Fe2O3 (С/О 4), они обладают развитой фрактальной поверхностью с размерностью DS = 2.30. Следует отметить, что характерные размеры частиц первого структурного уровня всех синтезированных нанопорошков оксидов железа, полученные из анализа данных МУРН, в целом коррелируют со средними размерами кристаллитов (DОКР), полученными методом РФА (табл. 2).
Анализ данных МУРН (табл. 3) показал, что коммерческий порошок Fe3O4 состоит из крупномасштабных частиц (Rс > 45 нм), имеющих диффузную поверхность границы раздела фаз (n > 4) [55], в то время как природный Fe3O4 содержит в себе неоднородности двух типов: крупномасштабные (Rс > 45 нм) с практически гладкой границей раздела фаз (DS ~ 2) и меньшие по масштабу с развитой фрактальной поверхностью (DS = 2.46).
Магнитное сечение dΣM(q)/dΩ МУРПН (Н = 1 Т)
Для суперпарамагнитных наночастиц при насыщении намагниченности магнитное рассеяние становится полностью анизотропным, в то время как ядерное рассеяние сохраняет изотропию. Как видно из рис. 2, сечение магнитного рассеяния dΣM(q)/dΩ статистически разрешимо для природного и коммерческого Fe3O4, а также для твердого раствора γ-Fe2O3–Fe3O4@Oleic Acid (С/О 3). В данном случае поведение магнитного рассеяния dΣM(q)/dΩ удовлетворительно описывается степенными зависимостями:
(7)
что соответствует рассеянию на двух типах спиновых корреляций. Член q-4 соответствует рассеянию на крупномасштабных магнитных флуктуациях, а q–2 характерен для рассеяния на спиновых корреляциях по типу критических флуктуаций [17].
Для остальных синтезированных нанопорошков оксидов железа сечение магнитного рассеяния dΣM(q)/dΩ мало (не более 10%) по сравнению с ядерным рассеянием dΣM(q)/dΩ и статистически разрешимо лишь в области малых q < 0.15 нм–1, что соответствует рассеянию на крупномасштабных магнитных флуктуациях, появление которых обусловлено достижением намагниченности насыщения материала. В связи с этим количественный анализ магнитного рассеяния dΣM(q)/dΩ для синтезированных образцов оксидов железа практически невозможен. В то же время данная проблема может быть решена путем анализа интерференционного вклада dΣMN(q)/dΩ в общее МУРПН, который определяется произведением магнитной и ядерной амплитуд рассеяния, т.е. первой, а не второй, как в случае измерения интенсивности, степенью амплитуды магнитного рассеяния, что обусловливает более высокую чувствительность метода [17].
Магнитно-ядерное сечение dΣMN(q)/dΩ МУРПН (Н = 1Т)
Анализ вклада магнитно-ядерного интерференционного рассеяния в общее МУРПН в направлении α = ð/2, перпендикулярном приложенному магнитному полю Н = 1 T (рис. 2), показал, что для нанопорошков, практически соответствующих составу маггемита γ-Fe2O3 (С/О 1) (рис. 2а), и твердых растворов как из середины ряда γ-Fe2O3–Fe3O4 (С/О 2) (рис. 2б), так и со сдвигом к магнетиту Fe3O4–γ-Fe2O3 (С/О 4) (рис. 2г) поведение кривых dΣMN(q)/dΩ МУРПН удовлетворительно описывается квадрированным лоренцианом:
(8)
где А – свободный параметр, а = 1/RMN представляет обратный корреляционный радиус магнитно-ядерной контрастирующей и, соответственно, рассеивающей области. В координатном представлении данное выражение соответствует рассеянию на экспоненциально спадающем с расстоянием r корреляторе спинов Si,Sj вида:
(9)
В случае нанопорошка, полученного по той же методике, что и нанопорошок С/О 2, но поверхность которого модифицирована олеиновой кислотой ã-Fe2O3–Fe3O4@Oleic Acid (С/О 3) (рис. 2в), наблюдаемое магнитно-ядерное интерференционное рассеяние описывается уже суммой двух слагаемых:
(10)
где первый член ~q–2 соответствует рассеянию на спиновых корреляциях по типу критических флуктуаций [17].
Окончательные результаты получены сворачиванием выражений (7) и (9) с функцией разрешения установки и обрабатыванием их с помощью МНК. Полученные результаты представлены на рис. 2 и в табл. 4.
Таблица 4. Характерные размеры частиц оксидов железа, полученные из анализа данных РФА и МУРПН, в сравнении со значениями остаточной намагниченности
Образец | DОКР, нм | Rс, нм | RM, нм | RMN, нм | Мост, А/м | ρнас, г/см3 | Муд.ост, А м2/кг |
С/О 1 | 14 | 4.7 ± 0.5 | 6.0 ± 0.7 | 4.7 ± 0.5 | 486.0 | 1.03 | 0.47 |
С/О 2 | 19 | 6.8 ± 1.3 | 11.2 ± 1.2 | 8.2 ± 0.7 | 1095.3 | 1.03 | 1.06 |
С/О 3 | 12 | 5.7 ± 0.4 | 4.7 ± 0.5 | 4.7 ± 0.5 | 250.0 | 0.97 | 0.26 |
С/О 4 | 13 | 5.9 ± 0.7 | 6.5 ± 0.7 | 4.1 ± 0.4 | 334.6 | 1.20 | 0.28 |
З/Г ٥ | 8.0 | 5.9 ± 0.8 | – | 2.7 ± 0.3 | – | – | – |
З/Г ٦ | 12 | 5.1 ± 0.5 | 4.1 ± 0.9 | 3.2 ± 0.4 | – | – | – |
Магнетит (природный минерал) | 61 | > 45 | > 45 | > 45 | – | – | – |
Магнетит коммерческий | 63 | > 45 | > 45 | > 45 | 2856.0 | 0.95 | 3.01 |
Примечание. DОКР – размер областей когерентного рассеяния; Rc – характерный размер неоднородностей; RM – характерный размер магнитных флуктуаций; RMN – характерный размер магнитно-ядерный корреляций; Мост – остаточная намагниченность; ρнас – насыпная плотность; Муд.ост – удельная остаточная намагниченность.
Как видно из табл. 4, характерные размеры RMN магнитно-ядерных корреляций, полученные из анализа МУРПН, меньше, чем характерные размеры Rс ядерных неоднородностей (табл. 3). Однако размеры RMN соответствуют средним размерам магнитно-ядерных корреляций, а не его верхней границе, как в случае характерного размера Rс ядерных корреляций в выражениях, используемых при анализе dΣN(q)/dΩ.
Магнитное сечение dΣM(q)/dΩ МУРН (Н ~ 0 Т)
Исходя из предположения, что ядерное рассеяние изотропно и не зависит от приложенного магнитного поля, по уравнению (2) был получен магнитный вклад в интенсивность МУРН в случае H ~ 0. Соответствующие сечения dΣM(q)/dΩ магнитного рассеяния для синтезированных нанопорошков оксидов железа представлены на рис. 3. Как видно из рисунка, статистически разрешимое магнитное рассеяние dΣM(q)/dΩ наблюдается для всех синтезированных нанопорошков оксидов железа. Так, для нанопорошков γ-Fe2O3 (С/О 1) (рис. 3а), γ-Fe2O3–Fe3O4 (С/О 2) (рис. 3б) и Fe3O4–γ-Fe2O3 (С/О 4) (рис. 3б) поведение dΣM(q)/dΩ МУРПН, как и в случае анализа магнитно-ядерной интерференции для данных образцов (рис. 2а, 2б, 2г), удовлетворительно описывается квадрированным лоренцианом.
Рис. 3. Зависимости магнитного сечения dΣM(q)/dΩ МУРПН при H ~ 0 для оксидов железа: а – γ-Fe2O3 (№ 1); б – γ-Fe2O3–Fe3O4 (№ 2); в – γ-Fe2O3–Fe3O4 @OleicAcid (№ 3); г – Fe3O4–γ-Fe2O3 (№ 4) от q. Сплошные линии − результат подгонки экспериментальных данных по формулам (7) и (9).
В случае нанопорошка γ-Fe2O3–Fe3O4@OleicAcid (С/О 3), модифицированного олеиновой кислотой, было использовано выражение, пропорциональное ~q–4, что свидетельствует о наличии в рассеивающей системе крупномасштабных флуктуаций спиновой плотности.
Окончательные результаты, представленные на рис. 3 и в табл. 4, получены по процедуре, описанной ранее.
Подробное исследование надмолекулярной структуры с оценкой ядерной и магнитной составляющих для нанопорошков, полученных по золь-гель технологии, было выполнено нами в [23]. Особенности синтеза указанных нанопорошков и их свойства, исследованные классическими методами, приведены в табл. 1, 2, а параметры надатомной структуры, полученные из анализа ядерной и магнитно-ядерной компонент, – в табл. 3, 4.
В результате проведенного в настоящей работе сравнительного анализа ядерной надатомной структуры синтезированных порошков оксидов железа методом МУРПН было установлено, что они являются пористыми системами, обладающими, в зависимости от метода синтеза, одноуровневой (для порошков С/О 1 и С/О 4), двухуровневой (для порошков С/О 2 и С/О 3) или трехуровневой (для порошков, полученных золь-гель методом) иерархической организацией структуры с разным характерным масштабом и типом агрегации для каждого из структурных уровней, причем характерный размер Rс для большего по размеру уровня в обоих случаях превышает 45 нм.
Так, порошки, как практически отвечающие составу маггемита γ-Fe2O3, так и более близкие к магнетиту Fe3O4–ã-Fe2O3, полученные водным синтезом, состоят из случайно ориентированных сильно вытянутых несферических (анизодиаметричных) частиц с характерным размером Rс1 ~ 5 и 6 нм соответственно. Причем в случае γ-Fe2O3 это практически гладкие частицы, а в порошке, более близком по составу к магнетиту Fe3O4–γ-Fe2O3, они обладают развитой фрактальной поверхностью с размерностью DS1 = 2.30. Порошок твердого раствора γ-Fe2O3–Fe3O4 состоит из практически гладких частиц с характерным размером Rс1 ~ 7 нм, из которых на втором структурном уровне формируются массово-фрактальные кластеры с размерностью DM2 = 2.33. В то же время для порошка твердого раствора γ-Fe2O3–Fe3O4, модифицированного олеиновой кислотой, частицы первого структурного уровня с характерными размерами Rс1 ~ 6 нм обладают развитой фрактальной поверхностью с размерностью DS1 = 2.55, из них на втором структурном уровне образуются массово-фрактальные кластеры с размерностью DM2 = 2.41.
В свою очередь, первый структурный уровень порошка g-Fe2O3, полученного золь-гель методом, состоит из практически гладких частиц с характерным размером Rс1 ~ 6 нм, которые на втором структурном уровне агрегируют в массово-фрактальные кластеры с размерностью DM2 = 2.74 и верхней границей самоподобия Rс2 ~ 16 нм, из которых на третьем структурном уровне формируются массово-фрактальные агрегаты с размерностью DM3 = 2.35. В то же время порошок Fe3O4, полученный золь-гель методом, на первом структурном уровне также состоит из небольших частиц (по данным МУРР, Rс1 ~ 2 нм) с практически гладкой поверхностью, которые на втором структурном уровне агрегируют в поверхностно-фрактальные кластеры с размерностью DS2 = 2.46 и верхней границей самоподобия Rс2 ~ 5 нм, из которых на третьем структурном уровне формируются поверхностно-фрактальные агрегаты с размерностью DS3 = 2.82.
Детальный анализ данных МУРПН позволил установить, что магнитная структура полученных порошков оксидов железа независимо от метода синтеза состоит из суперпарамагнитных частиц с характерным радиусом магнитных RМ ~ 4 нм и магнитно-ядерных кросс-корреляций RMN ~ 3 нм для порошков, полученных золь-гель методом, и RM ~ 5−11 нм, RMN ~ 4–8 нм для порошков, полученных водным синтезом, в зависимости от условий получения. Причем в случае порошков оксидов железа, синтезированных золь-гель методом, между данными суперпарамагнитными частицами также наблюдаются спиновые корреляции по типу ближнего порядка с радиусами межчастичных магнитных корреляций æM ~ 16 и 25 нм для Fe3O4 и g-Fe2O3 соответственно [23].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С привлечением методов РФА, РЭМ, низкотемпературной адсорбции азота и малоуглового рассеяния поляризованных нейтронов проведено комплексное сравнительное исследование структуры порошков оксидов железа, синтезированных осаждением из водных растворов и золь-гель методом.
Установлено, что синтезированные оксиды железа являются пористыми системами, но в зависимости от метода получения отличаются иерархической организацией структуры с характерным масштабом и типом агрегации, различающимися для каждого из структурных уровней. Для порошков, полученных водным синтезом, характерна одноуровневая или двухуровневая иерархическая организация структуры, а для порошков, полученных золь-гель методом, – трехуровневая. Причем характерный размер Rс для большего по размеру уровня в обоих случаях превышает 45 нм. При этом выявлено, что первый структурный уровень порошков g-Fe2O3, Fe3O4, полученных золь-гель методом, а также порошков, практически отвечающих составу маггемита γ-Fe2O3 и твердого раствора γ-Fe2O3–Fe3O4, полученных водным синтезом, состоит из практически гладких частиц с характерным размером Rс ~ 6, 2, 5, 6 нм соответственно. В то же время первый структурный уровень порошков, более близких по составу к магнетиту Fe3O4–γ-Fe2O3, и твердого раствора ã-Fe2O3–Fe3O4, модифицированного олеиновой кислотой, полученных водным синтезом, состоит из частиц, обладающих развитой фрактальной поверхностью с размерностью DS1 = 2.30 и 2.55 соответственно.
Второй структурный уровень определен только для порошков g-Fe2O3, Fe3O4, полученных золь-гель методом, а также для порошков твердого раствора γ-Fe2O3–Fe3O4 и γ-Fe2O3–Fe3O4, модифицированного олеиновой кислотой, полученных водным синтезом. Установлено, что из первичных частиц порошков g-Fe2O3, полученных золь-гель методом, а также из порошков твердого раствора γ-Fe2O3–Fe3O4 и твердого раствора ã-Fe2O3–Fe3O4, модифицированного олеиновой кислотой, полученных водным синтезом, на втором структурном уровне формируются массово-фрактальные кластеры с размерностью DM2 = 2.74, 2.33 и 2.41 соответственно, тогда как из первичных частиц порошка Fe3O4, полученного золь-гель методом, – поверхностно-фрактальные кластеры с размерностью DS2 = 2.46.
Третий структурный уровень наблюдается только для порошков g-Fe2O3 и Fe3O4, полученных золь-гель методом, на нем формируются массово-фрактальные агрегаты с размерностью DM3 = 2.35 и поверхностно-фрактальные агрегаты с размерностью DS3 = 2.82 соответственно.
На основании анализа данных МУРПН выявлено, что магнитная структура полученных порошков оксидов железа, независимо от метода синтеза, состоит из суперпарамагнитных частиц с характерным радиусом магнитных RМ ~ 4 нм и магнитно-ядерных кросс-корреляций RMN ~ 3 нм для порошков, полученных золь-гель методом, и RM ~ 5−11 нм, RMN ~ 4–8 нм для порошков, полученных водным синтезом, в зависимости от условий получения.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Работа выполнена в рамках темы НИР ГЗ ИХС РАН № 1023033000122-7-1.4.3.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Об авторах
О. А. Шилова
Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: olgashilova@bk.ru
Россия, Санкт-Петербург
А. С. Коваленко
Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН
Email: olgashilova@bk.ru
Россия, Санкт-Петербург
А. М. Николаев
Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН
Email: olgashilova@bk.ru
Россия, Санкт-Петербург
Т. В. Хамова
Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН
Email: olgashilova@bk.ru
Россия, Санкт-Петербург
И. Ю. Кручинина
Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН
Email: olgashilova@bk.ru
Россия, Санкт-Петербург
Г. П. Копица
Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН; Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ "Курчатовский институт"
Email: olgashilova@bk.ru
Россия, Санкт-Петербург; Гатчина
Список литературы
- Ferreira M.I., Cova T., Paixão J.A. et al. // Woodhead Publishing Series in Electronic and Optical Materials. Magnetic Nanoparticle-Based Hybrid Materials. Woodhead Publ, 2021. P. 273. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823688-8.00033-8
- Imran M., Shaik A.H., Ansari A.R. et al. // RSC Adv. 2018. V. 8. № 25. P. 13970. https://doi.org/10.1039/C7RA13467C
- Rashid H., Mansoor M.A., Haider B. et al. // Sep. Sci. Technol. 2020. V. 55. № 6. P. 1207. https://doi.org/10.1080/01496395.2019.1585876
- Aphesteguy J.C., Kurlyandskaya G.V., Celis J.P. et al. // Mater. Chem. Phys. 2015. V. 161. Р. 243. https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2015.05.044
- Nazari M., Ghasemi N., Maddah H. et al. // J. Nanostruct. Chem. 2014. V. 4. № 2. P. 99. https://doi.org/10.1007/s40097-014-0099-9
- Ramos Guivar J.A., Martínez A.I., Anaya A.O. et al. // Adv. Nanopart. 2014. V. 3. № 3. P. 114. https://doi.org/10.4236/anp.2014.33016
- Fedorenko N.Yu., Abiev R.Sh., Kudryashova Yu.S. et al. // Ceram. Int. 2022. V. 48. № 9. P. 13006. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.01.174
- Шилова О.А., Николаев А.М., Коваленко А.С. и др. // Журн. неорган. химии. 2020. Т. 65. № 3. С. 398.
- Коваленко А.С., Шилова О.А., Николаев А.М. и др. // Коллоид. журнал. 2023. Т. 85. № 3. С. 319.
- Gopinath S., Philip J. // Mater. Chem. Phys. 2014. V. 145. № 1–2. P. 213. https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2014.02.005
- Zienkiewicz-Strzałka M., Skibińska M., Pikus S. // Nucl. Instrum. Methods., Sect. B. 2017. V. 411. P. 72. https://doi.org/10.1016/j.nimb.2017.03.028
- Nirschl H., Guo X. // Chem. Eng. Res. Des. 2018. V. 136. P. 431. https://doi.org/10.1016/j.cherd.2018.06.012
- Shilova O.A., Nikolaev A.M., Kovalenko A.S. et al. // Ceram. Int. 2021. V. 47. № 20. P. 28866. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.07.047
- Khamova T.V., Kopitsa G.P., Nikolaev A.M. et al. // Biointer. Res. Appl. Chem. 2021. V. 11. № 4. P. 12285. https://doi.org/10.33263/BRIAC114.1228512300
- Danks A.E., Hall S.R., Schnepp Z. // Mater. Horiz. 2016. V. 3. № 2. P. 91. https://doi.org/10.1039/c5mh00260e
- Okorokov A.I., Runov V.V. // Physica B. 2001. V. 297. № 1–4. P. 239. https://doi.org/10.1016/S0921-4526(00)00843-7
- Fitzsimmons M.R., Schuller I.K. // J. Magn. Magn. Mater. 2014. V. 350. P. 199. https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2013.09.028
- Muhlbauer S., Honecker D., P´erigo E.A. et al. // Rev. Mod. Phys. 2019. V. 91. № 1. P. 015004. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.91.015004
- Honecker D., Bersweiler M., Erokhin S. et al. // Nanoscale Adv. 2022. V. 4. № 4. P. 1026. https://doi.org/10.1039/D1NA00482D
- Lee S.H., Lee D.H., Jung H. et al. // Curr. Appl. Phys. 2015. V. 15. № 8. P. 915. https://doi.org/10.1016/j.cap.2015.04.003
- Bergenti I., Deriu A., Savini L. et al. // J. Magn. Magn. Mater. 2003. V. 262. № 1. P. 60. https://doi.org/10.1016/S0304-8853(03)00019-2
- Grigoriev S.V., Maleyev S.V., Okorokov A.I. et al. // Europhys. Lett. 2003. V. 63. № 1. Р. 56. https://doi.org/10.1209/epl/i2003-00477-3
- Khamova T.V., Shilova O.A., Gorshkova Yu.E. et al. // Nanosystems: Phys. Chem. Math. 2022. V. 13. № 4. P. 414. https://doi.org/10.17586/2220-8054-2022-13-4-414-429
- Рунов В.В., Бугров А.Н., Смыслов Р.Ю. и др. // Журн. неорган. химии. 2021. Т. 66. № 2. С. 229.
- Fu Z., Xiao Y., Feoktystov A. et al. // Nanoscale. 2016. V. 8. № 43. P. 18541. https://doi.org/10.1039/c6nr06275j
- Zákutná D., Nižňanský D., Barnsley L.C. et al. // Phys. Rev. X. 2020. V. 10. № 3. P. 031019. https://doi.org/10.1103/PhysRevX.10.031019
- Köhler T., Feoktystov A., Petracic O. et al. // Nanoscale. 2021. V. 13. № 4. P. 6965. https://doi.org/10.1039/d0nr08615k
- Chouhan R.S., Horvat M., Ahmed J. et al. // Cancers. 2021. V. 13. № 9. Р. 2213. https://doi.org/10.3390/cancers13092213
- Tran H.-V., Ngo N.M., Medhi R. et al. // Materials. 2022. V. 15. № 2. P. 503. https://doi.org/10.3390/ma15020503
- Kovalenko A.S., Nikolaev A.M., Khamova T.V. et al. // Glass Phys. Chem. 2021. V. 47. № 1. Р. 67. https://doi.org/10.1134/S1087659621070063
- Shilova O.A., Panova G.G., Nikolaev A.M. et al. // Lett. Appl. NanoBioScience. 2021. V. 10. № 2. P. 2215. https://doi.org/10.33263/LIANBS102.22152239
- Wang Y., Wang S., Xu M. et al. // Environ. Pollut. 2019. V. 249. P. 1011. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.03.119
- Serpoush M., Kiyasatfar M., Ojaghi J. // Mater. Today: Proc. 2022. V. 65. Part 6. P. 2915. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.06.441
- Turrina Ch., Klassen A., Milani D. et al. // Heliyon. 2023. V. 9. № 6. Р. e16487. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e16487
- Baabu P.R.S., Kumar H.K., Gumpu M.B. et al. // Materials. 2023. V. 16. № 1. P. 59. https://doi.org/10.3390/ma16010059
- Ibarra J., Melendres J., Almada M. et al. // Mater. Res. Exp. 2015. V. 2. № 9. Р. 095010. https://doi.org/10.1088/2053-1591/2/9/095010
- Nasrazadani S., Raman A. // Corros. Sci. 1993. V. 34. № 8. P. 1355. https://doi.org/10.1016/0010-938X(93)90092-U
- Pecharroman C., Gonzalez-Carreno T., Iglesias J.E. // Phys. Chem. Miner. 1995. V. 22. P. 21. https://doi.org/10.1007/BF00202677
- Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W. Magnetite. Handbook of mineralogy. Chantilly, VA: Mineralogical Society of America, 2018.
- Jülich Centre for Neutron Science, QtiKWS 2019. Available online: www.qtisas.com
- Жерновой А.И., Дьяченко С.В. // Журн. техн. физики. 2015. Т. 85. № 4. С. 118.
- Schaefer D.W., Justice R.S. // Macromolecules. 2007. V. 40. № 24. P. 8501. https://doi.org/10.1021/ma070356w
- Баранчиков А.Е., Копица Г.П., Ёров Х.Э. и др. // Журн. неорган. химии. 2021. Т. 66. № 6. С. 774.
- Koizumi S., Yue Z., Tomita Y. et al. // Eur. Phys. J. E. 2008. V. 26. № 1–2. P. 137. https://doi.org/10.1140/epje/i2007-10259-3
- Guinier A., Fournet G., Walker C.B., Yudowitch K.L. Small-Angle Scattering of X-rays. New York: Wiley, 1955.
- Beaucage G., Ulibarri T.A., Black E.P. et al. Hybrid Organic-Inorganic Composites / Eds. By Mark J. et al. ACS Symposium Series; American Chemical Society: Washington, DC, 1995.
- Štěpánek M., Matějíček P., Procházka K. et al. // Langmuir. 2011. V. 27. № 9. P. 5275. https://doi.org/10.1021/la200442s
- Bale H.D., Schmidt P.W. // Phys. Rev. Lett. 1984. V. 53. № 6. P. 596. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.53.596
- Beaucage G. // J. Appl. Crystallogr. 1995. V. 28. № 6. P. 717. https://doi.org/10.1107/S0021889895005292
- Ivanova L.A., Ustinovich K.B., Khamova T.V. et al. // Materials. 2020. V. 13. № 9. P. 2087. https://doi.org/10.3390/ma13092087
- Larsson P.T., Stevanic-Srndovic J., Roth S.V. et al. // Cellulose. 2022. V. 29. № 1. P. 117. https://doi.org/10.1007/s10570-021-04291-x
- Guild J.D., Knox S.T., Burholt S.B. et al. // Macromolecules. 2023. V. 56. № 16. P. 6426. https://doi.org/10.1021/acs.macromol.3c00585
- Porod G. // Kolloid-Zeitschrift. 1952. V. 125. № 1. P. 51. https://doi.org/10.1007/BF01519615
- Hammouda B. // J. Appl. Crystallogr. 2010. V. 43. № 4. P. 716. https://doi.org/10.1107/S0021889810015773
- Schmidt P.W., Avnir D., Levy D. et al. // J. Chem. Phys. 1991. V. 94. № 2. P. 1474. https://doi.org/10.1063/1.460006
Дополнительные файлы