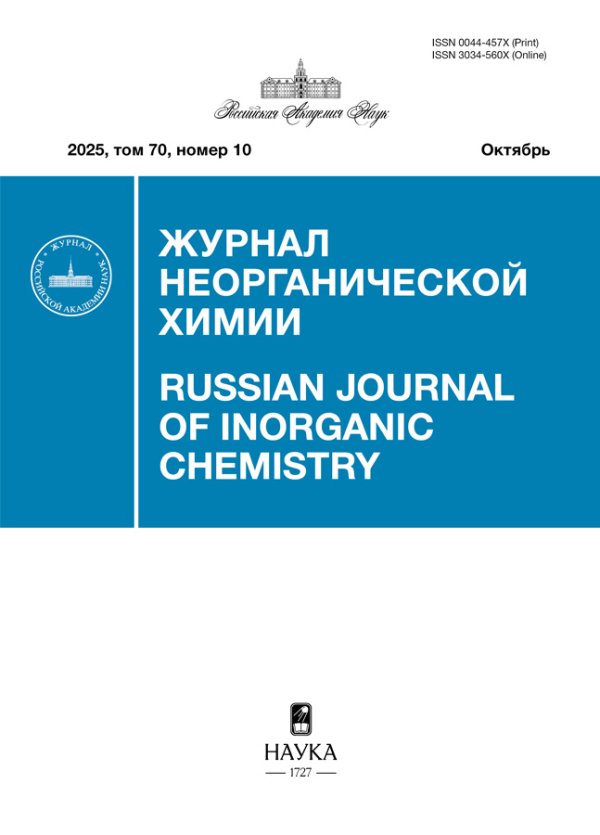Preparation and chemosensor properties of nano–composite obtained by hydrothermal modification of Ti2CTx by hierarchically organised Co(CO3)0.5 (OH) ⋅ 0.11H2O
- Authors: Simonenko Е.P.1, Mokrushin A.S.1, Nagornov I.А.1, Dmitrieva S.А.1,2, Simonenko Т.L.1, Simonenko N.P.1, Kuznetsov N.T.1
-
Affiliations:
- Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry of the Russian Academy of Sciences
- D.I. Mendeleev Russian University of Chemical Technology. D.I. Mendeleev Russian Chemical and Technological University
- Issue: Vol 69, No 9 (2024)
- Pages: 1341-1352
- Section: НЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И НАНОМАТЕРИАЛЫ
- URL: https://journal-vniispk.ru/0044-457X/article/view/280524
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044457X24090146
- EDN: https://elibrary.ru/JSGKKA
- ID: 280524
Cite item
Full Text
Abstract
The process of modification of Ti2CTx MXene multilayer by hydrothermal synthesis of bulk hierarchically organized formations of Co(CO3)0.5(OH)⋅0.11H2O has been studied. It is shown that under the chosen conditions MXene is partially oxidized with the formation of aggregates of titanium dioxide nanoparticles with a diameter of ~3–10 nm on its surface. The sensing properties of the obtained composite material at room temperature and relative humidity 65±3% to a wide range of gaseous analytes (50 ppm CO, benzene, acetone, ethanol, 2500 ppm H2, CH4, 5% O2 and 40 ppm NH3, NO2) were investigated. Increased sensitivity was found for the detection of 40 ppm NH3 and NO2: the responses were -91 and -63%, respectively. Some aspects of the detection mechanism are discussed. The results obtained show promising modification of multilayer MXene with semiconducting metal oxides and hierarchically formed bulk formations in order to improve its chemoresistive properties.
Keywords
Full Text
Введение
В связи с необходимостью непрерывного и корректного контроля экологической ситуации, вызванной развитием промышленности и ростом эксплуатации различных технических устройств, сопровождаемых увеличением газовых выбросов, интенсивно расширяется разработка новых эффективных хемосенсорных материалов [1–10]. Большой прикладной интерес в настоящее время вызывает и создание мобильных приборов, позволяющих выполнять мониторинг состояния здоровья человека, ориентируясь на молекулы-маркеры заболеваний [11–16]. Решение этих проблем может быть связано с переходом к портативным мультисенсорным устройствам [17–21], способным анализировать сложные газовые смеси, результат использования которых определяется набором задействованных газочувствительных наноматериалов. Поскольку для таких приборов желательно применение рецепторных материалов с максимально различающейся селективностью, рациональными являются разработка методов получения новых наноматериалов и всестороннее изучение их газовой чувствительности.
Классическими хеморезистивными сенсорными материалами являются полупроводниковые оксиды металлов [11, 22–27], однако, обладая несомненными преимуществами, они имеют и ряд недостатков, например относительно высокую температуру детектирования. Снижение данного параметра многие исследователи связывают с применением 2D-наноматериалов, для которых отмечается работоспособность при низких температурах (до комнатной) [28–31]. К таким перспективным газочувствительным материалам относят и максены [32–34]. Поскольку величины отклика и кинетические характеристики максенов значительно уступают таковым для материалов на основе полупроводниковых оксидов металлов, в последние годы интенсифицируются исследования по изучению хемосенсорных свойств гибридных наноматериалов, содержащих помимо максенов модификаторы различной химической природы, чаще всего наночастицы полупроводниковых оксидов металлов [35–37]. Обычно в качестве второй фазы используют полупроводники n-типа (SnO2, ZnO, TiO2, WO3 и др.) [38–46], а эффективность композиционных материалов максенов с полупроводниковыми оксидами металлов p-типа (NiO, Co3O4, CuO, MnO2 и др.) исследована в меньшей степени [47–55]. Так, в работе [52] обсуждается перспектива относительно низкотемпературного (140°С) детектирования этанола с помощью нанокомпозита, содержащего Co3O4 и подщелоченный максен Ti3C2Tx, для которого характерны отклик до 3500% и низкий предел обнаружения (~1 ppm). Перспективными рецепторными материалами для детектирования этанола показали себя и нанокомпозиты состава Co3O4/Ti3C2Tx с мезопористой структурой, полученные в результате деструкции металлорганического каркаса [54]. В статье [55] показана возможность определения формальдегида при комнатной температуре газочувствительным составом Ti3C2Tx/Co3O4, управляемым пьезоэлектрическим наногенератором на основе массива нанопроволок ZnO/Ti3C2Tx, выращенных гидротермальным методом на титановой фольге. Композиционные материалы Ti3C2Tx@Co(OH)2/Co3O4, полученные методом самосборки, продемонстрировали высокую чувствительность при комнатной температуре по отношению к толуолу (отклик на 100 ppm толуола составил 514%) [53]. При этом можно отметить перспективность объемных, иерархически организованных гидроксидов d-элементов, например, кобальта в качестве компонента, повышающего общую пористость рецепторного материала на основе максена, облегчающих доступ сорбирующихся газов к адсорбционным центрам 2D-материала.
Данные о свойствах нанокомпозитов на основе двумерного карбида титана Ti2CTx встречаются в литературе гораздо реже, чем для Ti3C2Tx, а для модифицированного неорганическими соединениями кобальта в открытой печати нами не найдены.
Целью настоящей работы является получение и исследование сенсорных свойств нанокомпозита, полученного при гидротермальной модификации многослойного максена Ti2CTx иерархически организованными частицами Co(CO3)0.5(OH) ⋅ 0.11H2O.
Экспериментальная часть
Использованные реактивы. Для синтеза MAX-фазы Ti2AlC использовали порошки титана (>99%, ООО “СНАБТЕХМЕТ”), алюминия (≥98%, ООО “РусХим”), графита (>99.99%, ООО “Особо чистые вещества”), KBr (х. ч., ООО “РусХим”), а для получения из MAX-фазы Ti2AlC многослойного (аккордеоноподобного) максена состава Ti2CTx – фторид натрия NaF (ос. ч., ООО “РусХим”) и соляную кислоту HCl (х. ч., ООО “РусХим”).
Основной алгоритм получения МАХ-фазы Ti2AlC подробно описан в предыдущих исследованиях [41, 43, 56, 57], а именно: применяли методику синтеза тугоплавких соединений в защитном расплаве солей [58–65], в качестве солевого компонента использовали бромид калия, соотношение компонентов составляло n(Ti) : n(Al) : n(C) = 2 : 1.1 : 0.9, m(Ti + Al + C) : m(KBr) = = 1 : 1, температура синтеза – 1100 ± 20°С, длительность – 5 ч, охлаждение с печью. Для получения многослойных агрегатов максена Ti2CTx использовали раствор 1.2 М фторида натрия в 6 М соляной кислоте [41, 43, 57, 66]. Деламинацию продукта после его выделения и очистки не проводили.
Для модификации Ti2CTx иерархически организованными образованиями состава Co(CO3)0.5(OH) ⋅ 0.11H2O (10 мол. %) выполняли гидротермальную обработку дисперсии максена (10 мг Ti2CTx в 1 мл бутанола), к которой добавляли необходимый объем раствора Co(NO3)2 · 6H2O (х. ч., c = 0.05 моль/л, ООО “ТД “Химмед”) и мочевины (х. ч., c = 0.25 моль/л, ООО “ТД “Химмед”) в этиловом спирте. Реакционную систему помещали в стальной автоклав с тефлоновой вставкой объемом 5 мл и подвергали гидротермальной термообработке при температуре 160°С в течение 1 ч (скорость нагрева составляла 2.5 град/мин). После естественного охлаждения автоклава твердую фазу отделяли от маточного раствора с помощью центрифугирования, дважды промывали этиловым спиртом и диспергировали в 1 мл 1-бутанола в ультразвуковой ванне в течение 30 мин. Полученную таким образом дисперсную систему применяли в качестве функциональных чернил для микроплоттерной печати композиционного покрытия Ti2CTx–10 мол. % Co(CO3)0.5(OH) ⋅ 0.11H2O на поверхности специализированных датчиков [43, 57, 67]. Сушку нанесенных покрытий осуществляли при температуре 80°С в вакууме, далее образец хранили на воздухе при обычной влажности.
Термическое поведение функциональных чернил Ti2CTx–10 мол. % Co(CO3)0.5(OH) ⋅ 0.11H2O в 1-бутаноле в токе воздуха (скорость потока 250 мл/мин) изучали с применением синхронного ДСК–ДТА–ТГА-анализатора SDT-Q600 (TA Instruments) в корундовых тиглях со скоростью нагрева 10 град/мин в диапазоне температур 25–1000°С.
Рентгенограммы исходных веществ и продуктов записывали на рентгеновском дифрактометре Bruker D8 Advance (CuKα-излучение, разрешение 0.02° при накоплении сигнала в точке в течение 0.3 с). Рентгенофазовый анализ (РФА) выполняли с применением программы MATCH! – Phase Identification from Powder Diffraction, Version 3.8.0.137 (Crystal Impact, Германия), в которую интегрирована база данных Crystallography Open Database (COD).
Раман-спектры регистрировали на спектрометре комбинационного рассеяния SOL Instruments Confotec NR500 (объектив 20, лазер 532 нм). Во избежание окислительных процессов, характерных для максенов при локальном повышении температуры под действием лазера, мощность на образцах не превышала 2 мВт. Решетка 600, время накопления сигнала 25 с.
Изучение микроструктуры образцов исходного максена Ti2CTx и полученного нанокомпозита Ti2CTx–Co(CO3)0.5(OH) ⋅ 0.11H2O проводили методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) с применением двулучевого сканирующего электронно-ионного микроскопа FIB-SEM TESCAN AMBER (Tescan s.r.o., Чехия) при ускоряющем напряжении 2 кВ, а также просвечивающего сканирующего микроскопа JEM-1011 (JEOL, Япония).
Измерения газочувствительных свойств нанокомпозита проводили на специализированной прецизионной установке [68–71]. Газовую среду в кварцевой ячейке создавали с помощью трех контроллеров расхода газа Bronkhorst с максимальной пропускной способностью 100, 200 и 1000 мл/мин. Полученное покрытие композиционного состава Ti2CTx–10 мол. % Co(CO3)0.5(OH) ⋅ 0.11H2O изучали при фиксированной относительной влажности (RH) 65 ± 3% на чувствительность к следующим газам-аналитам: 50 ppm CO, бензола (C6H6), ацетона (C3H6O), этанола (C2H5OH), 2500 ppm H2, CH4, 5% O2 и 40 ppm NH3, NO2). В качестве источника анализируемых газов использовали соответствующие поверочные газовые смеси в воздухе. Для построения базовой линии газов применяли синтетический воздух, а при детектировании кислорода – азот (99.9999%). Электрическое сопротивление пленок измеряли с помощью цифрового мультиметра Fluke 8846A (6.5 Digit Precision Multimeter) с верхним пределом 1 ГОм. Для создания влажной атмосферы использовали специальную установку с барботером (при фиксированной температуре 24 ± 1°С), RH газовой смеси контролировали цифровым проточным гигрометром Эксис. Все хемосенсорные измерения проводили при комнатной температуре (24 ± 1°С).
Отклик на все газы рассчитывали по формуле:
(1),
где RBL – сопротивление газа сравнения (для определения кислорода использовали азот, для других газов – синтетический воздух), Rg – сопротивление датчика при заданной концентрации газа-аналита.
Результаты и обсуждение
Получение и исследование нанокомпозита Ti2CTx– 10 мол. % Co(CO3)0.5(OH) ⋅ 0.11H2O
Как видно из рис. 1, агрегаты аккордеоноподобного максена Ti2CTx имеют достаточно широкий интервал размеров: диаметр стопок слоев варьирует от 120 нм до ~1.2 мкм, толщина – от 300 нм до ~2 мкм. При этом на основании анализа микроструктуры встречающихся малослойных частиц можно сделать вывод, что отдельные слои максенов имеют дефекты в виде круглых отверстий, вероятно, унаследованных от структуры исходной МАХ-фазы.
Рис. 1. Микроструктура синтезированных агрегатов аккордеоноподобного максена Ti2CTx по данным ПЭМ
Данные просвечивающей электронной микроскопии для модифицированной в результате гидротермальной обработки максенсодержащей дисперсии (рис. 2) свидетельствуют о том, что поверхность максеновых агрегатов покрывают наночастицы диаметром порядка 3–10 нм. Поскольку для данных условий гидротермальной обработки смеси нитрата кобальта(II) с мочевиной свойственно формирование иерархически организованных структур диаметром >3–4 мкм [72, 73], образовавшиеся наночастицы можно отнести к диоксиду титана, который зачастую является продуктом гидротермальной обработки титансодержащих максенов при температурах 160–200°С [40, 74–76]. На отслоившихся малослойных максенах частицами TiO2 плотно покрыты обе поверхности, что должно сказываться на электрохимических свойствах материала в целом.
Рис. 2. Микроструктура частиц многослойного Ti2CTx после гидротермального синтеза Co(CO3)0.5(OH) ⋅ 0.11H2O по данным ПЭМ
Полученную дисперсию в 1-бутаноле композиционного материала, содержащего декорированные наночастицами TiO2 аккордеоноподобные максеновые агрегаты и иерархически организованные образования Co(CO3)0.5(OH) ⋅ 0.11H2O, изучали с помощью совмещенного ДСК/ТГА (рис. 3). Установлено, что нагрев до температуры ~100°С в токе воздуха приводит к практически полному удалению растворителя и сопровождается эндоэффектом с максимумом при 98°С; при этом завершается основная потеря массы (~93–94%). Дальнейшее снижение массы в интервале температур 100–550°С может быть связано с одновременно протекающими процессами деструкции фазы Co(CO3)0.5(OH) ⋅ 0.11H2O (в интервале температур 225–370°С [72, 77]), отщепления поверхностных функциональных групп и окисления максенов; к последнему можно отнести максимум экзотермического теплового эффекта при 394°С [43]. После температуры 550°С начинает превалировать процесс окисления, так как наблюдается прирост массы образца. Высокотемпературный тепловой эффект при 900–1000°С, сопровождаемый потерей массы, можно отнести к восстановлению карбидной фазой оксидов кобальта(III) с образованием соединений кобальта в меньших степенях окисления.
Рис. 3. Кривые ДСК (синяя) и ТГА (зеленая) использованных функциональных чернил (дисперсии нанокомпозита Ti2CTx– Co(CO3)0.5(OH) ⋅ 0.11H2O) в токе воздуха
Полученные функциональные чернила, содержащие нанокомпозит Ti2CTx–Co(CO3)0.5(OH) ⋅ 0.11H2O, использовали для формирования рецепторного слоя соответствующего состава, изученного с применением РФА (рис. 4), Раман-спектроскопии (рис. 5) и РЭМ (рис. 6). Установлено, что гидротермальная обработка дисперсии максена Ti2CTx приводит к его частичному окислению с образованием сильно аморфизованной фазы анатаза [78] (вероятно, из-за высокой дисперсности). При этом наблюдается аморфизация и изменение межслоевых расстояний обеих фракций максена. Так, рефлекс (002) исходного порошка Ti2CTx максимальной интенсивности смещается в сторону бóльших углов (что можно связать с уменьшением межслоевого расстояния от 11.6 до 9.1 Å) с кардинальным уменьшением своей интенсивности, а малоинтенсивный рефлекс при 2θ = 6.6° – в сторону меньших углов до ~6.4°, т.е. можно констатировать, что для максимально расслоенной фракции аккордеоноподобных максенов происходит дальнейшее незначительное увеличение межслоевого расстояния от 13.4 до 13.8 Å. Кроме того, в качестве примеси обнаружено некоторое количество кубического TiC. О формировании в выбранных условиях гидротермального синтеза модифицирующей фазы гидрата гидроксокарбоната кобальта(II) Co(CO3)0.5(OH) ⋅ 0.11H2O свидетельствуют относительно интенсивные рефлексы, отвечающие соединениям никеля и кобальта состава М(CO3)0.5(OH) ⋅ 0.11H2O (М = Ni, Co) [79, 80].
Рис. 4. Рентгенограммы исходного порошка МАХ-фазы Ti2AlC, многослойного максена Ti2CTx и полученного в результате гидротермального синтеза нанокомпозита (покрытие на стеклянной подложке)
Рис. 5. Раман-спектр полученного композиционного покрытия Ti2CTx–Co(CO3)0.5(OH) ⋅ 0.11H2O
Рис. 6. Микроструктура композиционного покрытия Ti2CTx–Co(CO3)0.5(OH) ⋅ 0.11H2O, нанесенного методом микроплоттерной печати, по данным РЭМ; стрелками указаны включения Co(CO3)0.5(OH) ⋅ 0.11H2O
Исследование полученного композита методом Раман-спектроскопии подтвердило наличие в его составе наночастиц диоксида титана (рис. 5). Так, в спектре полученного продукта Ti2CTx–Co(CO3)0.5(OH) ⋅ 0.11H2O наблюдается характерный для максена набор мод при 250, 396, 633 и 670 см–1. Кроме того, в области 1200–1600 см–1 присутствуют два уширенных интенсивных пика ωD и ωG, относящихся к D- и G-полосам углерода в составе максенов [81]. Интенсивная мода при 148 см–1 может быть отнесена к связи Ti–O в структуре анатаза, к данной фазе можно отнести и моды при 321 и 516 см–1, а также перекрывающиеся с полосами максена пики при 396 и 633 см–1. Малоинтенсивные моды при 773–811 см–1, согласно литературным данным, характерны для структуры рутила.
РЭМ рецепторного слоя показала (рис. 6), что он преимущественно состоит из аккордеоноподобных частиц максена с рельефной поверхностью, вероятно, за счет декорирования наночастицами TiO2, образовавшимися при гидротермальной обработке системы при температуре 160°С. При этом в структуру покрытия встроены иерархически организованные агрегаты в виде ажурных цветов диаметром 3–5 мкм, микроструктура которых соответствует изученной ранее для фазы Co(CO3)0.5(OH) ⋅ 0.11H2O [72, 73]. Формирование таких объемных образований может значительно увеличить пористость композиционного материала в целом и повысить доступность центров адсорбции, что принципиально важно для хемосенсорных материалов.
Хеморезистивные свойства рецепторного слоя Ti2CTx–10 мол. % Co(CO3)0.5(OH) ⋅ 0.11H2O
Для полученного покрытия Ti2CTx–Co(CO3)0.5(OH) ⋅ 0.11H2O, допированного наночастицами TiO2, в сухой атмосфере (при RH = 0%) при комнатной температуре наблюдалось высокое сопротивление (>1 ГОм), связанное с формированием гетеропереходов на границах раздела фаз, что не позволило провести измерения на имеющемся оборудовании. Известно, что максены гиперчувствительны к влажности, а увеличение относительной влажности сопровождается снижением электрического сопротивления. С этой целью была последовательно увеличена относительная влажность воздушного потока, выполняющего роль газа сравнения. При относительной влажности воздуха 65 ± 3% зафиксировано сопротивление базовой линии порядка 700–800 МОм, что позволило выполнить измерения газочувствительных свойств полученного композиционного покрытия.
Для него изучена чувствительность к широкой группе газов-аналитов: 50 ppm CO, C6H6, C3H6O, C2H5OH, 2500 ppm H2, CH4, 5% O2 и 40 ppm NH3, NO2; на рис. 7 представлена диаграмма селективности. При напуске того или иного аналита наблюдалось увеличение (О2 и C6H6) или уменьшение (CO, NH3, NO2, C3H6O, H2, CH4, O2 и C2H5OH) электрического сопротивления, что обусловлено различными механизмами детектирования. На диаграмме селективности это изменение отображено с помощью знаков “+” и “–”. Знак “+” соответствует увеличению электрического сопротивления, знак “–” – уменьшению. Как видно из рис. 7, с увеличением сопротивления достигается отклик на О2 и C6H6, а с уменьшением – на все остальные газы.
Рис. 7. Диаграмма селективности, составленная из откликов на различные газы: 50 ppm CO, C6H6, C3H6O, C2H5OH, 2500 ppm H2, CH4, 5% O2 и 40 ppm NH3, NO2. Знак “+” соответствует увеличению электрического сопротивления, знак “–” – уменьшению; измерения проведены при комнатной температуре и RH = 65 ± 3%
Увеличение сопротивления при напуске типичного восстановительного аналита бензола можно объяснить влиянием механизма детектирования, свойственного максенам и вызванного так называемым “набуханием” при сорбции газообразных веществ. Повышение же, хоть и незначительное, сопротивления материала при напуске кислорода может быть связано исключительно с влиянием наночастиц TiO2, образовавшихся при гидротермальном синтезе Co(CO3)0.5(OH) ⋅ 0.11H2O.
Снижение сопротивления нанокомпозитного слоя Ti2CTx–Co(CO3)0.5(OH) ⋅ 0.11H2O, содержащего наночастицы TiO2, при напуске типичных восстановительных газов-аналитов также можно связать с механизмом детектирования на основе полупроводниковых оксидов металлов n-типа, к которым относится диоксид титана. Снижение же сопротивления рецепторного слоя в ответ на введение в газовоздушную смесь диоксида азота не может быть объяснено сочетанием откликов индивидуальных максенов и полупроводниковых оксидов металлов n-типа. Вероятно, в данном случае причины, вызывающие изменение электропроводности, являются более сложными и требующими дальнейшего изучения.
Резюмируя, можно сказать, что из всех анализируемых газов наибольший отклик (91 и 63%) рецепторного слоя Ti2CTx–Co(CO3)0.5(OH) ⋅ 0.11H2O, допированного наночастицами TiO2, зафиксирован на 40 ppm NH3 и NO2 соответственно, что характерно для хемосенсорных материалов на основе максенов и их композитов с полупроводниковыми оксидами металлов. На рис. 8 представлены данные по изменению сигнала при напуске 40 ppm NH3: наблюдается уменьшение электрического сопротивления (рис. 8а), что соответствует высокому отклику в размере 91% (рис. 8б). Расчетное значение времени отклика (τ90) составило порядка 126 с. Стоит отметить, что полученное значение величины отклика на аммиак в комнатных условиях при повышенной влажности является достаточно высоким для всех классов хеморезистивных материалов. В предыдущих исследованиях, связанных с частичным окислением многослойного Ti2CTx путем термической обработки на воздухе [43, 66], нами был показан близкий эффект: при относительной влажности 50–55% и комнатной температуре наблюдались отклики на большие концентрации (100 ppm) этих газов величиной 60–61 и 41–54% соответственно. Вероятно, это связано как с более высокой удельной площадью поверхности, так и с эволюцией формирования наночастиц TiO2 на поверхности максена.
Рис. 8. Изменение сигналов при детектировании 40 ppm NH3: электрического сопротивления (а) и отклика (б); измерения проведены при комнатной температуре и RH = 65 ± 3%
Экспериментально показано, что полученные пленки обладают также повышенной чувствительностью к влажности, однако для получения более полной информации об этом эффекте необходимо использовать оборудование с возможностью измерять электрическое сопротивление, значительно превышающее 1 ГОм.
Заключение
Разработан метод получения композиционного материала на основе многослойного максена Ti2CTx, декорированного наночастицами полупроводникового оксида металла n-типа TiO2 и содержащего 10 мол. % иерархически организованных объемных образований состава Co(CO3)0.5(OH) ⋅ 0.11H2O. Данный подход включает гидротермальный синтез Co(CO3)0.5(OH) ⋅ 0.11H2O в присутствии в реакционной смеси диспергированного максена, который при выбранных условиях обработки подвергается частичному окислению с образованием на поверхности наночастиц TiO2 диаметром ~3–10 нм. Изучены особенности микроструктуры и фазового состава материала, установлено присутствие в его составе иерархически организованного Co(CO3)0.5(OH) ⋅ 0.11H2O, слабо-кристаллизованных наночастиц TiO2 и примеси TiC.
Установлена газочувствительность материала при комнатной температуре и относительной влажности 65 ± 3% по отношению к целому ряду аналитов, выявлена повышенная чувствительность по отношению к 40 ppm NH3 и NO2 (отклики составили 91 и 63% соответственно). Показано, что объяснение механизма детектирования изученных газов не всегда может быть основано лишь на комбинации подходов, определенных для максенов и полупроводниковых оксидов металлов n-типа (TiO2), что особенно актуально при детектировании NO2.
Отмечено значительное повышение величин отклика при комнатной температуре по сравнению с индивидуальным аккордеоноподобным максеном Ti2CTx, для которого отклики на аммиак и этанол при RH = 55% не превышали 7 и 11% соответственно, а также по сравнению с частично окисленным путем термической обработки на воздухе максеном Ti2CTx. Такое изменение сенсорных свойств может быть связано как с увеличением удельной площади поверхности и, соответственно, числа активных центров для сорбции газов-аналитов, так и с формированием гетеропереходов на границах раздела фаз.
Полученные результаты показывают перспективность модифицирования многослойных максенов полупроводниковыми оксидами металлов и объемными иерархически сформированными образованиями, например Co(CO3)0.5(OH) ⋅ 0.11H2O, с целью улучшения их хеморезистивных характеристик, а также необходимость осуществления систематических исследований в данной области.
Финансирование работы
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 21-73-10251), https://rscf.ru/en/project/21-73-10251/.
Конфликт интересов
Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
About the authors
Е. P. Simonenko
Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: ep_simonenko@mail.ru
Russian Federation, Moscow, 119991
A. S. Mokrushin
Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry of the Russian Academy of Sciences
Email: ep_simonenko@mail.ru
Russian Federation, Moscow, 119991
I. А. Nagornov
Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry of the Russian Academy of Sciences
Email: ep_simonenko@mail.ru
Russian Federation, Moscow, 119991
S. А. Dmitrieva
Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry of the Russian Academy of Sciences; D.I. Mendeleev Russian University of Chemical Technology. D.I. Mendeleev Russian Chemical and Technological University
Email: ep_simonenko@mail.ru
Russian Federation, Moscow, 119991; Moscow, 125047
Т. L. Simonenko
Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry of the Russian Academy of Sciences
Email: ep_simonenko@mail.ru
Russian Federation, Moscow, 119991
N. P. Simonenko
Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry of the Russian Academy of Sciences
Email: ep_simonenko@mail.ru
Russian Federation, Moscow, 119991
N. T. Kuznetsov
Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry of the Russian Academy of Sciences
Email: ep_simonenko@mail.ru
Russian Federation, Moscow, 119991
References
- Zhang D., Pan W., Tang M. et al. // Nano Res. 2023. V. 16. № 10. P. 11959. https://doi.org/10.1007/s12274-022-5233-2
- Laor Y., Parker D., Pagé T. // Rev. Chem. Eng. 2014. V. 30. № 2. https://doi.org/10.1515/revce-2013-0026
- Han Z., Qi Y., Yang Z. et al. // J. Mater. Chem. С. 2020. V. 8. № 38. P. 13169. https://doi.org/10.1039/D0TC03750H
- Saxena P., Shukla P. // Environ. Prog. Sustain. Energy. 2023. V. 42. № 5. https://doi.org/10.1002/ep.14126
- Tyagi S., Chaudhary M., Ambedkar A.K. et al. // Sens. Diagnostics. 2022. V. 1. № 1. P. 106. https://doi.org/10.1039/D1SD00034A
- Kaur L. // J. Indian Chem. Soc. 2023. V. 100. № 6. P. 101019. https://doi.org/10.1016/j.jics.2023.101019
- Yuan Y., Jia H., Xu D. et al. // Sci. Total Environ. 2023. V. 857. P. 159563. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.159563
- Joshi N., Hayasaka T., Liu Y. et al. // Microchim. Acta. 2018. V. 185. № 4. P. 213. https://doi.org/10.1007/s00604-018-2750-5
- Lay-Ekuakille A., Ikezawa S., Mugnaini M. et al. // Measurement. 2017. V. 98. P. 49. https://doi.org/10.1016/j.measurement.2016.10.055
- Dahmann D., Mosimann T., Matter U. // J. Aerosol Sci. 2000. V. 31. P. 21. https://doi.org/10.1016/S0021-8502(00)90027-2
- Das S., Mojumder S., Saha D. et al. // Sens. Actuators, B: Chem. 2022. V. 352. P. 131066. https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.131066
- Righettoni M., Amann A., Pratsinis S.E. // Mater. Today. 2015. V. 18. № 3. P. 163. https://doi.org/10.1016/j.mattod.2014.08.017
- Wang Z., Wang C. // J. Breath Res. 2013. V. 7. № 3. P. 037109. https://doi.org/10.1088/1752-7155/7/3/037109
- Zhou X., Xue Z., Chen X. et al. // J. Mater. Chem. B. 2020. V. 8. № 16. P. 3231. https://doi.org/10.1039/C9TB02518A
- Amann A., Corradi M., Mazzone P. et al. // Expert Rev. Mol. Diagn. 2011. V. 11. № 2. P. 207. https://doi.org/10.1586/erm.10.112
- Tai H., Wang S., Duan Z. et al. // Sens. Actuators, B: Chem. 2020. V. 318. P. 128104. https://doi.org/10.1016/j.snb.2020.128104
- Zhai S., Li Z., Zhang H. et al. // Eng. Appl. Artif. Intell. 2024. V. 133. P. 108038. https://doi.org/10.1016/j.engappai.2024.108038
- Deshmukh S., Bandyopadhyay R., Bhattacharyya N. et al. // Talanta. 2015. V. 144. P. 329. https://doi.org/10.1016/j.talanta.2015.06.050
- Montuschi P., Mores N., Trové A. et al. // Respiration. 2013. V. 85. № 1. P. 72. https://doi.org/10.1159/000340044
- Behera B., Joshi R., Anil Vishnu G.K. et al. // J. Breath Res. 2019. V. 13. № 2. P. 024001. https://doi.org/10.1088/1752-7163/aafc77
- Yaqoob U., Younis M.I. // Sensors. 2021. V. 21. № 8. P. 2877. https://doi.org/10.3390/s21082877
- Fazio E., Spadaro S., Corsaro C. et al. // Sensors. 2021. V. 21. № 7. P. 2494. https://doi.org/10.3390/s21072494
- Zhu L.-Y., Ou L.-X., Mao L.-W. et al. // Nano-Micro Lett. 2023. V. 15. № 1. P. 89. https://doi.org/10.1007/s40820-023-01047-z
- Drmosh Q.A., Olanrewaju Alade I., Qamar M. et al. // Chem. – An Asian J. 2021. V. 16. № 12. P. 1519. https://doi.org/10.1002/asia.202100303
- Yu H., Guo C., Zhang X. et al. // Adv. Sustain. Syst. 2022. V. 6. № 4. https://doi.org/10.1002/adsu.202100370
- Ahmadipour M., Pang A.L., Ardani M.R. et al. // Mater. Sci. Semicond. Process. 2022. V. 149. P. 106897. https://doi.org/10.1016/j.mssp.2022.106897
- Yang D., Gopal R.A., Lkhagvaa T. et al. // Meas. Sci. Technol. 2021. V. 32. № 10. P. 102004. https://doi.org/10.1088/1361-6501/ac03e3
- Tyagi D., Wang H., Huang W. et al. // Nanoscale. 2020. V. 12. № 6. P. 3535. https://doi.org/10.1039/C9NR10178K
- Noreen S., Tahir M.B., Hussain A. et al. // Int. J. Hydrogen Energy. 2022. V. 47. № 2. P. 1371. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.10.044
- Sett A., Rana T., Rajaji U. et al. // Sens. Actuators, A: Phys. 2022. V. 338. P. 113507. https://doi.org/10.1016/j.sna.2022.113507
- Hassan M., Liu S., Liang Z. et al. // J. Adv. Ceram. 2023. V. 12. № 12. P. 2149. https://doi.org/10.26599/JAС. 2023.9220810
- Mirzaei A., Lee M.H., Safaeian H. et al. // Sensors. 2023. V. 23. № 21. P. 8829. https://doi.org/10.3390/s23218829
- Wang F., Yeap S.P., Cheok C.Y. et al. // ChemBioEng. Rev. 2023. V. 10. № 6. P. 907. https://doi.org/10.1002/cben.202300010
- Mashangva T.T., Goel A., Bagri U. et al. // Appl. Mater. Today. 2024. V. 38. P. 102163. https://doi.org/10.1016/j.apmt.2024.102163
- Bhati V.S., Kumar M., Banerjee R. // J. Mater. Chem. С. 2021. V. 9. № 28. P. 8776. https://doi.org/10.1039/D1TC01857D
- Sai Bhargava Reddy M., Aich S. // Coord. Chem. Rev. 2024. V. 500. P. 215542. https://doi.org/10.1016/j.ccr.2023.215542
- Simonenko E.P., Simonenko N.P., Mokrushin A.S. et al. // Nanomaterials. 2023. V. 13. № 850. P. 1. https://doi.org/10.3390/nano13050850
- Sun Q., Wang J., Wang X. et al. // Nanoscale. 2020. V. 12. № 32. P. 16987. https://doi.org/10.1039/C9NR08350B
- Pazniak H., Plugin I.A., Loes M.J. et al. // ACS Appl. Nano Mater. 2020. V. 3. № 4. P. 3195. https://doi.org/10.1021/acsanm.9b02223
- Kuang D., Wang L., Guo X. et al. // J. Hazard. Mater. 2021. V. 416. P. 126171. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.126171
- Simonenko E.P., Nagornov I.A., Mokrushin A.S. et al. // Micromachines. 2023. V. 14. № 4. P. 725. https://doi.org/10.3390/mi14040725
- Fan C., Shi J., Zhang Y. et al. // Nanoscale. 2022. V. 14. № 9. P. 3441. https://doi.org/10.1039/D1NR06838E
- Simonenko E.P., Nagornov I.A., Mokrushin A.S. et al. // Materials (Basel). 2023. V. 16. № 13. P. 4506. https://doi.org/10.3390/ma16134506
- Mokrushin A.S., Nagornov I.A., Averin A.A. et al. // Chemosensors. 2023. V. 11. № 2. P. 142. https://doi.org/10.3390/chemosensors11020142
- Liang D., Song P., Liu M. et al. // Ceram. Int. 2022. V. 48. № 7. P. 9059. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.12.089
- Gasso S., Mahajan A. // Mater. Sci. Semicond. Process. 2022. V. 152. P. 107048. https://doi.org/10.1016/j.mssp.2022.107048
- Shao Z., Zhao Z., Chen P. et al. // Inorg. Nano-Metal Chem. 2022. P. 1. https://doi.org/10.1080/24701556.2022.2078363
- Han Y., Zhang W., Ding Y. et al. // Analyst. 2024. V. 149. № 7. P. 2016. https://doi.org/10.1039/D3AN02191B
- Hermawan A., Zhang B., Taufik A. et al. // ACS Appl. Nano Mater. 2020. V. 3. № 5. P. 4755. https://doi.org/10.1021/acsanm.0c00749
- Wang L., Yao X., Yuan S. et al. // RSC Adv. 2023. V. 13. № 9. P. 6264. https://doi.org/10.1039/D2RA06903B
- Yao Y., Li Z., Han Y. et al. // Chem. Eng. J. 2023. V. 451. P. 139029. https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.139029
- Liu Z., Mo X., Tian S. et al. // Sens. Actuators, B: Chem. 2024. V. 400. P. 134853. https://doi.org/10.1016/j.snb.2023.134853
- Song Y., Liu X., Deng C. et al. // Ceram. Int. 2024. V. 50. № 7. P. 10715. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2023.12.387
- Bu X., Ma F., Wu Q. et al. // Sens. Actuators, B: Chem. 2022. V. 369. P. 132232. https://doi.org/10.1016/j.snb.2022.132232
- Zhang D., Mi Q., Wang D. et al. // Sens. Actuators, B: Chem. 2021. V. 339. P. 129923. https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.129923
- Simonenko E.P., Simonenko N.P., Nagornov I.A. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2022. V. 67. № 5. P. 705. https://doi.org/10.1134/S0036023622050187
- Simonenko E.P., Simonenko N.P., Nagornov I.A. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2022. V. 67. № 11. P. 1850. https://doi.org/10.1134/S0036023622601222
- Badie S., Dash A., Sohn Y.J. et al. // J. Am. Ceram. Soc. 2021. V. 104. № 4. P. 1669. https://doi.org/10.1111/jace.17582
- Zhang Z., Zhou Y., Wu S. et al. // Ceram. Int. 2023. V. 49. № 22. P. 36942. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2023.09.025
- Liu A., Yang Q., Ren X. et al. // Ceram. Int. 2020. V. 46. № 5. P. 6934. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.11.008
- Roy C., Banerjee P., Bhattacharyya S. // J. Eur. Ceram. Soc. 2020. V. 40. № 3. P. 923. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2019.10.020
- Luo W., Liu Y., Wang C. et al. // J. Mater. Chem. С. 2021. V. 9. № 24. P. 7697. https://doi.org/10.1039/D1TC01338F
- Galvin T., Hyatt N.C., Rainforth W.M. et al. // J. Eur. Ceram. Soc. 2018. V. 38. № 14. P. 4585. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2018.06.034
- Roy C., Banerjee P., Mondal S. et al. // Mater. Today Chem. 2022. V. 26. P. 101160. https://doi.org/10.1016/j.mtchem.2022.101160
- Nadimi H., Soltanieh M., Sarpoolaky H. // Ceram. Int. 2022. V. 48. № 7. P. 9024. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.12.084
- Mokrushin A.S., Nagornov I.A., Gorobtsov P.Y. et al. // Chemosensors. 2022. V. 11. № 1. P. 13. https://doi.org/10.3390/chemosensors11010013
- Simonenko N.P., Fisenko N.A., Fedorov F.S. et al. // Sensors (Switzerland). 2022. V. 22. № 3247. P. 1. https://doi.org/10.3390/s22093473
- Mokrushin A.S., Nagornov I.A., Simonenko Т. L. et al. // Mater. Sci. Eng., B. 2021. V. 271. P. 115233. https://doi.org/10.1016/j.mseb.2021.115233
- Nagornov I.A., Mokrushin A.S., Simonenko E.P. et al. // Ceram. Int. 2020. V. 46. № 6. P. 7756. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.11.279
- Mokrushin A.S., Simonenko Т. L., Simonenko N.P. et al. // Appl. Surf. Sci. 2022. V. 578. P. 151984. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.151984
- Mokrushin A.S., Gorban Y.M., Nagornov I.A. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2022. V. 67. № 12. P. 2099. https://doi.org/10.1134/S0036023622601520
- Simonenko Т. L., Simonenko N.P., Gorobtsov P.Y. et al. // Appl. Sci. 2023. V. 13. № 10. P. 5844. https://doi.org/10.3390/app13105844
- Simonenko Т. L., Simonenko N.P., Gorobtsov P.Y. et al. // Materials (Basel). 2023. V. 16. № 12. P. 4202. https://doi.org/10.3390/ma16124202
- Liu S., Wang M., Liu G. et al. // Appl. Surf. Sci. 2021. V. 567. P. 150747. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.150747
- Zhang D., Yu S., Wang X. et al. // J. Hazard. Mater. 2022. V. 423. P. 127160. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.127160
- Zhou Y., Wang Y., Wang Y. et al. // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2021. V. 13. № 47. P. 56485. https://doi.org/10.1021/acsami.1c17429
- Porta P., Dragone R., Fierro G. et al. // J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1992. V. 88. № 3. P. 311. https://doi.org/10.1039/FT9928800311
- Weirich T., Winterer M., Seifried S. et al. // Ultramicroscopy. 2000. V. 81. № 3–4. P. 263. https://doi.org/10.1016/S0304-3991(99)00189-8
- Zhou T., Gao W., Wang Q. et al. // Materials (Basel). 2018. V. 11. № 2. P. 207. https://doi.org/10.3390/ma11020207
- Wu J., Mi R., Li S. et al. // RSC Adv. 2015. V. 5. № 32. P. 25304. https://doi.org/10.1039/C4RA16937A
- Melchior S.A., Raju K., Ike I.S. et al. // J. Electrochem. Soc. 2018. V. 165. № 3. P. A501. https://doi.org/10.1149/2.0401803jes
Supplementary files