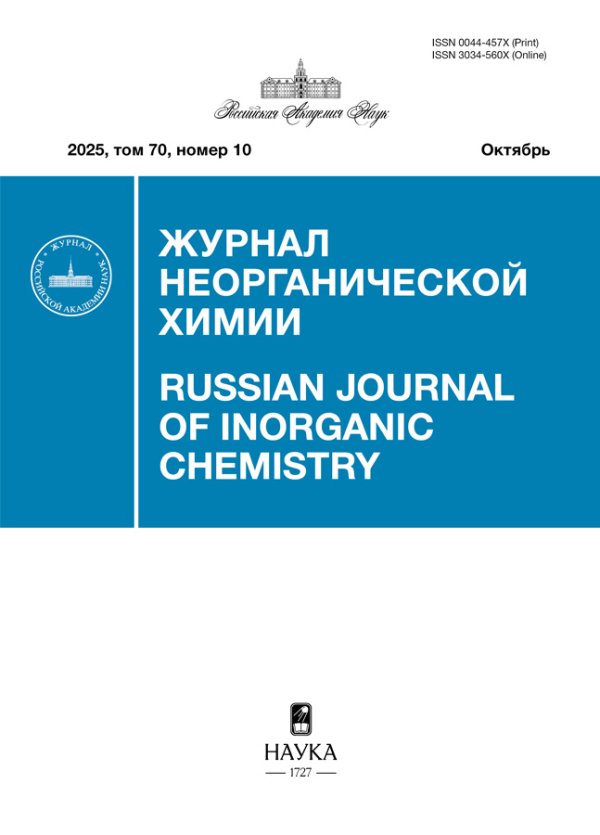Effect of the photonic band gap position on the photocatalytic activity of anodic titanium oxide photonic crystal
- Authors: Belokozenko M.A.1, Sapoletova N.A.1, Kushnir S.E.1, Napolskii K.S.1
-
Affiliations:
- Lomonosov Moscow State University
- Issue: Vol 69, No 1 (2024)
- Pages: 131-140
- Section: НЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И НАНОМАТЕРИАЛЫ
- URL: https://journal-vniispk.ru/0044-457X/article/view/257670
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044457X24010155
- EDN: https://elibrary.ru/ZYFOHV
- ID: 257670
Cite item
Full Text
Abstract
The slowing down of the group velocity of light at the edges of the photonic band gap is one of the important optical effects observed in photonic crystals. In particular, the “slow light” effect is used in photocatalysis to increase the photocatalytic activity of semiconductors. In this work, anatase photonic crystals with different spectral positions of the photonic band gap (390–1283 nm, measured in water) were obtained. It is shown that if one of the photonic band gaps is located near the absorption edge of the semiconductor (410 nm), photonic crystal exhibits high photocatalytic activity in the photodegradation of methylene blue. At the same time, the photocatalytic activity of anatase photonic crystal increases by 30% when the photonic band gap of the third order rather than the first order is located near the absorption edge of the semiconductor.
Full Text
Введение
Интерес к фотокаталитическим свойствам диоксида титана (TiO2) возник еще в первой половине ХХ в., когда впервые была обнаружена способность TiO2 катализировать реакции разложения красителей под действием ультрафиолетового (УФ) излучения [1]. Впоследствии В.Н. Филимонов показал возможность использования TiO2 для фотоокисления изопропанола [2]. На сегодняшний день были исследованы фотокаталитические реакции с участием органических и неорганических веществ, а фотокатализ признан одним из наиболее перспективных подходов к борьбе с загрязнением окружающей среды и изменением климата [3]. Благодаря своей высокой каталитической активности, низкой стоимости, высокой фотостабильности и низкой токсичности диоксид титана рассматривается в качестве фотокатализатора для разложения воды с целью получения водорода, очистки природных сред от органических загрязнителей и восстановления CO2 [4–13]. Однако практическое применение TiO2 в качестве фотокатализатора ограничивается его низкой фотокаталитической активностью в видимой области спектра из-за широкой запрещенной зоны (3.2 эВ для анатаза [14] и 3.0 эВ для рутила [15]), а также высокой скоростью рекомбинации фотогенерированных носителей заряда [16].
Для повышения фотокаталитической активности TiO2 были разработаны различные подходы. Наиболее известные из них — создание композитов на основе TiO2 с графеном [17], углеродными нанотрубками [18], наночастицами полупроводников [16], а также легирование диоксида титана металлами [19] и неметаллами [20]. Интересным подходом к повышению фотокаталитической активности TiO2 является использование наноструктурированных материалов [21–23]. В последнее десятилетие в качестве перспективных фотокатализаторов начали рассматривать одномерные фотонные кристаллы (ФК) на основе анодного оксида титана (АОТ) [24–27]. Их структура представлена вертикально ориентированными плотноупакованными нанотрубками с периодическим изменением внутреннего и/или внешнего диаметра вдоль их длинной оси [28–31]. Упорядоченная структура, а также трубчатая морфология АОТ способствуют эффективному массопереносу молекул и частиц, участвующих в фотокаталитических реакциях, а большая удельная площадь поверхности АОТ увеличивает доступ реагентов к активным центрам ТiO2 [3, 32, 33]. Преимуществом ФК на основе АОТ является наличие в их спектре фотонных запрещенных зон (ФЗЗ) — диапазонов частот, в которых свет не может распространяться в материале, а отражается от его поверхности [34]. На краях ФЗЗ свет существует в виде стоячей волны и распространяется с групповой скоростью, близкой к нулю [35]. Это явление называется эффектом “медленного света”, или “медленных фотонов”. Согласно теоретической работе [34], оптическое поглощение ФК обратно пропорционально групповой скорости проходящего через него света. Таким образом, поглощение света диоксидом титана может быть увеличено, если вблизи края его собственного поглощения будет находиться один из краев ФЗЗ [22, 27, 36, 37].
ФК на основе АОТ, в которых реализуется эффект “медленных фотонов”, проявляют более высокую фотокаталитическую активность в реакциях разложения органических красителей, по сравнению с нанотрубками, не обладающими периодической структурой [24, 26, 27]. Однако в литературе имеются данные об изменении фотокаталитической активности ФК на основе АОТ, в зависимости от положения ФЗЗ, лишь в узком диапазоне длин волн (435–590 нм) [27]. Поэтому целью данной работы являлось установление корреляции между положением ФЗЗ в широком диапазоне длин волн для отожженных ФК на основе АОТ и их фотокаталитической активностью в модельной реакции фоторазложения метиленового синего.
Экспериментальная часть
Исходным материалом для синтеза фотокатализаторов служила титановая фольга (99.6%) толщиной 0.4 мм. На предварительном этапе выполняли электрохимическую полировку ее поверхности в водном растворе, содержащем 15.6 М уксусной кислоты (CH3COOH) и 1.0 М хлорной кислоты (HClO4), при температуре 10–25°С и интенсивном перемешивании. Для электрополировки использовали импульсный режим с прямоугольным профилем напряжения: 40 В в течение 10 с, затем 60 В в течение 10 с. Цикл повторяли 12 раз [30].
АОТ получали анодным окислением титановой фольги в свежеприготовленном электролите на основе этиленгликоля, содержащем 0.09 М фторида аммония (NH4F), 0.09 М ацетата аммония (CH3COONH4) и 1.2 М воды. Электролит готовили, добавляя этиленгликоль к водному раствору фторида аммония и ацетата аммония. Синтез осуществляли в двухэлектродной электрохимической тефлоновой ячейке объемом 100 мл с титановым катодом. Расстояние между электродами составляло 2 см. С помощью регулятора температуры Термодат-13К6 (ООО “Системы контроля”, Россия) в ячейке поддерживали постоянную температуру электролита 30 ± 0.3°С, который непрерывно перемешивали со скоростью 480 об/мин верхнеприводной мешалкой. Площадь анодирования (1.04 ± 0.02 см2) была ограничена резиновым кольцом круглого сечения.
ФК на основе АОТ получали с использованием прямоугольно-волнового профиля приложенного напряжения (U) от плотности электрического заряда (q) [30] в интервале напряжений 50–70 В. Варьирование спектрального положения ФЗЗ осуществляли путем изменения плотности заряда, затраченного на один цикл анодирования (q0), в интервале 0.12–0.43 Кл/см2. Суммарная плотность заряда была одинаковой для всех образцов и составляла 8.6 ± 0.2 Кл/см2. После формирования ФК для увеличения оптического контраста проводили электрохимическую постобработку образцов при напряжении 50 В [38] до достижения суммарной плотности заряда анодирования 21 ± 1 Кл/см2, включая заряд, затраченный на синтез ФК. Была получена серия образцов ФК с q0 = 0.12 (образец S390), 0.14 (образец S435), 0.20 (образец S614), 0.24 (образец S761), 0.28 (образец S857), 0.35 (образец S1065), 0.40 (образец S1173) и 0.43 Кл/см2 (образец S1283). В шифрах образцов после S указано спектральное положение ФЗЗ (в нм) при исследовании в воде отожженного ФК. В качестве образца сравнения также была получена пленка АОТ при постоянном напряжении анодирования 60 В и плотности заряда 24.3 Кл/см2 (образец NT). После окончания анодирования полученные образцы промывали этиленгликолем и этиловым спиртом, а затем высушивали потоком воздуха. Отжиг образцов проводили на воздухе в муфельной печи при температуре 450°С в течение 2 ч. Скорость нагрева составляла 1 град/мин.
Рентгенофазовый анализ образцов после отжига выполняли на дифрактометре D/MAX-2500V/PC (Rigaku, Япония) с вращающимся анодом. Съемку проводили в диапазоне углов 2è = 20°–80° с шагом 0.02°. В качестве источника рентгеновского излучения выступала трубка с медным анодом (CuKá-излучение, ë = 1.5418 Å). Для идентификации фаз использовали базу данных ICDD PDF2. Средний размер области когерентного рассеяния (D) был рассчитан по формуле Дебая—Шеррера [39]:
где ë — длина волны рентгеновского излучения, âhkl — интегральная ширина рефлекса, è — брэгговский угол. Значение интегральной ширины (âhkl) было скорректировано на инструментальное уширение по формуле [39]:
где â1 и â2 — значения экспериментального и инструментального уширения, полученные при описании функцией Гаусса рефлекса на дифрактограмме исследуемого образца и эталона соответственно. В качестве эталона для определения инструментального уширения (â2) был использован порошок CeO2 (NIST SRM 674).
ИК-спектры регистрировали на ИК-Фурье-спектрометре Spectrum Three (Perkin Elmer, США) в геометрии зеркального отражения с использованием приставки GLADIATR (PIKE Technologies, США) в диапазоне волновых чисел 400–4000 см−1. В качестве образца сравнения использовали пленку золота, напыленную на покровное стекло.
Морфологию образцов изучали с помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ) с автоэмиссионным источником Supra 50vp (LEO, Германия). Перед съемкой на образцы напыляли слой хрома толщиной 7 нм на установке магнетронного распыления Q150T ES (Quorum Technologies, Великобритания). Съемку проводили с использованием внутрилинзового детектора вторичных электронов при величине ускоряющего напряжения электронной пушки 5 кВ.
Оптические спектры полного отражения регистрировали в диапазоне длин волн 200–1600 нм на спектрофотометре Lambda 950 (Perkin Elmer, США), заполняя поры ФК дистиллированной водой. Угол падения света составлял 8° (относительно нормали к поверхности образца), площадь облучаемой области — 3 × 9 мм2. Интенсивность полного отражения определяли относительно стандарта диффузного отражения Spectralon. Спектры полного пропускания регистрировали на том же спектрофотометре в диапазоне длин волн 300–1800 нм. Для регистрации спектров пропускания и расчета ширины запрещенной зоны полупроводника закристаллизованную пленку анодного оксида титана отделяли от титановой подложки. Для этого ее подвергали повторному анодированию при 70 В в течение 5 мин, а затем помещали в 30%-й водный раствор H2O2 при комнатной температуре на 5 мин [40]. Отделившуюся пленку АОТ промывали дистиллированной водой и высушивали на воздухе.
Фотокаталитическую активность образцов исследовали по реакции разложения метиленового синего (МС) под воздействием УФ-излучения (ë = 365 нм). Эксперименты проводили в проточной фотокаталитической ячейке при комнатной температуре, источником УФ-излучения служила лампа VL-8.LC (Vilber Lourmat, Франция). Образец закрепляли в ячейке с кварцевым окном, через которое проводили его облучение УФ-излучением с мощностью 0.3 мВт/см2. Расстояние между УФ-лампой и образцом составляло 5 мм, а расстояние между образцом и кварцевым окном в ячейке (толщина слоя раствора красителя перед образцом) — 0.25 мм. Облучаемая площадь образца (0.9 см2) была ограничена окном проточной ячейки. Водный раствор МС объемом 5.1 мл с исходной концентрацией 1 × 10−5 М прокачивали портативным перистальтическим насосом (INTLLAB, Китай) со скоростью 1.5 мл/с в замкнутом контуре, включающем фотокаталитическую ячейку и измерительную кювету. Спектры пропускания раствора красителя регистрировали в измерительной кварцевой кювете (толщина слоя раствора — 2 мм) каждые 20 с при помощи портативного спектрометра Аvesta ASP-150C (ООО “АВЕСТА-ПРОЕКТ”, Россия). В качестве источника излучения для измерения спектров пропускания использовали галогеновую лампу DH-2000-DUV (Ocean Optics, США). Время измерения фотокаталитической активности составляло 1 ч. Из спектров пропускания определяли оптическую плотность раствора МС на длине волны 664 нм (пик поглощения МС). Затем строили зависимость –ln(сt /с0) от времени фотокатализа, где c0 и ct — концентрации красителя в начальный момент времени и в момент времени t соответственно. Из линейной аппроксимации полученной зависимости находили угловой коэффициент (k), являющийся константой скорости реакции разложения МС.
Результаты и обсуждение
На рис. 1 представлены типичные зависимости прикладываемого напряжения (U) и регистрируемой плотности тока ( j ) от плотности заряда и времени анодирования в процессе синтеза ФК на основе АОТ. На этапе формирования фотонно-кристаллической части образца при ступенчатом изменении напряжения в диапазоне 50–70 В наблюдается периодическое изменение j, а при электрохимической постобработке ФК при постоянном напряжении 50 В плотность тока постепенно падает с 4.2 до 3.2 мА/см2.
Рис. 1. Зависимости прикладываемого напряжения (U ) и регистрируемой плотности тока ( j) от плотности заряда (а) и времени анодирования (б) в процессе синтеза образца S857.
По данным рентгенофазового анализа, отжиг ФК на основе АОТ при температуре 450 °С в течение 2 ч приводит к образованию анатаза (рис. 2), что согласуется с литературными данными [41]. Рефлексы металлического титана на рентгенограмме относятся к титановой подложке, на которой находится пленка АОТ. Рассчитанные параметры элементарной ячейки анатаза (пр. гр. I41/amd): a = b = 3.784(2), c = 9.499(5) Å. Средний размер областей когерентного рассеяния (ОКР), рассчитанный из рентгенограммы по рефлексам анатаза при 2è = 25.29° и 48.06°, составил 57 ± 16 нм. Полученные значения параметров элементарной ячейки и размера ОКР близки к соответствующим значениям, приведенным в литературе для закристаллизованных в фазу анатаза пленок АОТ [42, 43].
Рис. 2. Рентгенограмма отожженного образца S1065 на титановой подложке. В нижней части рисунка приведены положения и относительная интенсивность рефлексов титана [44–1294] и анатаза [21–1272] из базы данных ICDD PDF2.
Согласно данным ИК-спектроскопии (рис. S1), после отжига на воздухе при температуре 450 °С в течение 2 ч в ФК на основе АОТ остается небольшое количество примесей, которые внедряются в стенки пор АОТ из электролита в процессе анодирования аналогично случаю анодного оксида алюминия [44]. Согласно литературным данным, остаточные примеси окончательно удаляются из АОТ лишь при температуре ~1000°С [41]. Важно отметить, что количество примесей, зависящее в первую очередь от условий отжига, практически одинаково в исследуемых ФК.
Спектр пропускания пленки АОТ, полученной при постоянном напряжении (образец NT) и отделенной от титановой подложки, показан на рис. 3а. С использованием значений коэффициента пропускания (T) был рассчитан коэффициент поглощения света (á) по следующей формуле [45]:
где d — толщина образца. Толщину пленки АОТ определяли по данным РЭМ.
В свою очередь, ширина запрещенной зоны (Eg) непрямозонного полупроводника (анатаз — непрямозонный полупроводник) и á в определенном диапазоне длин волн связаны между собой уравнением Тауца [46]:
где h — постоянная Планка, í — частота фотонов, A — коэффициент пропорциональности.
Перестроение спектра пропускания отожженного образца NT в координаты Тауца (рис. 3б) позволило определить значение Eg образца путем экстраполяции линейного участка зависимости до пересечения с осью абсцисс. Таким образом, рассчитанная оптическая ширина запрещенной зоны анатаза составила 3.02 эВ.
Рис. 3. Спектр пропускания отожженного образца NT (а) и он же, перестроенный в координатах Тауца для непрямозонного полупроводника (б).
На рис. 4 представлены РЭМ-изображения верхней поверхности, поперечного скола, а также нижней поверхности ФК на основе АОТ после отжига на примере образца S857. Структура исследованного образца представляет собой массив плотноупакованных нанотрубок, расположенных перпендикулярно поверхности титановой подложки. На РЭМ-изображении скола пленки в верхней части видно чередование темных и светлых полос, соответствующих слоям АОТ, полученным при 70 и 50 В соответственно. Большее напряжение приводит к формированию слоя АОТ с более высокой пористостью [38]. Сплошной и пунктирной стрелками на рис. 4б обозначены части пленки АОТ, сформированные при переменном напряжении 50–70 В и постоянном напряжении 50 В соответственно. Внутренний диаметр нанотрубок в верхней части пленки составляет ~ 60 нм, а в нижней — ~25 нм. Нижняя поверхность пленки покрыта барьерным слоем (рис. 4в).
Рис. 4. РЭМ-изображения верхней поверхности (а), поперечного скола (б) и нижней поверхности (в) отожженного образца S857. Сплошной и пунктирной стрелками обозначены части пленки АОТ, сформированные при переменном напряжении 50–70 В и постоянном напряжении 50 В соответственно.
Периодическое изменение пористости в направлении, перпендикулярном к плоскости пленки, приводит к периодическому изменению эффективного показателя преломления в этом же направлении и образованию ФЗЗ, которые можно наблюдать на оптических спектрах. Спектры полного отражения отожженных образцов ФК на основе АОТ с заполненными водой порами представлены на рис. 5. Регистрацию спектров в воде проводили с целью определения положения ФЗЗ во время проведения фотокаталитических измерений. Полученные ФК характеризуются наличием интенсивных (коэффициент отражения > 65%) максимумов отражения в диапазоне длин волн 390–1283 нм, соответствующих ФЗЗ первого порядка. Для образцов S1283, S1173 и S1065 также наблюдаются ФЗЗ третьего порядка в диапазоне длин волн 397–463 нм.
Рис. 5. Спектры полного отражения отожженных ФК на основе АОТ с порами, заполненными водой. Над максимумами отражения, соответствующими ФЗЗ, указаны шифры образцов ФК.
Фотокаталитическую активность ФК на основе АОТ исследовали по реакции фоторазложения метиленового синего под действием УФ-излучения. По кинетическим кривым разложения МС для ФК с различными положениями ФЗЗ (рис. 6) были определены константы скорости реакции (k) фоторазложения красителя. Полученные значения сравнивали со значениями k для образца NT и алюминиевой фольги, которая выступала в качестве холостой пробы при исследовании саморазложения МС под действием УФ-излучения.
Рис. 6. Кинетические кривые фоторазложения метиленового синего под действием УФ-излучения (365 нм) в присутствии отожженных ФК на основе АОТ с различным положением ФЗЗ (390–1283 нм), а также отожженного образца NT, полученного при постоянном напряжении 60 В. В качестве холостой пробы выступала алюминиевая фольга.
Зависимость k от положения максимума ФЗЗ фотокатализатора показана на рис. 7. Константы скорости реакции разложения МС для всех образцов ФК больше, чем для образца NT, не обладающего периодической структурой. Значение k = 0.677 ч–1 для образца NT обозначено горизонтальной пунктирной линией. Образцы ФК S1283, S1173, S1065, S435 и S390, у которых максимум ФЗЗ (первого или третьего порядка) находится в спектральной области, близкой к рассчитанному значению края собственного поглощения диоксида титана (Eg = 3.02 эВ, показано вертикальной пунктирной линией на рис. 7), демонстрируют более высокую фотокаталитическую активность, по сравнению с ФК, максимум отражения которых расположен дальше от этого значения (образцы S614, S761 и S857). При этом образцы S1283, S1173, S1065, обладающие ФЗЗ третьего порядка вблизи Eg, несмотря на ее меньшую интенсивность, демонстрируют более высокую фотокаталитическую активность в отношении фоторазложения МС, по сравнению с образцами S435 и S390, которые характеризуются наличием интенсивной ФЗЗ первого порядка в том же спектральном диапазоне. В частности, наибольшая фотокаталитическая активность наблюдается для образца ФК S1173, для которого максимум ФЗЗ первого порядка находится на длине волны 1173 нм, а третьего порядка — на длине волны 426 нм. Константа скорости реакции разложения МС для этого ФК составляет 1.061 ч–1, что в 1.6 раз выше значения k для образца NT. Наименьшим значением k = 0.679 ч–1, сравнимым с константой скорости разложения МС на образце NT, характеризуется образец S614, для которого максимум ФЗЗ первого порядка находится на длине волны 614 нм.
Рис. 7. Зависимость константы скорости реакции (k) фоторазложения метиленового синего от положения максимума ФЗЗ фотокатализатора при воздействии УФ-излучения (365 нм). Закрашенные и незакрашенные фигуры означают положение ФЗЗ первого и третьего порядка соответственно. Горизонтальной пунктирной линией отмечено значение k, рассчитанное для образца NT, полученного при постоянном напряжении 60 В. Вертикальной пунктирной линией обозначено экспериментальное значение ширины запрещенной зоны анатаза (Eg = 3.02 эВ, что эквивалентно длине волны 410 нм).
Фотокаталитическую активность ФК на основе АОТ исследовали в различных работах [24–27], однако данные исследования проводили в узком диапазоне спектральных положений ФЗЗ. Так, авторы [27] исследовали зависимость фотокаталитической активности одномерных ФК на основе пористого анатаза от положения ФЗЗ в диапазоне длин волн 435–590 нм. Согласно работе [27], максимальную фотокаталитическую активность в реакции фоторазложения метилового оранжевого имел образец ФК, у которого ФЗЗ первого порядка перекрывалась с краем собственного поглощения полупроводника, что согласуется с результатами настоящей работы. Однако, согласно полученным данным, фотокаталитическая активность ФК из анатаза возрастает на 30%, когда вблизи края поглощения полупроводника находится менее интенсивная ФЗЗ третьего, а не первого порядка.
Заключение
Синтезированы ФК на основе АОТ, закристаллизованного в фазу анатаза. Полученные ФК характеризуются наличием интенсивных (коэффициент отражения выше 65%) ФЗЗ первого порядка, находящихся в диапазоне длин волн 390–1283 нм (при заполнении пор ФК водой). ФК, характеризующиеся наличием ФЗЗ первого порядка >1000 нм, обладают также ФЗЗ третьего порядка на длинах волн ~400 нм. Показано, что увеличение фотокаталитической активности в реакции фоторазложения МС под воздействием УФ-излучения наблюдается для ФК с положением максимума одной из ФЗЗ (первого или третьего порядка) вблизи края собственного поглощения полупроводника (3.02 эВ, что эквивалентно длине волны 410 нм). При этом фотокаталитическая активность ФК возрастает на 30%, когда вблизи края собственного поглощения анатаза находится ФЗЗ третьего, а не первого порядка. Для образца с положением ФЗЗ третьего порядка 426 нм (в воде), демонстрирующего максимальную фотокаталитическую активность под действием ультрафиолетового излучения, константа скорости реакции разложения метиленового синего в 1.6 раз выше соответствующей величины для анодного оксида титана, не обладающего периодической структурой.
Благодарность
Исследование на ИК-Фурье-спектрометре Spectrum Three проводилось при поддержке ЦКП МГУ “Технологии получения новых наноструктурированных материалов и их комплексное исследование”, национального проекта “Наука” и Программы развития МГУ.
Финансирование работы
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-23-20193, https://rscf.ru/project/22-23-20193/
Конфликт интересов
Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
About the authors
M. A. Belokozenko
Lomonosov Moscow State University
Email: nina@elch.chem.msu.ru
Russian Federation, Moscow 119991
N. A. Sapoletova
Lomonosov Moscow State University
Author for correspondence.
Email: nina@elch.chem.msu.ru
Russian Federation, Moscow 119991
S. E. Kushnir
Lomonosov Moscow State University
Email: nina@elch.chem.msu.ru
Russian Federation, Moscow 119991
K. S. Napolskii
Lomonosov Moscow State University
Email: nina@elch.chem.msu.ru
Russian Federation, Moscow 119991
References
- Goodeve C.F., Kitchener J.A. // Trans. Faraday Soc. 1938. V. 34. P. 902. https://doi.org/10.1039/TF9383400902
- Филимонов В.Н. // Докл. АН СССР. 1964. Т. 154. № 4. С. 922.
- Lim S.Y., Law C.S., Liu L. et al. // Catalysts. 2019. V. 9. № 12. P. 988. https://doi.org/10.3390/catal9120988
- Chen X., Shen S., Guo L. et al. // Chem. Rev. 2010. V. 110. № 11. P. 6503. https://doi.org/10.1021/cr1001645
- Chen D., Cheng Y., Zhou N. et al. // J. Clean. Prod. 2020. V. 268. P. 121725. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121725
- Nguyen T.P., Nguyen D.L.T., Nguyen V.-H. et al. // Nanomaterials. 2020. V. 10. № 2. P. 337. https://doi.org/10.3390/nano10020337
- Kaushal S., Kaur H., Kumar S. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2020. V. 65. № 4. P. 616. https://doi.org/10.1134/S0036023620040087
- Садовников А.А., Нечаев Е.Г., Бельтюков А.Н. и др. // Журн. неорган. химии. 2021. Т. 66. № 4. С. 432. [Sadovnikov A.A., Nechaev E.G., Beltiukov A.N. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2021. V. 66. № 4. P. 460. https://doi.org/10.1134/S0036023621040197]
- Беликов М.Л., Седнева Т.А., Локшин Э.П. // Неорган. материалы. 2021. Т. 57. № 2. С. 154. [Belikov M.L., Sedneva T.A., Lokshin E.P. // Inorg Mater 2021. V. 57. № 2. P. 146. https://doi.org/10.1134/S0020168521020023]
- Дорошева И.Б., Валеева А.А., Ремпель А.А. и др. // Неорган. материалы. 2021. Т.. 57. № 5. С. 528. [Dorosheva I.B., Valeeva A.A., Rempel A.A. et al. // Inorg Mater. 2021. V. 57. № 5. P. 503. https://doi.org/10.1134/S0020168521050022]
- Sakfali J., Ben Chaabene S., Akkari R. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2022. V. 67. № 8. P. 1324. https://doi.org/10.1134/S003602362208023X
- Xiao-fang Li, Feng X., Li R. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2022. V. 67. № 2. P. S98. https://doi.org/10.1134/S0036023622602124
- Беликов М.Л., Сафарян С.А. // Неорган. материалы. 2022. Т. 58. С. 742. [Belikov M.L., Safaryan S.A. // Inorg Mater. 2022. V. 58. № 7. P. 715. https://doi.org/10.1134/S0020168522070032]
- Tang H., Berger H., Schmid P.E. et al. // Solid State Commun. 1993. V. 87. № 9. P. 847. https://doi.org/10.1016/0038-1098(93)90427-O
- Amtout A., Leonelli R. // Phys. Rev. B. 1995. V. 51. № 11. P. 6842. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.51.6842
- Perović K., dela Rosa F.M., Kovačić M. et al. // Materials. 2020. V. 13. № 6. P. 1338. https://doi.org/10.3390/ma13061338
- Zhao D., Sheng G., Chen C. et al. // Appl. Catal., B: Environ. 2012. V. 111–112. P. 303. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2011.10.012
- Yu Y., Yu J.C., Yu J.-G. et al. // Appl. Catal. Gen. 2005. V. 289. № 2. P. 186. https://doi.org/10.1016/j.apcata.2005.04.057
- Lee I., Joo J.B., Yin Y. et al. // Angew. Chem. Int. Ed. 2011. V. 50. № 43. P. 10208. https://doi.org/10.1002/anie.201007660
- Kolesnik I.V., Chebotaeva G.S., Yashina L.V. et al. // Mendeleev Commun. 2013. V. 1. № 23. P. 11. https://doi.org/10.1016/j.mencom.2013.01.003
- Chen J.I.L., von Freymann G., Choi S.Y. et al. // Adv. Mater. 2006. V. 18. № 14. P. 1915. https://doi.org/ 10.1002/adma.200600588
- Chen S.-L., Wang A.-J., Dai C. et al. // Chem. Eng. J. 2014. V. 249. P. 48. https://doi.org/10.1016/j.cej. 2014.03.075
- Wang Y., Xiong D.-B., Zhang W. et al. // Catal. Today. 2016. V. 274. P. 15. https://doi.org/10.1016/j.cattod. 2016.01.052
- Zheng L., Dong Y., Bian H. et al. // Electrochim. Acta. 2016. V. 203. P. 257. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2016.04.049
- Li Y., Liu F.-T., Chang Y. et al. // Appl. Surf. Sci. 2017. V. 426. P. 770. https://doi.org/10.1016/j.apsusc. 2017.07.258
- Zhou W.-M., Wang J., Wang X.-G. et al. // Phys. E: Low-Dimens. Syst. Nanostructures. 2019. V. 114. P. 113571. https://doi.org/10.1016/j.physe.2019.113571
- Li J.-F., Wang J., Wang X.-T. et al. // Cryst. Eng. Comm. 2020. V. 22. № 11. P. 1929. https://doi.org/10.1039/C9CE01828J
- Lin J., Liu K., Chen X. // Small. 2011. V. 7. № 13. P. 1784. https://doi.org/10.1002/smll.201002098
- Xie Y.-L., Li Z.-X., Xu H. et al. // Electrochem. Commun. 2012. V. 17. P. 34. https://doi.org/10.1016/j.elecom.2012.01.021
- Sapoletova N.A., Kushnir S.E., Napolskii K.S. // Electrochem. Commun. 2018. V. 91. P. 5. https://doi.org/10.1016/j.elecom.2018.04.018
- Sadykov A.I., Kushnir S.E., Sapoletova N.A. et al. // Scripta Mater. 2020. V. 178. P. 13. https://doi.org/ 10.1016/j.scriptamat.2019.10.044
- Curti M., Schneider J., Bahnemann D.W. et al. // J. Phys. Chem. Lett. 2015. V. 6. № 19. P. 3903. https://doi.org/ 10.1021/acs.jpclett.5b01353
- Zhou X., Liu N., Schmuki P. // ACS Catal. 2017. V. 7. № 5. P. 3210. https://doi.org/10.1021/acscatal.6b03709
- Chen J.I.L., Freymann G. von, Choi S.Y. et al. // J. Mater. Chem. 2008. V. 18. № 4. P. 369. https://doi.org/10.1039/B708474A
- Joannopoulos J.D., Johnson S.G., Winn J.N. et al. // Photonic crystals: molding the flow of light. Woodstock: Princeton University Press, 2008.
- Waterhouse G.I.N., Wahab A.K., Al-Oufi M. et al. // Sci. Rep. 2013. V. 3. № 1. P. 2849. https://doi.org/10.1038/srep02849
- Wu M., Jin J., Liu J. et al. // J. Mater. Chem. A. 2013. V. 1. № 48. P. 15491. https://doi.org/10.1039/C3TA13574H
- Sapoletova N.A., Kushnir S.E., Napolskii K.S. // Nanotechnology. 2022. V. 33. № 6. P. 065602. https://doi.org/ 10.1088/1361-6528/ac345c
- Mote V., Purushotham Y., Dole B. // J. Theor. Appl. Phys. 2012. V. 6. № 1. P. 6. https://doi.org/10.1186/2251-7235-6-6
- Zhang J., Li S., Ding H. et al. // J. Power Sources. 2014. V. 247. P. 807. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour. 2013.08.124
- Саполетова Н.А., Кушнир С.Е., Черепанова Ю.М. и др. // Неорган. материалы 2022. Т. 58. № 1. С. 44. [Sapoletova N.A., Kushnir S.E., Cherepanova Yu.M. et al. // Inorg. Mater. 2022. V. 58. № 1. P. 40. https://doi.org/10.1134/S0020168522010101]
- Булдаков Д.А., Петухов Д.И., Колесник И.В. и др. // Росс. нанотехн. 2009. Т. 4. № 5–6. С. 58. [Buldakov D.A., Petukhov D.I., Kolesnik I.V. et al. // Nanotechnol Russia. 2009. V. 4. № 5. P. 296. https://doi.org/10.1134/S1995078009050061]
- Su Z., Zhou W. // J. Mater. Chem. 2009. V. 19. № 16. P. 2301. https://doi.org/10.1039/B820504C
- Roslyakov I.V., Kolesnik I.V., Levin E.E. et al. // Surf. Coat. Technol. 2020. V. 381. P. 125159. https://doi.org/ 10.1016/j.surfcoat.2019.125159
- Уханов Ю.И. // Оптические свойства полупроводников. М.: Наука, 1977.
- Joshi G.P., Saxena N.S., Mangal R. et al. // Bull. Mater. Sci. 2003. V. 26. № 4. P. 387. https://doi.org/10.1007/BF02711181
Supplementary files