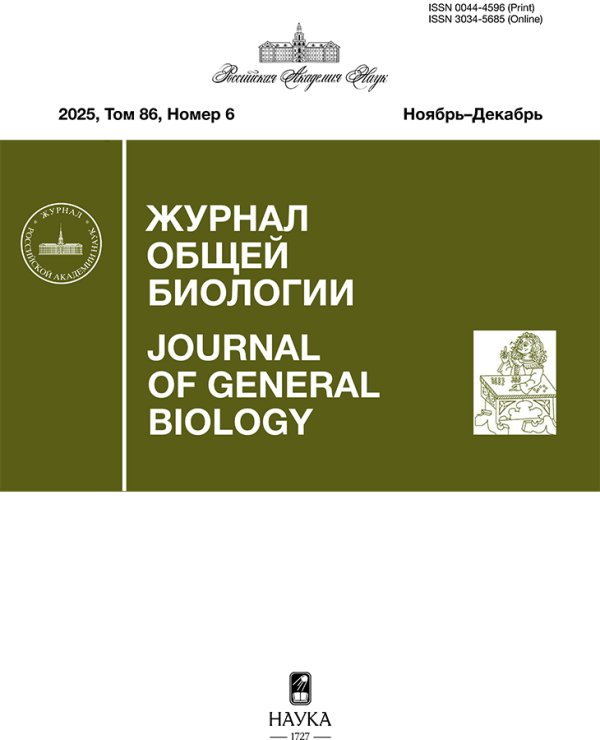The structure of individual variability of pollen morphological features of the genus Physalis L. (Solanaceae) and methods of its interpretation (genesis or morphoses)
- Authors: Pozhidaev A.E.1, Grigoryeva V.V.1, Semenov A.N.1
-
Affiliations:
- Komarov Botanical Institute, RAS
- Issue: Vol 85, No 6 (2024)
- Pages: 474-502
- Section: (Indexed in “Current Contents”)
- URL: https://journal-vniispk.ru/0044-4596/article/view/276334
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044459624060043
- EDN: https://elibrary.ru/tqmopv
- ID: 276334
Cite item
Full Text
Abstract
The morphology of pollen grains in samples of 42 species of the genus Physalis L. was studied using light and electron scanning microscopes. Pollen is morphologically fairly uniform. Although the intrageneric subgroups (subgenera and sections) are heterogeneous in terms of pollen morphology, it is not possible to draw boundaries between them, since the same variants of characters are found in different subgenera and sections. SEM-detected sculpture details are good additional features for the characterization of some species. The pollen of P. alkekengi, sometimes isolated as a monotypic subgenus Physalis, or a separate genus, slightly differs from all other Physalis in micro-verrucate-echinate sculpture. In samples of 19 species (44% of those studied), various rare pollen forms deviating from the typical ones in the number and arrangement of apertures were found. On the example of morphological features of pollen of the genus Physalis and other unrelated taxa, the properties of the complete individual variability of the gametophyte generation are described as an extreme model (having maximum completeness with minimal complexity) for studying the properties of variability. A non-typological description and interpretation of the observed properties of individual morphological variability is given. The own properties of variability (continuity, transitive ordering, parallelism) are described and are not fully provided for in the typological and phylogenetic approach, in which the genus-species discrete-hierarchical ordering of biodiversity is considered universal. The described properties of variability show that during asexual reproduction in the gametophyte generation of pollen (ontologically complete and genetically uniform; haploid, unicellular, spherical living bodies), the ancestral type of organization is not inherited (the typical form is taxon-specific, physiologically normal, adaptive, functional), but with a certain frequency in the generation (in the absence of genetic variability), morphosis arise (form rebirth – non-inherited, but regularly occurring variability), which add up to the series of metamorphosis. In the full generation of the genealogical line, there is not the genesis of the form (generation, the emergence of one form from another), but morphosis (rebirth of the form, change in generic characteristics, archetype, body scheme, without changing the species characteristics). Individual variability can be described as metamorphosis, the fluidity of an individual form, according to J. W. Goethe (complete sets of morphoses, forming a continuous and successive morphological series of living bodies between various typical forms), or the indeterminacy of discrete forms in a continuous series of variability.
Full Text
Свойства индивидуальной изменчивости – это тот наблюдаемый результат всей предшествующей эволюции, который должен быть объяснен эволюционной теорией, описывающей причины и механизмы возникновения изменчивости. Пыльца (гаметофитное поколение) в силу своих биологических особенностей может служить почти идеальным модельным объектом для изучения свойств биологической изменчивости (ее структуры и размаха) и причин ее возникновения в разных таксонах.
Поколение пыльцы развивается защищенными от влияния внешней среды тканями спорофита (любое существенное изменение условий приводит к прекращению развития), и если развитие пыльника прошло нормально, то практически все живые тела, которые могли родиться в поколении (по четыре микроспоры в каждой постмейотической тетраде) – родились, живы, и их форма доступна для наблюдения. Пыльца – это полное поколение, которое полнее не может быть даже теоретически – возникнуть больше живых тел или других форм не может в принципе. Поэтому (в силу отсутствия смерти как явления на данном этапе жизненного цикла) гаметофитное поколение доступно для наблюдения в его почти абсолютной, онтологической полноте. В отличие от спорофитного поколения, предельно изреженного сначала катастрофической элиминацией, а потом еще и предполагаемым селективным действием естественного отбора в процессе дивергенции. Поэтому задача оценки структуры изменчивости в целом, через описание многообразия всех живых тел, представляющаяся вполне фантастичной для спорофитного поколения, оказывается несложно реализуемой на признаках полного поколения пыльцы.
Пыльцевые зерна, содержащиеся в одном бутоне, пыльнике, тетраде (продукт бесполого размножения, мейоза) – это популяция близкородственных, генетически сходных живых тел. Теоретически возможный генетический полиморфизм в мейотической тетраде исчерпывается соотношением частот 1 : 1 или 2 : 2 (тетрадный анализ); единообразнее генетически могут быть только клоны – результат вегетативного размножения.
Пыльца – это гаметофитное поколение с гаплоидным геномом, вся наследственная информация которого проявлена фенетически (невозможен скрытый, не проявленный морфологически генетический полиморфизм, как в случае рецессивных гетерозигот диплоидных спорофитов).
Содержимое одного образца пыльцы, бутона, пыльника, тетрады – это не случайная выборка с распределением частот признаков, близким к нормальному, а целостный фрагмент и естественная порция генеральной совокупности с квазигиперболическим распределением частот, сохраняющая свойства целого.
Детерминация формы пыльцы, закладка клеточной мембраны, клеточной стенки и расположения апертур в ней – одно из первых событий ее онтогенеза, происходящее сразу после окончания мейоза в ранней постмейотической тетраде, на стадии одноклеточных микроспор, без каких-либо дополнительных дифференционных делений. Апертуры, расположение которых определяет форму пыльцевого зерна, закладываются сразу на своем месте, без какого-либо предварительного или последующего онтогенетического развития формы. При обсуждении морфологических особенностей пыльцы не возникает проблем с гомологизацией основных ее признаков и структур.
Пыльца большинства видов монадна (дискретна). Форма пыльцы обычно близка к сферической, с наиболее полной симметрией, с правильными и геометрически ясными формами, поэтому на признаках расположения апертур пыльцы геометрические закономерности их многообразия проявляются особенно ясно и наглядно. В формах цветка (конус шара) или листа (сектор круга) свойства симметрии проявляются менее полно, проще, а структура изменчивости легче сводится к комбинативности, политетичности, иерархии.
Перечисленное обосновывает использование пыльцы как экстремальной модели (максимальная полнота при минимальной сложности) полной индивидуальной изменчивости поколения монофилетической клады (все потомки одного предка) однородительственной генеалогии, на которой явление и свойства морфологической изменчивости и причин ее возникновения могут быть изучены в чистом виде и в собственном значении. В отличие от спорофитного диплоидного полового поколения, изменчивость которого может быть значительно осложнена и смазана явлениями гибридизации и расщепления признаков при половом процессе, рецессивности и доминирования у диплоидов и невосполнимо обеднена катастрофической и селективной смертностью.
Изменчивость признаков пыльцы
Изменчивость признаков пыльцы имеет ряд характерных особенностей. Считается, что признаки пыльцы (строение, число и расположение апертур, строение слоев спородермы) служат надежным диагностическим различием для групп высокого и высших таксономических рангов (разных родов и выше). Так, меридионально-3-кольпатная форма и другие меридионально-апертурные формы встречаются как типичные у большинства растений подкласса Двудольных, а дистально-моносулькатная форма и формы с субполярными сулькатными апертурами характерны для подкласса Однодольных (Куприянова, Алешина, 1967; Walker, Doyle, 1975; Campo, 1976; Blackmore, Crane, 1998). Практика же пыльцевого анализа свидетельствует (Сладков, 1967), что при определении таксономической принадлежности пыльцы по ее морфологии в некоторых случаях удается достоверно определять семейство, реже род. До уровня вида пыльца может быть определена в некоторых родах, обычно с малым числом видов, или для узкорегиональных флор с малым числом близких таксонов.
Далеко не всегда изменчивость признаков пыльцы удается поставить в ясное соответствие таксономическим группам, описанным по признакам спорофита. Рассмотренные более подробно на большом числе видов и образцов признаки пыльцы очень быстро теряют свою таксономическую специфичность. Чем полнее представлен в исследовании состав систематической группы, тем чаще вместо специфичности признаков пыльцы приходится сталкиваться с непрерывной неразличимостью их переходных состояний, комбинативностью и параллелизмом изменчивости. Чем меньше изучено видов и образцов, тем проще представить эту изменчивость дискретной и специфичной. Исследование морфологии пыльцы отдельных родов (Acer – Pozhidaev, 1993; Aesculus – Pozhidaev, 1995; Krameria – Pozhidaev, 2002; Scrophularia – Шелудякова и др., 2017; Artemisia – Григорьева и др., 2018; Еuonymus – Gavrilova et al., 2018; Nicotiana – Григорьева и др., 2019; Nierenbergia, Bouchetia – Пожидаев и др., 2023; Cestrum – Пожидаев и др., 2024; Euphorbia, Chelidonium, Ephedra – готовятся к публикации) показало, что по признакам пыльцы виды одного рода (группы генетически изолированных, но несомненно близкородственных видов) обычно различаются слабо, а иногда не различаются вовсе (Galeopsis; Пожидаев, Петрова, 2022).
Изменчивость признаков скульптуры пыльцы
Изменчивость признаков скульптуры пыльцы на популяционном и внутривидовом уровне обычно очень мала или вовсе отсутствует. Виды внутри одного рода по признакам скульптуры обычно достаточно единообразны, их признаки отличаются не резко, могут перекрываться и иметь промежуточное строение. За счет этого перекрывания изменчивость типичной скульптуры разных видов удается логически упорядочить в непрерывные ряды постепенных переходов (Пожидаев, 1989; Pozhidaev, 1995; Пожидаев, Петрова, 2022; Пожидаев и др., 2023). В описываемых рядах изменчивости все варианты скульптур являются типичными формами – и терминальные, хорошо различимые, и промежуточные, переходные между ними. Отклонения и индивидуальная изменчивость в скульптуре поверхности (как и в строении апертур и слоев спородермы) обычно свидетельствуют о серьезных дефектах и нередко сопровождаются приостановкой развития и стерильностью пыльцевых зерен (Shishova et al., 2019).
Структура индивидуальной изменчивости признаков формы пыльцы
Хотя типичные формы пыльцы (число и расположение апертур) характеризуют группы высокого таксономического ранга, при детальном изучении признаки формы пыльцы демонстрируют несколько иные свойства изменчивости. В некоторых образцах форма пыльцы оказывается менее стабильной и может обнаруживать немалую индивидуальную изменчивость. Несмотря на то, что подавляющее большинство пыльцевых зерен имеет типичную форму, это только малая часть существующего естественного многообразия, которая хоть и преобладает абсолютно по численности, но не исчерпывает всей индивидуальной изменчивости. В одном бутоне, пыльнике, тетраде кроме типичной пыльцы регулярно, с определенной частотой могут обнаруживаться разнообразные атипичные формы, отклоняющиеся от типичной числом и особенностями расположения их апертур.
Хотя отклоняющиеся формы в образцах пыльцы обычно редки и даже единичны, само это явление (индивидуальная изменчивость пыльцы по числу и форме расположения апертур) широко распространено среди таксонов цветковых. При более подробном исследовании оказалось, что в среднем в 45% образцов изученных видов из разных таксонов обнаруживается индивидуальная изменчивость пыльцы по признакам расположения апертур (табл. 1). В некоторых родах доля видов с отклоняющимися формами пыльцы может достигать 60% (Acer, Galeopsis, Papaver, Solanum).
Таблица 1. Доля видов в родах цветковых и эфедры, у которых встречаются отклоняющиеся формы пыльцы
Семейство | Род | Число исследованных видов | Число видов с отклонениями | Процент видов с отклонениями | Источник |
Asteraceae | Artemisia | 27 | 10 | 37 | Григорьева и др., 2018 |
Celastraceae | Еuonymus | 18 | 7 | 39 | Gavrilova et al., 2018 |
Euphorbiaceae | Euphorbia | 99 | 19 | 19 | готовится к публикации |
Krameriaceae | Krameria | 18 | 7 | 39 | Pozhidaev, 2002 |
Lamiaceae | Galeopsis | 9 | 6 | 66 | Пожидаев, Петрова, 2022 |
Papaveraceae | Papaver | 13 | 8 | 61 | |
Polygalaceae | Polygala | 11 | 5 | 45 | Телицына и др., 2019 |
Sapindaceae | Acer | 50 | 31 | 62 | Pozhidaev, 1993 |
Aesculus | 13 | 5 | 38 | Pozhidaev, 1995 | |
Scrophulariaceae | Scrophularia | 88 | 42 | 49 | Шелудякова и др., 2017 |
Solanaceae | Hyoscyamus | 12 | 5 | 41 | |
Cestrum | 55 | 27 | 49 | Пожидаев и др., 2024 | |
Nicotiana | 18 | 7 | 39 | Григорьева и др., 2019 | |
Nierembergia | 8 | 4 | 50 | Пожидаев и др., 2023 | |
Physalis | 41 | 19 | 46 | ||
Solanum | 22 | 13 | 59 | ||
Ephedraceae | Ephedra | 27 | 6 | 22 | готовится к публикации |
Учитывая численность естественных популяций и огромное количество пыльцы, продуцируемое растениями каждый год, редкость отклонений вполне компенсируется их широкой распространенностью. Не будет большим преувеличением предположение, что в таксонах практически в каждом гаметофитном поколении с той или иной частотой (от единичных пыльцевых зерен, до 10–15% в характерном верхнем пределе – Pozhidaev, 2002, fig. 3; Пожидаев, 2009, рис. 3) возникают различные отклоняющиеся формы.
Все обнаруженные формы пыльцевых зерен (типичные и отклоняющиеся), изображенные в некоторой стандартной проекции, могут быть упорядочены в сеть непрерывных и геометрически закономерных рядов (Пожидаев, 2009, рис. 1). В таком ряду одна геометрически правильная форма постепенно трансформируется в другие правильные формы, а менее симметричные отклоняющиеся формы оказываются промежуточными вариантами между разными типичными формами. Многообразие признака непрерывно – существуют и могут быть найдены формы с любым промежуточным состоянием признака из множества возможных в ряду между терминальными формами.
Наблюдение показывает, что упорядоченной оказывается вся индивидуальная изменчивость (предустановлена, предопределена, существует заранее и в полном объеме; “В полноте кульминация дана с самого начала”; Свасьян, 2001, с. 53) – случайных форм не бывает; бывают отклоняющиеся, атипичные формы. Отклоняющиеся формы, несмотря на их редкость, необычность строения и нерегулярность наследования, – это не случайные “уродства”. Как бы необычно, “неправильно”, криво и асимметрично ни выглядели некоторые отклоняющиеся формы пыльцевых зерен, расположение их апертур неуклонно подчиняется той же строгой геометрической закономерности, и в этом смысле не менее упорядочено, что и расположение апертур более симметричных и “правильных” типичных форм. Все формы равноценны в их целостном единстве. Весь геометрически закономерный ряд форм в целом и расположение апертур каждой формы в отдельности в точности описывается этой закономерностью; свойства элемента однозначно определяют его место в системе – критерий естественности системы по А. А. Любищеву (1982).
Ряд изменчивости форм пыльцы оказывается универсальным (инвариантным) для изученных групп цветковых. В естественную систему непрерывными плавными переходами удается объединить типичные формы пыльцы современных цветковых с полярным, меридиональным и глобальным расположением апертур (Pozhidaev, 2000b; Пожидаев, 2009; Пожидаев и др., 2023). В разных таксонах описаны наборы возможных изомеров поликольпатной пыльцы и зеркально-симметричных форм (Pozhidaev, 2000a), которые позволяют объединить ряды разных периодов в непрерывную периодичную симметричную структуру (Пожидаев, 2009). На примере рядов других таксонов могут быть составлены морфологические ряды первого, второго, третьего и др. периодов с одинарным, удвоенным, утроенным и т. д. наборами апертур (Пожидаев, 2009, рис. 2; Пожидаев и др., 2023). Обнаружены случаи параллелизма закономерностей формы заведомо негомологичных структур пыльцы в неродственных таксонах (Pozhidaev, 2002). Изменчивость форм пыльцы разных таксонов оказывается фрагментом одного и того же целостного единства, непрерывного и упорядоченного. Это стройная периодичная система параллелизмов в индивидуальной изменчивости, транзитивно упорядоченная поверх границ классификаций таксонов и гомологизации структур, одинаковая для любого ранга иерархии и генеалогического уровня.
Тем не менее в большинстве исследований пыльцы факт существования отклонений и промежуточных вариантов признаков формы пыльцы обычно напрочь игнорируется, или эти варианты рассматриваются как случайность, аномалии, уродства, результат повреждений, ненаправленных мутаций и прочее. По-видимому, в силу того, что эти отклонения всегда редки, выглядят необычно и устойчиво не наследуются. Поэтому задача изучения индивидуальной изменчивости признаков пыльцы обычно специально не ставится, а сами формы редко фиксируются в публикациях и остаются вне дальнейшей интерпретации полученных данных. Возникает задача исследования свойств многообразия морфологических признаков пыльцы на примере конкретных таксонов. Объектом такого исследования послужила пыльца представителей р. Physalis.
Цели и задачи
Цели данной работы – изучение свойств индивидуальной изменчивости (ее размах, структура и уровень таксономической специфичности исследованных признаков) на примере конкретной таксономической группы (р. Physalis) и сравнение этих свойств, учитывая типичные формы и формы, отклоняющиеся от типичной. Доступный материал (42 вида из 75–120 описанных) вполне репрезентативен для решения поставленной задачи – изучения свойств индивидуальной изменчивости и сравнения этих свойств в пределах р. Physalis и в других таксонах (что представляет особый интерес с точки зрения описания и теоретической интерпретации наблюдаемых явлений). Имеющиеся в литературе данные не позволили составить полный список распределения для всех исследованных видов по секциям рода (табл. 1). Составление подобных списков требуют монографической работы систематика. Поэтому в задачи исследования имеющегося материала не входил анализ размаха изменчивости в подразделениях рода и поиск диагностических различий, подтверждающих эти деления, а также конструирование их таксономии и филогении. Не входило в задачи исследования и изучение внутривидовой или популяционной изменчивости (в силу малого числа гербарных образцов, доступных для исследования в каждом виде).
Статья продолжает обсуждение проблем описания (Пожидаев, 1989; Pozhidaev, 2000а, 2002) и интерпретации (Пожидаев, 2009, 2015; Пожидаев, Петрова, 2022; Пожидаев и др., 2023, 2024) свойств индивидуальной изменчивости и возникновения форм пыльцы.
Род Physalis – систематика и палинология
Род Physalis L., один из наиболее крупных в подсемействе Solanoideae (сем. Solanaceae Juss.), по оценкам разных авторов объединяет 75–120 видов однолетних и многолетних, большей частью травянистых растений (Hendrych, 1989; D’Arcy, 1991). Для рода характерно заметное морфологическое единообразие и изменчивость признаков в зависимости от условий произрастания, что затрудняет определение видов.
Физалисы распространены преимущественно в Америке. Центром современного разнообразия р. Physalis является Мексика, на территории которой произрастает около 70 видов, большинство из которых являются эндемичными. Некоторые виды широко культивируются как пищевые, декоративные и лекарственные растения за пределами американского континента.
Традиционно идентификация видов физалиса основана на морфологических характеристиках (Rydberg, 1896; Estrada, Martínez, 1998; Whitson, Manos, 2005). В настоящее время важными инструментами для современных систематиков стали молекулярные маркеры, не зависящие от условий окружающей среды (Feng et al., 2016). В качестве молекулярных маркеров для установления филогении видов Physalis и их связи с другими родами семейства пасленовых использовались последовательности ДНК нескольких генов, включая внутренний транскрибируемый спейсер (ITS) nrDNA, восковой ген и хлоропластные области (ndhF и trnLF) (Whitson, Manos, 2005; Olmstead et al., 2008). Для идентификации и филогенетического изучения 45 видов физалиса была использована ядерная рибосомная область ITS2 (Feng et al., 2016).
Единого мнения о систематике рода до сих пор не существует. Согласно системе Мартинеза (Martínez, 1998, 1999), р. Physalis разделен на 4 подрода: Physalis (1 вид P. alkekengi), Physalodendron (2 вида: P. arborescens и P. melanocystis), Quincula (1 вид P. lobate) и Rydbergis (остальные более 60 видов, объединенные в 9 секций).
Специальному исследованию пыльцы р. Physalis посвящена лишь одна статья (Zhang, Lu, 1995), в которой с помощью средств световой и электронной микроскопии показано большое палиноморфологическое сходство пяти изученных видов и двух разновидностей Physalis. Сведения о пыльце отдельных видов Physalis можно найти в статьях, посвященных палиноморфологии сем. Solanaceae в целом (Murry, Eshbaugh, 1971; Айрапетян, 1991, 2002; Perveen, Qaiser, 2007, и др.), и палинологических базах данных: Palynological Database (PalDat, https://www.paldat.org/) – 4 вида, Australasian Pollen and Spores Atlas (https://apsa.anu.edu.au) – 8 видов. Однако большинство данных и изображений пыльцы получены только с помощью светооптического микроскопа.
Современные молекулярные исследования подтверждают самостоятельность родов Chamaesaracha, Leucophysalis, Quincula и Tzeltalia, выделенных из р. Physalis прежде, на основании морфологических характеристик спорофита (Estrada, Martínez, 1998; Whitson, Manos, 2005). По данным секвенирования девяти родов трибы Physalinae в ее основании разместилась клада, состоящая из Leucophysalis viscosa и центральноамериканских родов Brachistus, Tzeltalia и Witheringia (Zamora-Tavares et al., 2016). Выделенный из Physalis новый р. Tzeltalia (кустарник) отличается от остальных Physalis по морфологии пыльцы, прежде всего шероховатой скульптурой ее поверхности (Estrada, Martínez, 1998).
Молекулярные данные показывают полифилетичность физалиса (Whitson, Manos, 2005; Olmstead et al., 2008; Wang, 2014; Feng et al., 2016; Zamora-Tavares et al., 2016) и подтверждают выдвинутое еще в XIX в. предложение (Rydberg, 1896) об исключении из р. Physalis ряда нетипичных видов (по строению и цвету цветков и особенностям чашечки: P. grandiflora, P. lobata и др.; Rydberg, 1896). Молекулярно-филогенетический анализ 35 видов Physalis показал удаленность P. alkekengi, P. carpenteri и P. microphysa от других видов этого рода (Zamora-Tavares et al., 2016), что обосновывает выделение P. alkekengi в самостоятельный монотипный р. Alkekengi (Whitson, Manos, 2005; Wang, 2014). В качестве двух самостоятельных родов предлагается выделить виды подрода Physalodendron и вид P. microphysa (Zamora-Tavares et al., 2016).
В литературе описана вариабельность пыльцы по числу апертур у видов Physalis и некоторых других родов из сем. Solanaceae (Ferguson, Coolidge, 1932; Henry, 1958; Айрапетян, 1991; Till-Bottraud et al., 1995; Григорьева и др., 2019). Причины появления в одном образце пыльцевых зерен с разным числом апертур, по сравнению с основным типом, остаются неясными. Некоторые авторы отмечают, что число пыльцевых зерен, отклоняющихся от 3-кольпоратного типа, резко возрастает у тетраплоидных растений по сравнению с диплоидными. Так, у P. pruinosa в препаратах пыльцы аутотетраплоидных растений 6% пыльцевых зерен имеют четыре апертуры, тогда как у контрольных диплоидных образцов вся пыльца 3-апертурная (Henry, 1958). Сходные данные приводятся для других таксонов: для видов Petunia (Ferguson, Coolidge, 1932), Nicotiana (Till-Bottraud et al., 1995) и у трех видов Trifolium (Fabaceae). У полиплоидов преобладает пыльца с числом апертур больше трех (Najčevska, Speckmann, 1968): у тетраплоидного вида Oenothera (Onagraceae) преобладают 4-апертурные пыльцевые зерна, а у гексаплоидной – 5-апертурные, тогда как диплоидные виды имеют 3-апертурную пыльцу (Laws, 1965). Для некоторых таксонов показано, что отклоняющиеся формы вполне фертильны, но могут отличаться по жизнеспособности и скорости прорастания пыльцевой трубки (Dajoz et al., 1993).
Анализ опубликованных данных показал, что сведения по палиноморфологии Physalis фрагментарны, и чтобы оценить значение морфологических признаков пыльцы, существует потребность в дополнительных палиноморфологических исследованиях представителей данного рода.
Материал и методика
Материалом для исследования послужили зрелые пыльцевые зерна, взятые с гербарных образцов, хранящихся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (LE). Список исследованных видов, расположенных по системе р. Physalis (Martínez, 1998, 1999), краткие морфологические описания признаков пыльцы и ссылки на рисунки приведены в табл. 2. Были изучены образцы 42 видов Physalis, принадлежащих к 3 подродам (табл. 2): подрод Physalis (представлен единственным видом P. alkekengi; изученный вид P. glabripes сводится в синонимы P. alkekengi var. franchetii); подрод Quincula (представлен P. lobata, одним из двух видов); подрод Rydbergis (представлен 39 видами, принадлежащими к 7 секциям из 9, выделяемых в роде). Для 11 исследованных видов секция не установлена (табл. 2). Подрод Physalodendron (выделяемый рядом авторов в отдельный род) в исследовании не представлен в силу отсутствия доступного материала.
Таблица 2. Система рода Physalis, список образцов исследованных видов и краткое описание пыльцевых зерен
Исследованный образец | Полярная ось, мкм | Экваториальный диаметр, мкм | Ширина кольпы, мкм | Размеры оры, мкм | Ширина мезокольпиума, мкм | Диаметр апокольпиума, мкм | Толщина экзины, мкм | Скульптура и число шипиков на 1.5 мкм2 поверхности | Отклонения (см. обозначения на рис. 5) | Иллюстрации | |
Подрод Physalis | |||||||||||
1 | P. alkekengi L. Polonia, dist. Borszcriw. W. Szafer, K. Piech 153. 4.06.1933 | 28.7–32.5 30.4 ± 1.9 | 28.7–31.7 30.1 ± 1.5 | 3.8–4.0 3.9 ± 0.1 | щелевидная, длинная, нечеткая | 18.9–20.0 19.4 ± 0.5 | 7.8–8.3 8.0 ± 0.2 | 1.3–1.5 1.4 ± 0.1 | мелкобородавчатая, шипиковатая (9) | Ж | рис. 1а–д |
2 | P. glabripes Pojark. (= P. alkekengi var. franchetii) Южное приморье, уроч. Пейшула, р. Махнэ. 6.07.1952 | 31.6–33.3 32.4 ± 0.8 | 30.0–33.4 31.6 ± 1.7 | 3.0–4.0 3.5 ± 0.5 | 2.0–2.5 2.2 ± 0.2 | 24.0–27.5 25.6 ± 1.7 | 5.4–9.1 6.7 ± 1.8 | 1.8–2.1 1.9 ± 0.1 | мелкошипиковая (7–8), с редкими перфорациями | Е, Ж | рис. 1д' |
Подрод Quincula | |||||||||||
3 | P. lobata Torr. Mexico, Coahuila. R. H. Steward. 405. 10.06.1941 | 34.6–36.9 35.7 ± 1.1 | 30.0–32.7 31.3 ± 1.3 | 2.8–3.0 2.9 ± 0.1 | 3.0–3.3 3.1 ± 0.1 | 18.5–20.0 19.2 ± 0.7 | 3.8–6.2 4.7 ± 1.2 | 2.0–2.3 2.1 ± 0.1 | мелкошипиковая (7–8) |
| рис. 1е–к |
Подрод Rydbergis 1. Секция Angulatae | |||||||||||
4 | P. angulata L. Australia Sidney. R. R. Coveny, J. Powell. 8484. 10.06.1975 | 31.6–38.4 34.6 ± 3.4 | 30.0–36.0 32.7 ± 3.0 | 2.0–2.3 2.1 ± 0.1 | 2.3–3.0 × 14.7–15.5 2.6 ± 0.3 × 15.0 ± 0.4 | 25.4–26.0 25.6 ± 0.3 | 3.5–4.1 3.7 ± 0.3 | 1.2–1.5 1.3 ± 0.1 | мелкошипиковая (14–15) |
| рис. 4о |
5 | P. atriplicifolia Poir. (= P. philadelphica subsp. philadelphica) Herb. Ledebour. 22. 07 | 23.8–26.0 24.8 ± 1.1 | 20.5–23.0 21.6 ± 1.2 | 2.0 2.0 ± 0.0 | нечеткая | 12.0–14.4 13.1 ± 1.2 | 3.0–4.5 3.6 ± 0.7 | 1.6–2.0 1.7 ± 0.2 | мелкошипиковая (10–12) |
|
|
6 | P. crassifolia Benth. U.S.A. Nevada, county Nye. J. Beatley. 6740. 14.08.1968 | 23.0–24.3 23.6 ± 0.6 | 19.3–22.0 20.6 ± 1.3 | 2.0–2.3 2.1 ± 0.1 | 2.7–3.0 × 12.0–13.5 2.8 ± 0.1 × 12.7 ± 0.7 | 13.6–14.0 13.7 ± 0.2 | 4.0–4.5 4.2 ± 0.2 | 1.5–1.7 1.6 ± 0.1 | мелкошипиковая (14–15) | И |
|
7 | P. indica Lam. (= P. angulata) Abyssinia. Shimper 1704. Aug. 1840 | 24.1–27.8 25.8 ± 1.8 | 24.5–26.8 25.9 ± 1.1 | 2.0–2.1 2.0 ± 0.0 | 2.5–5.0 × 10.0–11.0 3.3 ± 1.2 × 10.4 ± 0.5 | 18.0–20.0 19.0 ± 1.0 | 7.2–8.2 7.6 ± 0.5 | 2.0–2.2 2.1 ± 0.1 | мелкошипиковая (20–23) |
|
|
8 | P. ixocarpa Brot. Nassau, N.P., Bahamas. A. H. Curtiss 164, 20.04.1903 | 30.0–33.7 31.7 ± 1.8 | 29.2–30.0 29.5 ± 0.4 | 3.5–3.7 3.6 ± 0.1 | 2.5–3.0 × 15.0–16.5 2.7 ± 0.2 × 15.7 ± 0.7 | 17.0–19.0 18.0 ± 1.0 | 2.7–4.0 3.2 ± 0.6 | 2.0 2.0 ± 0.0 | мелкошипиковая (13–15) | И | рис. 2е–к, 4ф |
9 | P. lanceolata Michx. (= P. angulata) South of United States. A. H. Curtiss. 6644. 30.05.1900 | 28.6–31.8 30.1 ± 1.6 | 23.6–26.5 24.9 ± 1.4 | 3.2–4.0 3.5 ± 0.4 | 3.0–3.4 × 14.5–16.8 3.1 ± 0.2 × 15.5 ± 1.1 | 16.4–18.8 17.5 ± 1.2 | 3.9–5.2 4.4 ± 0.6 | 1.9–2.1 1.9 ± 0.1 | мелкошипиковая (15) |
|
|
1. Секция Angulatae | |||||||||||
10 | P. lagascae Roemer et Schult. Mexico, states of Morelos, valley below Cuernavaca, C. G. Pringle | 29.0–30.3 29.6 ± 0.6 | 26.0–29.7 27.7 ± 1.8 | 2.0–3.5 2.5 ± 0.7 | 2.5–3.0 × 14.5–15.5 2.7 ± 0.2 × 14.9 ± 0.5 | 19.0–20.0 19.5 ± 0.5 | 5.5–6.8 6.0 ± 0.6 | 2.0 2.0 ± 0.0 | мелкоморщинистая (18) |
| рис. 3л–п |
11 | P. lanceifolia Nees. Herder s. n. 14.08.1865 | 26.2–32.5 29.0 ± 3.1 | 26.0–31.1 28.3 ± 2.5 | 4.0–4.9 4.4 ± 0.4 | 4.3–5.2 × 13.3–17.2 4.7 ± 0.4 × 15.0 ± 1.9 | 15.9–20.0 17.7 ± 2.0 | 4.5–5.1 4.7 ± 0.3 | 1.8–2.0 1.9 ± 0.1 | мелкошипиковая (14), с редкими перфорациями |
| рис. 1л–п |
12 | P. linkiana L. (=P. angulata) Route de Peublo-viejo, real del Monte. Berlandier. May 1827. № 225 | 27.0–30.0 28.4 ± 1.5 | 21.2–24.9 22.9 ± 1.8 | 2.0–2.5 2.2 ± 0.2 | 2.0–3.0 × 13.0–14.0 2.5 ± 0.5 × 13.5 ± 0.5 | 13.4–16.5 14.7 ± 1.5 | 5.0–7.5 6.0 ± 1.2 | 2.0–2.2 2.1 ± 0.1 | мелкошипиковая (10–11) |
|
|
13 | P. parviflora R. Brown. (= P. angulata var. angulata) Мальдивские острова, атолл Тиладуматти, о. Келай, Н. Н. Цвелев, 31.XI.1981 | 30.0–33.5 31.6 ± 1.7 | 24.5–27.8 26.0 ± 1.6 | 2.0–2.3 2.1 ± 0.1 | нечеткая | 19.0–20.0 19.5 ± 0.5 | 8.0–10.0 9.0 ± 1.0 | 2.0 2.0 ± 0.0 | мелкошипиковая (10–11), крупнобородавчатая | И | рис. 3а–д, 4р |
2. Секция Campanulae | |||||||||||
14 | P. glutinosa Schlecht. Mexico. C. G. Pringle. 6216. 2.09.1899 | 31.8–33.4 32.5 ± 0.8 | 25.6–27.7 26.6 ± 1.0 | 2.9–3.0 2.9 ± 0.0 | 3.4–4.5 × 14.4–16.5 3.8 ± 0.5 × 15.3 ± 1.0 | 15.0–17.3 16.1 ± 1.1 | 5.2–7.5 6.1 ± 1.1 | 1.9–2.0 1.9 ± | мелкошипиковая (13) | В |
|
3. Cекция Carpenterianae | |||||||||||
15 | P. carpenterii Riddell. U.S.A., Florida. A. H. Curtiss. 6901. 14.09.1901 | 25.8–28.8 27.2 ± 1.5 | 21.8–25.8 23.6 ± 2.0 | 2.7–2.9 2.8 ± 0.1 | 2.9–3.0 × 14.2–18.3 2.9 ± 0.0 × 15.9 ± 2.0 | 15.5–20.0 17.4 ± 2.2 | 4.7–5.5 5.0 ± 0.4 | 1.5–1.9 1.7 ± 0.2 | мелкошипиковая (7–8) |
|
|
4. Cекция Coztomatae | |||||||||||
16 | P. chenopodifolia Lam. Mexico. M. Boursean. 112. 1865–1866 | 32.1–33.5 32.7 ± 0.7 | 27.5–33.3 30.1 ± 2.9 | 3.1–4.3 3.6 ± 0.6 | 4.2–4.9 × 13.8–16.7 4.5 ± 0.3 × 15.1 ± 1.4 | 20.0–23.3 21.5 ± 1.6 | 3.1–4.4 3.6 ± 0.6 | 1.8–2.1 1.9 ± 0.1 | мелкошипиковая (14) |
|
|
17 | P. subintegra Fernand. (= P. orizabae) Mexico, Sierra de la Cruces, C. G. Pringle 532, 19.09.1899 | 35.1–38.0 36.4 ± 1.4 | 26.8–30.0 28.3 ± 1.6 | 3.0–4.0 3.5 ± 0.5 | нечеткая | 19.0–20.3 19.6 ± 0.6 | 5.0–7.4 6.1 ± 1.2 | 1.5–2.0 1.7 ± 0.2 | мелкошипиковая (8–9), с редкими перфорациями | Ж, И | рис. 4и |
5. Cекция Epeteiorhiza | |||||||||||
18 | P. foetens Poir. (= P. patula) C. G. Pringle 6219. 2.10.1895 | 28.7–32.8 30.5 ± 2.0 | 24.4–28.9 26.4 ± 2.2 | 2.5–3.0 2.7 ± 0.2 | 2.0–3.0 × 12.5–13.8 2.5 ± 0.5 × 13.1 ± 0.6 | 16.0–17.9 16.8 ± 0.9 | 4.0–4.6 4.2 ± 0.3 | 2.0 2.0 ± 0.0 | мелкошипиковая (17) |
|
|
19 | P. missouriensis Mackenzie et Buch. Rich open hillsides Galena, stone Country. Oct. 4.1913. № 4661 | 30.1–40.2 34.2 ± 5.0 | 25.8–34.2 29.4 ± 4.2 | 2.5–3.0 2.7 ± 0.2 | нечеткая | 18.0–19.5 18.7 ± 0.7 | 5.0–6.0 5.4 ± 0.5 | 1.7–1.9 1.8 ± 0.1 | мелкошипиковая (15–18), собраны в струйки | И | рис. 3е–к |
20 | P. nicandroides Schlecht. Mexico, State of Oaxaca, C. G. Prigle. 14.07.1897 | 30.0–37.1 33.1 ± 3.5 | 28.7–30.0 29.3 ± 0.6 | 3.0–4.2 3.5 ± 0.6 | 2.7–4.0 × 15.5–17.6 3.2 ± 0.6 × 16.4 ± 1.0 | 17.0–17.8 17.4 ± 0.4 | 5.5–7.3 6.2 ± 0.9 | 2.0 2.0 ± 0.0 | мелкошипиковая (15–16) |
| рис. 3д' |
21 | P. obscura Michx. (= P. cordata) Galena, Stone County. 4697. 18.09.1913 | 25.8–29.5 27.5 ± 1.8 | 20.0–24.4 21.9 ± 2.2 | 2.5–3.0 2.7 ± 0.2 | 2.0–2.4 × 12.0–13.3 2.1 ± 0.2 × 12.6 ± 0.6 | 13.8–15.7 14.6 ± 0.9 | 3.5–6.6 4.5 ± 1.5 | 1.9–2.3 2.0 ± 0.2 | мелкошипиковая (19–21) | Б, И |
|
22 | P. pruinosa L. Plants of Iowa, Butler’s Landing. M. P. Somes, 2.07.1909. № 3296 | 23.5–25.4 24.4 ± 0.9 | 20.0–25.2 22.3 ± 2.6 | 3.0–3.5 3.2 ± 0.2 | 3.0–3.5 3.2 ± 0.2 | 15.0–17.2 16.1 ± 1.1 | 5.5–7.3 6.2 ± 0.9 | 1.4–1.7 1.5 ± 0.1 | мелкошипиковая (14–19) |
| рис. 2а–д |
23 | P. pubescens L. Mexico. Ocozocoautla de Espinosa, Alush Shilon, 2.03.1968. № 3797 | 32.3–34.8 33.5 ± 1.2 | 32.8–33.9 33.3 ± 0.5 | 2.1–3.0 2.4 ± 0.4 | 4.5–5.2 4.8 ± 0.3 | 19.5–20.3 19.7 ± 0.4 | 5.0–5.9 5.4 ± 0.4 | 1.9–2.0 1.9 ± 0.0 | мелкошипиковая (12–13) |
|
|
6. Секция Lanceolatae | |||||||||||
24 | P. gracilis Miers. Mexico. C. G. Pringle. 8142. 30.04.1899 | 27.6–30.0 28.7 ± 1.2 | 24.4–27.5 25.8 ± 1.5 | 2.8–3.5 3.1 ± 0.3 | 2.8–3.3 × 13.8–17.2 3.0 ± 0.1 × 15.3 ± 1.7 | 16.3–17.5 16.8 ± 0.6 | 4.2–6.5 5.1 ± 1.1 | 1.8–2.0 1.9 ± 0.1 | мелкошипиковая | А, В, Ж | рис. 4а, е, ж |
25 | P. hederaefolia A. Gray. Mexico, Coahuila. R. M. Stewart. 607. 24.06.1941 | 25.6–29.8 27.5 ± 2.1 | 20.0–22.5 21.7 ± 1.2 | 1.6–2.9 2.9 ± 0.7 | 1.9–2.9 × 12.2–15.0 2.2 ± 0.5 × 13.5 ± 1.4 | 15.0–15.9 15.4 ± 0.4 | 4.3–4.7 4.4 ± 0.2 | 1.5–2.0 1.7 ± 0.2 | мелкошипиковая (до 30), с редкими перфорациями |
|
|
26 | P. fendleri A. Gray. (= P. hederifolia var. fendleri) Plants Neo Mex. Fendl. Ex Herb. A. Gray; № 683 | 22.5–25.4 23.8 ± 1.4 | 21.7–23.5 22.5 ± 0.9 | 2.2–2.7 2.4 ± 0.2 | 2.2–3.0 × 13.0–14.3 2.5 ± 0.4 × 13.5 ± 0.6 | 15.2–18.0 16.3 ± 1.4 | 2.1–3.0 2.5 ± 0.4 | 2.0 2.0 ± 0.0 | мелкошипиковая (24–27) |
|
|
6. Секция Lanceolatae | |||||||||||
27 | P. edulis Sims. (= P. peruviana) Mexico. W. Schumann. 985. 15.05.1885 | 25.2–28.3 26.6 ± 1.5 | 22.0–23.9 22.9 ± 0.9 | 1.8–2.4 2.0 ± 0.3 | 2.9–3.8 × 12.6–13.7 3.2 ± 0.4 × 13.1 ± 0.5 | 16.0–18.7 17.2 ± 1.3 | 6.0–8.3 6.9 ± 1.1 | 1.7–2.0 1.8 ± 0.1 | мелкошипиковая (14–16) | А |
|
28 | P. virginiana Mill. USA, Southern Wiscontin. 25.07.1969 | 22.3–26.0 24.0 ± 1.8 | 21.4–25.3 23.1 ± 1.9 | 2.5–3.5 2.9 ± 0.5 | 2.9–4.0 × 13.2–14.5 3.5 ± 0.5 × 13.7 ± 0.6 | 13.2–18.0 15.2 ± 2.4 | 3.4–5.0 4.1 ± 0.8 | 2.0 2.0 ± 0.0 | мелкошипиковая (13–18) | А, В, Г | рис. 4б–д |
7. Секция Viscosae | |||||||||||
29 | P. angustifolia Nutt. U.S.A. South Florida. A. H. Curtiss. 2212. May | 26.6–30.2 28.2 ± 1.8 | 25.0–29.7 27.1 ± 2.3 | 4.0–4.3 4.1 ± 0.1 | 2.4–4.3 × 15.6–16.0 3.0 ± 0.9 × 15.7 ± 0.2 | 19.1–21.5 20.2 ± 1.2 | 6.8–7.0 6.9 ± 0.1 | 2.0 2.0 ± 0.0 | мелкошипиковая (17–18) | З | рис. 2е–к, 4м |
30 | P. cinerascens (Dunal) Hitchcock. Ex Herb. A. Gray. 172.173 | 25.4–27.8 26.5 ± 1.2 | 22.8–24.3 23.6 ± 0.7 | 1.6–2.0 1.8 ± 0.2 | 1.5–2.0 1.7 ± 0.2 | 14.5–16.2 15.3 ± 0.8 | 3.0–4.0 3.5 ± 0.5 | 1.8–2.0 1.9 ± 0.1 | мелкошипиковая (25–27) | И, Л | рис. 4с |
31 | P. mollis Nutt. Plantae Yucatanae, Geo F. Gaumer. № 482 | 26.3–28.4 27.4 ± 1.2 | 20.0–22.8 21.4 ± 1.4 | 1.8–2.0 1.9 ± 0.1 | 2.0–3.1 × 12.0–13.0 2.5 ± 0.5 × 11.0 ± 1.0 | 13.5–15.0 14.2 ± 0.7 | 3.2–4.5 3.7 ± 0.6 | 1.8–2.0 1.9 ± 0.1 | мелкошипиковая (17–18) |
| рис. 4ф |
32 | P. viscosa L. South Africa. K. A. Dahlstand, 30.12.1962. № 1118 | 24.0–26.5 25.2 ± 1.2 | 20.0–23.0 21.5 ± 1.5 | 1.8–3.5 2.6 ± 0.8 | 2.5–3.5 × 13.0–13.5 3.0 ± 0.5 × 13.2 ± 0.2 | 15.7–16.1 15.9 ± 0.2 | 2.5–3.8 3.1 ± 0.6 | 1.8–2.0 1.9 ± 0.1 | мелкошипиковая (18–19) | В |
|
Секция неизвестна | |||||||||||
33 | P. acuminata Greenm. (= P. stapelioides (Decne) Bitter) Mexico. C. G. Pringle 13128. 12.09.1940 | 38.6–45.0 41.8 ± 3.2 | 36.0–36.8 36.4 ± 0.4 | 4.8–5.0 4.9 ± 0.1 | 2.5–3.3 × 17.0–18.5 2.9 ± 0.4 × 17.7 ± 0.7 | 18.0–24.5 21.2 ± 3.2 | 5.0–7.2 6.1 ± 1.1 | 1.8–2.1 1.9 ± 0.1 | мелкошипиковая (6–7) | Б | рис. 1п' |
34 | P. adulterina Fisch. et Steud. Нerb. Schroder | 36.1–38.0 37.0 ± 0.9 | 28.4–30.5 29.5 ± 1.0 | 2.5–3.5 3.0 ± 0.3 | 2.5–3.0 × 17.3–18.5 2.7 ± 0.2 × 18.0 ± 0.6 | 20.0–23.2 21.5 ± 1.6 | 5.0–5.6 5.2 ± 0.3 | 2.0 2.0 ± 0.0 | мелкошипиковая (14–15) | Ж, И, К, М | рис. 4з, и, п, т |
35 | P. ambigua (A. Grey) Britton. Pocono plato. Dr. And Mrs. N. L. Britton. 07–08.1893 | 24.6–27.7 26.1 ± 1.5 | 19.5–21.6 20.5 ± 1.0 | 1.5–2.1 1.7 ± 0.3 | 2.0 × 10.0–12.0 2.0 ± 0.0 × 11.0 ± 1.0 | 11.4–12.2 11.8 ± 0.4 | 4.5–5.7 4.8 ± 0.6 | 1.7–2.0 1.8 ± 0.1 | мелкошипиковая (12–14) | А |
|
Секция неизвестна | |||||||||||
36 | P. arenicola Kearney. U.S.A. Florida. A. H. Curtiss 6634. 22.05.1900 | 25.2–29.4 27.2 ± 2.2 | 21.4–22.7 22.1 ± 0.6 | 2.7–3.2 2.9 ± 0.2 | 3.0–3.3 × 10.5–12.8 3.1 ± 1.5 × 11.6 ± 1.1 | 16.3–17.4 16.8 ± 0.5 | 4.7–5.2 4.9 ± 0.2 | 1.6–2.0 2.0 ± 0.2 | мелкошипиковая (14) |
|
|
37 | P. barbadensis Jacq. Mexico, State of Jalisco, Quadalajara, C. G. Pringle. 4.08.1902. № 8630 | 33.0–38.8 35.9 ± 2.9 | 29.0–32.5 30.7 ± 1.7 | 3.0–4.2 3.5 ± 0.6 | 4.1–4.5 × 16.0–17.3 4.7 ± 0.3 × 16.6 ± 0.6 | 19.5–23.1 21.3 ± 1.8 | 4.5–5.7 5.1 ± 0.6 | 2.0–2.5 2.2 ± 0.2 | мелкошипиковая (10–11) |
|
|
38 | P. diffusa Willd. Herd. Ex Nees. Herb. Ledebour | 28.6–30.0 29.3 ± 0.7 | 26.6–29.7 28.1 ± 1.5 | 2.1–2.8 2.4 ± 0.3 | 3.8–3.9 × 12.5–13.2 3.8 ± 0.0 × 12.8 ± 0.3 | 14.0–19.3 16.6 ± 2.6 | 5.0–7.4 6.2 ± 1.2 | 1.7–2.0 1.8 ± 0.1 | мелкошипиковая (14–15) |
|
|
39 | P. incana Hort. Par. ex Dun. Herb. Mertens. 23.08.1815 | 28.9–32.5 30.7 ± 1.8 | 28.5–31.9 30.2 ± 1.7 | 1.3–2.0 1.6 ± 0.3 | 1.8–3.0 × 14.1–15.3 2.4 ± 0.6 × 14.7 ± 0.6 | 17.2–18.0 17.6 ± 0.4 | 1.0–3.5 2.2 ± 1.2 | 1.3–2.0 1.6 ± 0.3 | мелкошипиковая (15–17) |
|
|
40 | P. macrophysa Rydb. Kansas, Viciity of Arkansas City, South of Arkansas River, P. A. Rydberg, 2.07.1929. № 469 | 25.4–30.0 27.7 ± 2.3 | 20.0–25.3 22.6 ± 2.6 | 2.5–3.5 2.7 ± 0.5 | 2.5–3.0 2.7 ± 0.5 | 14.6–18.5 16.5 ± 1.9 | 4.2–5.0 4.6 ± 0.4 | 1.7–2.0 1.8 ± 0.1 | мелкошипиковая (15–18) | Ж, И | рис. 4л, н, у |
41 | P. microphysa A. Gray. Mexico, Santa Eulatia Mts., 14.08.1885, C. G. Pringle; № 5411 | 27.0–34.2 30.7 ± 3.6 | 28.5–30.0 29.2 ± 0.7 | 2.1–3.2 2.7 ± 0.6 | 3.5–4.0 × 15.5–17.0 3.7 ± 0.2 × 16.2 ± 0.7 | 22.4–23.0 22.7 ± 0.3 | 4.3–5.5 4.9 ± 0.6 | 1.3–2.5 2.2 ± 0.6 | мелкошипиковая (13–15) |
|
|
42 | P. versicolor Rydb. Brangegee Herbarium, Culiacan, Sinalera, Mexico, 20.10.1904 | 23.1–25.5 24.3 ± 1.2 | 19.0–20.0 19.5 ± 0.5 | 2.0–2.5 2.7 ± 0.3 | 2.5–3.0 2.7 ± 0.2 концы нечеткие | 11.5–15.0 13.2 ± 1.7 | 3.3–4.0 3.6 ± 0.3 | 1.5 1.5 ± 0.0 | мелкошипиковая (13–15) |
|
|
Рис. 1. Морфология типичной пыльцы представителей р. Physalis (СМ, СЭМ): а–д – P. alkekengi; д’ – P. glabripes; е–к – P. lobata; л–п – P. lanceifolia; п' – P. acuminata.
а, в, е, з, л, н – вид с полюса; б, г, ж, и, м, о – вид с экватора; д, д’, к, п, п’ – скульптура поверхности (СЭМ). а, б, е, ж, л, м – СМ; в–д, д’, з–к, н–п, п’ – СЭМ. Для каждого пыльцевого зерна показан верхний и нижний фокус (CМ). Масштабные линейки, мкм: а–г, е–и, л–о – 10; д, д’, к, п, п’ – 1.
Рис. 2. Морфология типичной пыльцы представителей р. Physalis (СМ, СЭМ): а–д – P. pruinosa; е–к – P. ixocarpa; л–п – P. angustifolia.
а, в, е, з, л, н – вид с полюса; б, г, ж, и, м, о – вид с экватора; д, к, п – скульптура поверхности (СЭМ). а, б, е, ж, л, м – СМ; в–д, з–к, н–п – СЭМ. Для каждого пыльцевого зерна показан верхний и нижний фокус (CМ). Масштабные линейки, мкм: а–г, е–и, л–о – 10; д, к, п – 1.
Рис. 3. Морфология типичной пыльцы представителей р. Physalis (СМ, СЭМ): а–д – P. parviflora; д’ – P. nicandroides; е–к – P. missouriensis; л–п – P. lagascae.
а, в, е, з, л, н – вид с полюса; б, г, ж, и, м, о – вид с экватора; д, д’, к, п – скульптура поверхности (СЭМ). а, б, е, ж, л, м – СМ; в–д, д’, з–к, н–п – СЭМ. Для каждого пыльцевого зерна показан верхний и нижний фокус (CМ). Масштабные линейки, мкм: а–г, е–и, л–о – 10; д, д’, к, п – 1.
Рис. 4. Отклоняющиеся формы расположения апертур пыльцы р. Physalis (СМ): а, е, ж – P. gracilis; б–д – P. virginiana; з, к, п, т – P. adulterina; и – P. subintegra; л, н, у – P. macrophysa; м – P. angustifola; о – P. angulata; р – P. parviflora; с – P. сinerascens; ф – P. mollis.
а – форма А; б – форма В; в, г – форма Г; д – форма Д (типичная Т); е – форма Б; ж – форма Ж (слитно-апертурная, tennis ball-форма); з, и, л – форма Ж (раздельно апертурная W-форма); м – форма З; н, п, р – форма И; о – форма Е; с – форма Л; т – форма М; у, ф – отклоняющееся 3-кольпоратное пыльцевое зерно со скошенным расположением эндоапертур. Б, В, Г, З, Л – промежуточные формы расположения апертур. Буквенные обозначения форм см. на рис. 5. Для каждого пыльцевого зерна показан верхний и нижний фокус (СМ). Масштабные линейки – 10 мкм.
Для исследования пыльцы под световым микроскопом (СМ) применяли классический ацетолизный метод обработки по Эрдтману (Erdtman, 1952). Световые микрофотографии изготовлены с увеличением 1000 на микроскопах Carl Zeiss Jenaval с помощью цифровой фотокамеры Canon EOS20D. Детали строения поверхности пыльцевых зерен уточняли на сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM-6390 (СЭМ) в центре коллективного пользования Ботанического института им. В. Л. Комарова. Предварительно ацетолизированную пыльцу закрепляли на специальном столике с помощью двусторонней липкой ленты, затем напыляли сплавом золота и палладия в вакуумной установке.
Результаты
Морфология типичной пыльцы
Типичная форма пыльцевых зерен во всех исследованных видах р. Physalis – 3-кольпоратная, с тремя меридионально ориентированными экзоапертурами (кольпами) и эндоапертурами (орами) под ними, ориентированными в экваториальной плоскости пыльцевого зерна (рис. 1–3, 4д; рис. 5, форма Д).
Рис. 5. Схематическое изображение многообразия форм пыльцы р. Physalis и периодическая структура упорядоченности многообразия форм пыльцы цветковых. a – Схематическое изображение многообразия форм пыльцы р. Physalis (А–М многообразие форм пыльцы первого периода, Т – типичные пыльцевые зерна); уменьшенные изображения внизу справа от форм Г, Д, Ж, И, К и М показывают эти же формы в другой проекции. б – Распределение встречаемости форм пыльцы по числу видов р. Physalis (высотой столбцов и цифрами у каждой формы на диаграмме обозначено число видов, в которых обнаружена указанная форма).
В очертании с экватора пыльцевые зерна исследованных видов Physalis овальные, к полюсам слегка заостренные (рис. 1ж, 2ж) или почти округлые (рис. 1м, 3м). Очертание пыльцы с полюса почти округлое (рис. 1а, 3е) или округло-треугольное (рис. 1е, л, 3л) за счет приподнятых ор. Мезокольпиумы чаще ромбические (рис. 1ж, 2м) или почти овальные (рис. 1м), их форма в образце может варьировать.
Размеры пыльцы изученных видов средние. Самые мелкие пыльцевые зерна обнаружены у P. crassifolia (секц. Angulatae; полярная ось 23.0–24.3 мкм, экваториальный диаметр 19.3–22.0 мкм). Самые крупные – в образце P. acuminata = P. stapelioides (секц. неизвестна; полярная ось 38.6–45.0 мкм, экваториальный диаметр 36.0–36.8 мкм). Вариабельность размеров в пределах одного образца небольшая, редко превышает 5 мкм; только у P. missouriensis (секц. Epeteiorhiza) разница между наименьшими и наиболее крупными зернами в образце достигает 10 мкм.
Экзина тонкая, 1.3–2.0 мкм, ее структура и характер скульптуры поверхности пыльцевых зерен в большинстве случаев при помощи СМ неразличимы.
Апертуры сложные – кольпоратные. Кольпы (экзоапертуры) длинные и неширокие, с ровными краями, сужающиеся к полюсам, с закругленными концами. Оры (эндоапертуры) овальные, вытянутые экваториально, хорошо очерченные или с нечеткими краями, узкие (1.5–2.0 мкм у P. cinerascens, секц. Viscosae) или довольно широкие (до 5.2 мкм у P. lanceifolia, секц. Angulatae; рис. 1л–п). Оры овальные, вытянутые экваториально, далеко выходят за края кольпы, могут достигать 20 мкм у P. lobata (подрод Quincula; рис. 1ж), P. parviflora (секц. Angulatae; рис. 3б) и P. pubescens (секц. Epeteiorhiza).
Обычно оры располагаются в экваториальной плоскости пыльцевого зерна, перпендикулярно к меридионально ориентированной кольпе, однако иногда оры могут располагаться косо по отношению к кольпе и часто на разном уровне, субэкваториально (рис. 2ж, 4у, ф). Над орами эктэкзина может приподниматься, образуя замок в экваториальной части кольпы (рис. 1и, о, 2и, о). Нередко признаки (очертания и размеры пыльцевого зерна, форма мезокольпиумов, кольпы и оры), являясь типичными для рода в целом, могут сильно варьировать по степени их выраженности внутри одного образца.
Мембрана апертур гранулярная, размер гранул и их плотность варьируют у разных видов. Гранулы могут быть мелкие или того же размера, что и шипики на поверхности пыльцевых зерен, иногда немного крупнее их (P. lobata, подрод Quincula, рис. 1з, и; P. lanceifolia, подрод Rydbergis, секц. Angulatae, рис. 1н, о).
Скульптуру пыльцевых зерен Physalis в литературе иногда описывают как бородавчатую (Perveen, Qaiser, 2007) или гранулярную (Airapetyan, 2008), а при использовании только светооптического микроскопа иногда ошибочно описывали как сетчатую (Murry, Eshbaugh, 1971). Однако при больших увеличениях (СЭМ) в боковой проекции отчетливо видно, что это невысокие ширококонические остроконечные шипики.
Хотя скульптура пыльцы исследованных видов достаточно однообразна, могут быть указаны детали строения, в той или иной степени характерные для отдельных подтаксонов р. Physalis. Так, пыльца P. alkekengi, выделяемого иногда в монотипный подрод Physalis или отдельный род, отличается от всех остальных физалисов мелкобугорчато-шипиковатой скульптурой. Поверхность несет бугорки разного размера и неправильной формы, плотно сидящие по всей поверхности пыльцевого зерна без заметных перфораций; на вершине бугорков могут располагаться небольшие сглаженные шипики (рис. 1д). Однако скульптура P. glabripes (сводимый в синонимы P. alkekengi; рис. 1д’) не имеет ярко выраженных бугорков, но имеет бугристую поверхность с многочисленными перфорациями и более или менее равномерно расположенными остроконечными шипиками, более напоминающую остальные физалисы. Кроме того, вариант, близкий к мелкобугорчато-шипиковатой скульптуре, был обнаружен у P. acuminata (= P. stapelioides, секц. неизвестна; рис. 1п’), что, по-видимому, свидетельствует о том, что такой вариант скульптуры может встречаться в других подродах.
Остальные изученные физалисы подродов Quincula и Rydbergis имеют пыльцу с более гладкой поверхностью, почти лишенной перфораций, или с перфорациями в коротких заглубленных канальцах неправильной формы на поверхности между шипиками. Подобные перфорации встречаются у пыльцы P. lanceifolia (подрод Rydbergis, секц. Angulatae; рис. 1п); этот же признак, выраженный в большей или меньшей степени, встречается также у Р. subintegra (секц. Coztomatae) и P. hederaefolia (секц. Lanceolatae).
Пыльца P. lobata (рис. 1е–к), выделяемого в самостоятельный подрод Quincula, имеет неровную поверхность без заметных перфораций с равномерно распределенными шипиками и по общему виду не сильно отличается от пыльцы большинства видов из подрода Rydbergis.
Для большинства видов подрода Rydbergis, наиболее многочисленного в роде, характерна довольно однообразная мелкошипиковатая скульптура (рис. 2) с очень мелкими шипиками (обычно 0.1, реже 0.2 мкм высотой; до 0.3 мкм высотой и 0.3 мкм в основании у P. ixocarpa, секц. Angulatae; рис. 2к), равномерно расположенными по всей поверхности, а иногда лежащими параллельными рядами (P. parviflora, секц. Angulatae, рис. 3д; P. nicandroides, секц. Epeteiorhiza, рис. 3д’).
Хотя однообразная морфология пыльцевых зерен видов р. Physalis и не может послужить удобным различием для подродов и секций, скульптура отдельных видов может иметь характерные отличительные особенности. Так, своеобразный вариант шипиковатой скульптуры пыльцы был обнаружен в образце P. parviflora (= P. angulata var. angulata, секц. Angulatae; рис. 3д). На поверхности пыльцы есть вздутия разного размера (большинство крупные, 3.0– 6.0 мкм), неправильной формы, равномерно расположенные по всей поверхности пыльцевого зерна; расстояние между ними варьирует от 0.6 до 2 мкм. Шипики мелкие, покрывают и вздутия, и промежутки между ними, располагаясь иногда параллельными рядами. У Р. missouriensis (секц. Epeteiorhiza; рис. 3к) шипики лежат на коротких морщинках, имеющих вид ветвящихся струек, особенно отчетливых по краям кольп. Струйки мелкие, около 0.2 мкм шириной, короткие, 0.5–1.5 мкм длиной, прямые или изогнутые. У P. lagascae (секц. Angulatae; рис. 3п) шипики довольно крупные, образуют на поверхности зерна структуры в виде коротких червеобразных струек; поверхность между шипиками морщинистая с мелкими перфорациями.
Подсчет числа шипиков на участке поверхности пыльцевого зерна размером 1.5 на 1.5 мкм (табл. 2) показал, что их плотность варьирует от 7–8 (P. peruviana = “P. edulis”, секц. Lanceolatae) до 25–30 (P. cinerascens, секц. Viscosae; P. hederaefolia и P. fendleri = P. hederifolia var. fendleri, секц. Lanceolatae). Практическое использование признака затруднительно из-за мелких размеров скульптурных элементов, измеримых только с применением электронной микроскопии.
Атипичные формы пыльцевых зерен Physalis. Акольпатная пыльца
В исследованном образце P. pruinosa все пыльцевые зерна отличаются от типичной пыльцы Physalis – пыльцевые зерна безкольпатные 3-оровые. Кольпы (экзоапертуры, образованные в эктэкзине) почти полностью неразличимы и не имеют четких границ, на их месте поверхность пыльцевого зерна имеет такую же скульптуру, что и вся остальная поверхность (без редукции структур эктэкзины, за счет которой образуется экзоапертура; рис. 2а–д). Над орой (эндоапертура, образованная в эндэкзине) поверхность экзины может быть слегка приподнята. К сожалению, в нашем распоряжении имелся всего один гербарный образец P. pruinosa, что не позволило оценить распространенность подобных отклонений пыльцы у этого вида. В литературе приведены описания пыльцевых зерен P. pruinosa типичного для Physalis строения, с отчетливыми, нормально сформированными кольпами (Henry, 1958). Подобное, необычное среди всех цветковых растений строение апертур пыльцы (отсутствие экзоапертуры при нормально развитых эндоапертурах) встречается в качестве типичной формы лишь у неотропического р. Krameria, сопоставление с морфологией которого представляет теоретический интерес в свете обсуждаемой темы (см. Обсуждение).
Индивидуальная изменчивость пыльцы рода Physalis по числу и расположению апертур
В изученных видах р. Physalis, как и во многих таксонах, изученных ранее (принадлежащих к сем. Solanaceae и к другим семействам; табл. 1), было обнаружено, что изредка в одном образце (бутоне, пыльнике, постмейотической тетраде) вместе с типичными пыльцевыми зернами встречаются разнообразные отклоняющиеся формы (рис. 4, 5а), значительно отличающиеся от типичной по числу апертур и их расположению на пыльцевом зерне. Наличие отклонений было зафиксировано у 19 из 42 изученных видов (44%; табл. 2). Наибольшее число вариантов нетипичных форм пыльцевых зерен было обнаружено у P. gracilis (рис. 4а, е, ж), P. adulterina (рис. 4з, и, п, т), P. obscura (табл. 2).
В изученных образцах пыльцы р. Physalis обнаруживается различный размах изменчивости атипичных форм: атипичные формы встречаются в неполных наборах, в небольшом числе вариантов и в разных их сочетаниях (табл. 2). Во всех образцах отклонения очень редки или единичны, с неустойчивыми частотами встречаемости, поэтому сравнение распределения частот встречаемости форм в каждом образце оказывается малоинформативным. Содержательной оказывается более грубая оценка: сравнение широты распространения отклоняющихся форм в изученных видах – доля видов, в которой встречается данная форма (рис. 5б). Распределение встречаемости форм пыльцы по числу изученных видов имеет квазигиперболический вид, характерный для целостных систем. Других форм в изученных образцах р. Physalis не обнаружено. Более распространенными отклоняющимися формами в изученных образцах р. Physalis являются наиболее геометрически правильные, терминальные формы рядов (от 5 до 12 видов; рис. 5б, формы А, Ж, И). Остальные формы встречаются реже и в меньшем числе видов (у одного-двух; рис. 5б). Наиболее часто встречающимися отклоняющимися формами в исследованных образцах (12 из 42) является 6-ругатная форма с апертурами, расположенными по ребрам тетраэдра (рис. 4н, п, р; рис. 5б, форма И). Реже встречаются форма с кольцевой апертурой, закрученной как шов на теннисном мяче (рис. 4е, ж; рис. 5б, Ж), и близкая к ней 4-кольпатная форма с W-образно попарно скошенными кольпами (рис. 4з, и, л; рис. 5б, Ж), а также форма с одной кольцевой апертурой, лежащей по экватору пыльцевого зерна, и ее варианты (рис. 4а, б; рис. 5, формы А–В). Остальные формы встречаются реже или обнаружены в единичных образцах.
Некоторые формы, встречающиеся у пыльцы Physalis как отклонения, могут повторять типичные формы далеких, неродственных и генетически несовместимых таксонов. Так, циклоапертурная форма (рис. 4а; рис. 5, форма А; рис. 6з, и, м, н, о–р) не встречается в качестве типичной во всем сем. Solanaceae, но описана как типичная у двудольных в сем. Scrophulariaceae (Pedicularis; рис. 6р), Cunnoniaceae (Belongera; Pozhidaev, 2000b, fig. 57), Crypteroniaceae (Crypteronia; Pozhidaev, 1998, Plate I, 13), Nymphaeaceae (Viсtoria, Nymphaea; Pozhidaev, 2000b, fig. 73, 74), Eupomatiaceae (Eupomatia; рис. 6м) и у однодольных в сем. Araceae (Monstera; рис. 6п), Rapateaceae (Rapatea; Pozhidaev, 2000b, fig. 12), Arecaceae (Nypa). 6-ругатная форма (рис. 4н, п; рис. 5а, форма И) не бывает типичной в сем. Solanaceae, но как норма встречается в сем. Basellaceae (Basella), Eupteleaceae (Euptelea), Fumariaceae (Corydalis), Cactaceae (Rhipsalis), Lamiaceae (Sideritis, подрод Empedoclea; рис. 6ч) (Pozhidaev, 1992). Обе эти формы вместе со слитно-апертурной формой “теннисный мяч” (или раздельно апертурной W-формой), обозначенные на рис. 5 буквой Ж, не бывают типичными и являются наиболее частыми отклонениями в таксонах двудольных с типичной 3-кольпатной пыльцой. Не только отдельные формы, но и весь описанный упорядоченный набор (ансамбль) форм (рис. 5а) могут быть обнаружены повторяющимися подобно рефрену (Мейен, 1978) в самых разных, далеких, неродственных таксонах цветковых: Acer (рис. 6о; Pozhidaev, 1993, fig. 3), Aesculus (Pozhidaev, 1995, fig. 7), Scrophularia (Шелудякова и др., 2017, рис. 6), Nicotiana (Григорьева и др., 2019) и многих других (Pozhidaev, 1998, 2000b).
Рис. 6. Параллелизм типичной и отклоняющихся форм пыльцы некоторых таксонов цветковых.
а–в – Krameria secundiflora DC.; г – K. grayi Rose; д–ж – K. cistoides Hook.; з – K. ramosissima S. Wats; и – K. erecta Willd. ex Shultes; к – K. parviflora Benth (Krameriaceae); л – Acer maybei Maxim. (Sapindaceae); м – Eupomatia laurina R. Br. (Eupomatiaceae); н – Scutallaria dubia Taliev et Schirj. (Lamiaceae); о – Acer davidii Franch. (Sapindaceae); п – Monstera deliciosa Liebm. (Araceae); р – Pedicularis peduncularis Popov (Scrophulariaceae); с – Alsodeia echinocarpa Korth. (Violaceae); т, у – Acanthosyris falcata Griseb. (Santalaceae); ф – Euphorbia leptocaula Boiss.; х – E. saravschanica Regel (Euphorbiaceae); ц – Eugenia luzonensis Snerr. (Myrtaceae).
а–и, м, п, р – типичные пыльцевые зерна (обозначены буквой Т в верхнем правом углу); к, л, н, о, с–ц – атипичные формы пыльцы.
а–в – 3-кольпатная форма Д; г–ж – акольпатная-3-оровая форма Д; з, и – акольпатная, эндоапертура формы А; к – акольпатная, эндоапертура формы Ж (tennis ball-форма); з, и, м–р – форма А; к, л – форма Ж (tennis ball-форма); с–ц – форма Е (с, т – правый вариант; х, ц – левый вариант). Буквенные обозначения форм см. на рис. 5.
а–в – типичная пыльца р. Krameria (Krameriaceae) с экзоапертурами; г–ж – без экзоапертур.
а, г, д, з, с, т, х, ц – СМ; б, в, е, ж, и–р, у, ф – СЭМ. Для каждого пыльцевого зерна показан верхний и нижний фокус (СМ). Масштабные линейки – 10 мкм.
В изученных образцах р. Physalis (как и во многих других исследованных таксонах; табл. 1) было обнаружено, что среди отклоняющихся форм удается найти пыльцевые зерна с промежуточным расположением апертур между этими терминальными состояниями (форма Б: рис. 4б; форма В: рис. 4е; форма Г: рис. 4в, г; форма Е: рис. 4о; форма З: рис. 4м; форма Л: рис. 4с). В результате формы пыльцевых зерен (типичных и отклоняющихся) могут быть упорядочены в непрерывный последовательный ряд, в котором наиболее простая по своей симметрии форма А (циклоапертурная, с кольцевой апертурой, лежащей в одной плоскости; рис. 4а, рис. 5, А) постепенно преобразуется в формы с другой симметрией и другим типом организации схемы тела, некоторые из которых являются типичной для далеких, генетически изолированных таксонов:
- За счет ассиметричного сгибания кольцевой апертуры к одному из полюсов под 120° и появления дополнительной апертуры в типичную 3-кольпатную форму Д с меридионально ориентированными апертурами (рис. 4а–д; рис. 5, Д).
- Циклическая апертура может сгибаться симметрично в сторону обоих полюсов, как шов на теннисном мячике, превращаясь в форму Ж (слитно-апертурная, tennis ball-форма; рис. 4е, ж; рис. 5, Ж), или в 4-кольпатную раздельно-апертурную форму с W-образно попарно скошенными кольпами (рис. 4з, и, л; рис. 5, Ж), или в 4-кольпатную форму К с меридионально ориентированными апертурами (рис. 4к; рис. 5, К).
- За счет появления на противоположных сторонах W-формы двух накрест лежащих дополнительных руг превращается в 6-ругатную форму И с глобально расположенными апертурами, ориентированными по ребрам тетраэдра (рис. 4м–р; рис. 5, И).
- Тетраэдр-форма И затем трансформируется в 9-ругатную форму М с глобально расположенными апертурами, ориентированными по граням треугольной призмы (рис. 4с, т; рис. 5, Л, М).
Расположение апертур, даже самых “кривых” и неправильных отклоняющихся форм пыльцевых зерен р. Physalis (рис. 4в, г, о, с; рис. 5, Г, Е, Л), с точностью повторяется в разных, далеких группах двудольных растений (рис. 6с–ц) и не менее упорядочено, чем расположение апертур более симметричных и “правильных” типичных форм пыльцы. Большинство отклоняющихся форм расположения апертур встречаются редко, устойчиво не наследуются и никогда не бывают типичными, но обнаруживаются в индивидуальной изменчивости современных таксонов (Пожидаев, Петрова, 2022).
Обсуждение
Сопоставление изменчивости морфологических признаков типичной пыльцы в трех подродах Physalis показало, что род в целом палиноморфологически достаточно однообразен. Пыльца схожа, размах изменчивости признаков крайне невелик и перекрывается в разных подродах и секциях, полученные данные малоинформативны для поиска диагностических различий внутриродовых подразделений р. Physalis.
Палиноморфологические данные не противоречат выделению P. alkekengi с мелкобугорчатой поверхностью (рис. 1д) в отдельный монотипный подрод Physalis рода Physalis (Martínez, 1998, 1999) или в самостоятельный р. Alkekengi (Whitson, Manos, 2005; Wang, 2014). Пыльца P. lobata (рис. 1е–к), выделяемого в самостоятельный подрод Quincula, не сильно отличается от пыльцы большинства видов из подрода Rydbergis, поэтому морфологические признаки пыльцы не могут быть использованы для подтверждения самостоятельности монотипного р. Quincula.
Несколько видов выделяются своеобразными вариантами морфологических признаков. Так, P. missouriensis выделяется среди изученных видов шипиками, сгруппированными в недлинные струйки на гладкой поверхности (рис. 3е– к); для P. lagascae характерны одиночные шипики, основания которых слегка вытянуты в короткие червеобразные струйки (рис. 3л– п); P. parviflora со вздутиями на поверхности (рис. 3а– д); P. lanceifolia (а также P. glabripes, Р. subintegra, P. hederaefolia) с редкими и заметными перфорациями (рис. 1л–п).
Впечатление некоторой специфичности признаков скульптуры на уровне подродов создается за счет их малочисленности (по одному виду в подродах Physalis и Quincula) и минимального размаха их изменчивости. Сравнение показывает, что признаки этих подродов (а, по сути, видов) изредка повторяются среди видов оставшегося и наиболее многочисленного подрода Rydbergis (порядка 60 видов), создавая редкие и необъяснимые параллелизмы.
Акольпатная пыльца Physalis pruinosa и рода Krameria
Пример с акольпатной пыльцой (без экзоапертуры при нормально развитых эндоапертурах), обнаруженной в образце P. pruinosa, показателен в сравнении с акольпатной пыльцой неотропического р. Krameria (рис. 6а–к; Pozhidaev, 2002), насчитывающего 17 видов и выделяемого в отдельное сем. Krameriaceae неясного таксономического положения (включали в Polygolales, сближали с Cesalpinioidea (Simpson, 1989); согласно системе APG II, сближают с сем. Zygophyllaceae). Два вида Krameria имеют обычную для двудольных 3-кольпоратную пыльцу (рис. 6а–в); пыльца 15 видов вовсе не имеет каких-либо экзоапертур (рис. 6г–к); из них у пыльцы 13 видов имеются, как у пыльцевых зерен P. pruinosa (рис. 2а–г), только три экваториальные эндоапертуры (рис. 6г–ж), и два вида имеют одну кольцевую экваториальную эндоапертуру (рис. 6з–и), подобно циклоапертуратной отклоняющейся форме Physalis (рис. 4а; рис. 5а, А).
У видов Krameria с пыльцой, имеющей и экзо-, и эндоапертуры, и с пыльцой, имеющей только эндоапертуры (без экзоапертур), отклоняющиеся формы расположения экзоапертур (образованных в эктэкзине) и эндоапертур (образованных в эндэкзине) повторяют одни и те же формы (рис. 4е, 6к, л), которые могут быть составлены в параллельные ряды, подчиняющиеся одной упорядоченной геометрической последовательности (Pozhidaev, 2002).
Экзо- и эндоапертуры образованы разными слоями экзины (экт- и эндэкзиной соответственно), не гомологичными по своему строению, расположению, химизму и времени закладки в онтогенезе. Одинаковую форму отклонений и их рядов имеют экзо- и эндоапертуры, образованные негомологичными структурами пыльцевой оболочки (экт- и эндекзина) в далеких, неродственных таксонах. Пример наглядно демонстрирует параллелизм, совершенно немыслимый с типологической и филогенетической точек зрения (объяснение морфологического сходства через родство таксонов и гомологию структур) – сходство негомологичных структур в неродственных таксонах, упорядоченное в соответствии с одной и той же универсальной закономерностью.
Теоретическое заключение
Свойства изменчивости признаков пыльцы, наблюдаемые на примере представителей р. Physalis и других таксонов цветковых растений, с необходимостью приводят к ряду общих заключений, без которых объяснение природы изменчивости признаков изучаемого таксона представляется невозможным (Пожидаев, 2015; Пожидаев, Петрова, 2022; Пожидаев и др., 2023, 2024). Неизбежные теоретические следствия необычных свойств этой изменчивости следует рассмотреть подробнее.
Свойства индивидуальной изменчивости признаков пыльцы рода Physalis и других таксонов
При детальном изучении и определенном внимании к корректному описанию свойств изменчивости разные признаки пыльцы (скульптура, число и расположение апертур; Пожидаев, Петрова, 2022) на разном таксономическом уровне обнаруживают одинаковую структуру изменчивости – непрерывные и упорядоченные ряды – целостные фрагменты генеральной совокупности (полной изменчивости полного поколения). Широкая изменчивость признаков формы пыльцы наблюдается на уровне индивидуальных живых тел одного поколения с минимальными генетическими различиями, а изменчивость признаков скульптуры пыльцы – на уровне далеких, генетически несовместимых групп (роды и надродовые таксоны). То есть там, где изменчивость может быть объяснена механизмами наследования, отбором мутаций и дивергенцией (близкородственные виды) – изменчивости нет; а там, где изменчивость есть (генетически сходные живые тела одного поколения или генетически несовместимые таксоны) – она не дивергентна, а выстраивается в ряды, непрерывные и параллельные (не в клады, а в клины; Пожидаев, Петрова, 2022; Пожидаев и др., 2023, 2024).
Современная изменчивость (результат всей предшествовавшей эволюции), наблюдаемая на примере полного поколения пыльцы, обнаруживает свойства, иные до противоположности тем, что следуют из предположений о причинах и механизмах ее возникновения (мутирование, наследование, вымирание, отбор, дивергенция). Изменчивость не дискретна, а непрерывна; не случайна, а высоко упорядочена; не таксон-специфична, а транзитивна (параллелизм, рефрен; Мейен, 1978); не иерархична, а рангово-независима (правило Кренке; Кренке, 1933–1935; Чайковский, 2018).
На примере многообразия форм пыльцы р. Physalis и других таксонов цветковых растений удается наблюдать, как в далеких, неродственных таксонах в результате бесполого размножения (без гибридизации) регулярно, с определенной частотой происходит не наследование типичной формы (родительский, предковый, таксоноспецифичный тип организации живого тела; функциональная, физиологическая и адаптивная норма). Вместо этого при рождении нового живого тела в индивидуальной изменчивости близкородственных гаметофитов в поколениях одной генеалогической линии предков и потомков раз за разом воспроизводятся типичные формы, разнообразные отклонения, их ряды и в пределе одно и то же универсально упорядоченное многообразие в целом (в рамках строгих геометрических закономерностей, параллельно и транзитивно, перекрывая границы родства таксонов и гомологии структур; рис. 4, 5а, 6). В разных таксонах рефреном повторяется единый геометрический ряд, в котором удается объединить как естественные части разные типичные формы далеких, генетически несовместимых таксонов (сбалансированный онтогенез иного архетипа; правило Кренке; Кренке, 1933–1935) и отклоняющиеся формы, промежуточные между типичными, которые не бывают типичными и которые дополняют изменчивость типичных форм из разных таксонов до единой системы непрерывных параллельных рядов (рис. 5а). Ряд – не градационный (не направленный, восходящий ряд совершенствования, но лестница существ в прямом смысле) и не генеративный (в своей рядоположенности формы не связаны происхождением), а геометрический (формы связаны не просто типологическим сходством, а законами композиции и отношением единства формы, по Урманцеву; Meyen, 1973).
Изменчивость форм пыльцы непрерывна и не может быть корректно описана с помощью классификации. Попытка классифицирования непрерывной изменчивости приводит к полной потере представления о части изменчивости (промежуточные формы), необратимому искажению упорядоченной структуры целостной системы параллелизмов и неудовлетворительна по результату (таксон-меронное и таксон-биоморфное несоответствие; In Memoriam, 2007). Задача партономического деления целого на части (естественной изменчивости на отдельные формы и признаки) оказывается сложнее и богаче задачи таксономического родо-видового объединения дискретных живых тел (Павлинов, 2023) – требует иного подхода в силу наличия у изменчивости собственных свойств, не предусмотренных в типологическом подходе к ее описанию.
Изменчивость форм пыльцы исходно упорядочена и не нуждается в дополнительном упорядочивании путем нашего классифицирования. При попытке классифицирования (дискретизации) целостное многообразие распадается на отдельные формы и множество парадоксальных, по-отдельности ничем не объяснимых параллелизмов. Каждый по отдельности случаи параллелизма отклоняющихся форм в разных таксонах объяснения причин не имеют; но взятые вместе, целиком они образуют рациональную морфологическую систему (Пожидаев и др., 2023), геометрическая самосогласованность которой сама по себе может служить рациональным основанием, причиной их осуществления (возникновения и существования). Очевидно, что в этом целостном и неразделимом геометрическом ряду (рис. 5а) возникновение типичных форм не может быть объяснено отдельно от ансамбля связанных отклонений, например: типичные формы – как результат наследования (родовое сходство), а остальные формы – как результат сходных закономерностей развития, случайность или удача. Типичные формы не могут быть вырваны из непрерывных и транзитивно упорядоченных рядов и выстроены в генеалогической последовательности, как и гомологии не могут быть выделены из целостной системы параллелизмов (никак не связанных с происхождением) и объяснены родством.
Игнорирование существования редких отклоняющихся форм живых тел приводит к неверному описанию структуры современной морфологической изменчивости, а значит, неизбежно – к некорректным суждениям о причинах ее возникновения и эволюции. Совпадают, описываются одними и теми же ясными геометрическими закономерностями (являются аспектами одной и той же изменчивости) индивидуальная изменчивость форм пыльцы, современная таксономическая изменчивость (типичные формы) и эволюционная изменчивость (результат морфологической эволюции, возникновение новых типов организации, наблюдаемое в геологических слоях). В размахе индивидуальной изменчивости форм пыльцы, который может встретиться в одном образце Physalis, повторяются типичные формы таксонов семенных растений высшего ранга (описываемая одной и той же закономерностью от вида до отдела). Полная индивидуальная изменчивость в полном поколении оказывается универсальной – включает типичные формы далеких родов (разные архетипы, правило Кренке; Кренке, 1933–1935).
Упорядочивание естественной изменчивости
Попытка геометрического упорядочивания естественного многообразия форм пыльцы неожиданно оказывается выполнимой с непредвиденно высокой для биологических объектов точностью. Вся изменчивость формы пыльцы р. Physalis может быть сведена к универсальной для семенных растений системе параллелизмов. Все формы индивидуальной изменчивости, с частотами встречаемости до долей процента, вплоть до единичной встречаемости (Pozhidaev, 2002, fig. 3; Пожидаев, 2009, рис. 3), строго следуют одной и той же универсальной надиндивидуальной геометрической закономерности (рефрен, как правило, не знающее исключений; In Memoriam, 2007).
Столь высокая степень упорядоченности наблюдаемых морфологических признаков живых тел не следует с обязательностью ни из каких естественно-научных, религиозных или метафизических представлений и обнаруживается чисто эмпирически. Такой (геометрической) упорядоченности живого никто не требовал даже от творения Божия. Согласно Откровениям авраамических религий, совершенные (неизменные) твари “сотворены по роду их” (Бытие 1: 24–27), приносящими “по роду своему плод” (Бытие 1: 11–12); а глава, повествующая о творении по родам, так и названа – “Genesis” (лат. genus – род; в контексте теоретической морфологии нам важны не оригинальные, древнеарамейские, а более поздние европейские классические и схоластические смыслы, ставшие основой научных понятий нового времени; Павлинов, 2023). В полном поколении на стадии жизненного цикла, когда смерти нет, многообразие форм пыльцы проявляет совершенные качества (упорядоченность, целостность), почти буквально иллюстрируя библейскую притчу (единственная разработанная онтология, предусматривающая исходное совершенство мира, как признак завершенного творения, которое “хорошо весьма”; Бытие 1: 31).
Ту же генеративную взаимосвязь (а не геометрическую упорядоченность) подразумевает и сложившееся позже естественно-историческое понимание генезиса как происхождения путем развития одной формы из другой и представление о тройном параллелизме Агассиса–Геккеля (онтогенез, морфогенез, филогенез). В связи с этим следует заметить, что доступна наблюдению только последовательность стадий индивидуального развития (онтогенез), а филогенез и морфогенез – наши предположения. К тому же в онтогенезе пыльцы отсутствуют какие-либо стадии последовательной трансформации ее формы (апертура закладывается сразу на своем месте; Albert et al., 2022). В представлении о генезисе как о тройном параллелизме сведены не независимые оценки сходства независимых онтогенетических, морфогенетических и филогенетических рядов, а, скорее, суждение о разных аспектах одной и той же индивидуальной изменчивости по одной аналогии (всегда неверное, как всякая аналогия).
И типичные формы разных таксонов, и отклоняющиеся формы оказываются фрагментами, гармоничными частями универсального надорганизменного ансамбля согласованных форм, системы параллелизмов – непрерывного ряда, в геометрической закономерности сохраняющие свойства целого – упорядоченную форму (а не результат мутаций, наследования или вымирания и приспособления). Столь широкий параллелизм и транзитивность закономерностей индивидуальной изменчивости, по сути, лишает смысла саму генеративную идею – наследование и наследственность как передача родовых, диагностических отличий в ряду поколений потомков, детерминированных таксоноспецифичной программой онтогенеза, унаследованной от предка. Возникновение в качестве отклонения формы типичной пыльцы далекого неродственного таксона наглядно демонстрирует, как глубоко могут быть трансформированы способы детерминации индивидуального развития у близкородственных, генетически сходных живых тел – а по сути, насколько изменчивость формы пыльцы может быть не связана с генетической изменчивостью. Транзитивность, универсальность сходства форм пыльцы в далеких таксонах, высокий таксономический уровень параллелизма означают, что признаки формы пыльцы не наследуются от общего предка, но воспроизводятся всякий раз заново, с нуля, а возникновение их многообразия, изменчивости не связано с дивергенцией (вымирание промежуточных вариантов, “расщепление” предковой формы, наследование изменений) или последовательным развитием.
Геометрическая правильность рядов форм пыльцы (рис. 5а) – это закономерности чистых форм, результат абстрагирования, отвлечения от всех свойств материального субстрата, кроме протяженности, и всех, в том числе и биологических, смыслов. Чистые формы протяженности – вне связи с родством, без особого эффекта для адаптации и функциональности структур, до возможного влияния внешних условий действия и естественного отбора. Чистые геометрические формы не имеют ни исторических, ни функциональных коннотаций; нет оснований ожидать зависимости их признаков от географии, экологии, биологии опыления и т. п. Как и возможности их усовершенствования (развития), их геометрия совершенна и не может быть усовершенствована ни путем упражнения, ни естественным отбором, ни каким-либо другим способом.
Существование чистых форм может быть “объяснено” из свойств протяженности (пустоты) и не нуждается в другом объяснении. Что поворачивает в содержательную, естественно-научную плоскость древний парадокс о причине формы: “форма есть пустота” (чистая протяженность, без учета свойств материального субстрата; как отражение геометрических свойств пустого вмещающего пространства – плоского и непрерывного – без различения внешнего и внутреннего). Свойства формы не материальны и в то же время существуют реализованными предметно. Непрерывный ряд имеет целостность сплошной формы, чья упорядоченность перекрывает границы единичных предметов (индивидуальные онтогенезы) и существует не локально – над генеративными связями (в индивидуальном онтогенезе может возникнуть форма неродственного рода и негомологичной структуры) и организмоцентричными типами (не изменчивость схем живого тела, а их надорганизменные ряды). Свойства биологической формы искажаются в процедурах обобщения (редукции, идеализации).
Неопределенность (текучесть) дискретной формы в непрерывном многообразии. Морфозы и метаморфозы
Непрерывный объект содержит точки, но не складывается из отдельных точек – непрерывное множество не счетное (понимание континуума, при котором число его точек заранее не определяется; Чайковский, 2004, с. 137– 141). Непрерывность (неделимость) рядов морфологической изменчивости означает неразличимость, неопределенность в ней каких-либо границ деления на отдельные морфологические формы, индивидуальные живые тела, а также их классы, группы, типы и таксоны. Многообразие потому и непрерывно, что никаких отдельных состояний признака (дискретных форм, типов, классов) в нем нет; делить непрерывность такое же бесперспективное занятие, как перечислять бесконечность.
Неопределенность дискретной формы в непрерывном многообразии и есть метаморфоз формы по И. В. Гете, понятый как “текучесть” формы (“Schwankende Gestalten”; Гете, 2014, с. 515) – впервые отрефлексированное в теоретическом понятии наблюдение непрерывных рядов естественной изменчивости.
Появление в изменчивости полного поколения одной генеалогической линии типичной формы пыльцы далекого, генетически несовместимого таксона означает не генезис ее формы (порождение, возникновение одной формы из другой), а морфоз (перерождение формы; резкое ненаследуемое изменение родовых признаков без изменения видовых, в духе Копа (Сope, 1896); возникновение иной формы из пустоты, “ex nihilo”, согласно надорганизменным геометрическим закономерностям).
Неопределенность (текучесть) дискретных форм в непрерывном многообразии может служить обоснованием логической допустимости способности индивидуальной формы к морфозу, перерождению, глубокой модификации, выходящей за пределы типа морфологической организации живого тела. Возникающие в полном поколении полные наборы морфозов (изредка, но регулярно происходящее ненаследуемое перерождение, сальтационное возникновение иной формы) складываются в метаморфозы (непрерывные и неделимые ряды постепенного перетекания формы в рамках четких морфологических закономерностей). На полном поколении пыльцы удается наблюдать, как текучесть индивидуальной формы дискретных живых тел укладывается в непрерывный упорядоченный ряд изменчивости, связанный ансамбль форм, целостный фрагмент естественной системы (Пожидаев и др., 2023). Способность к метаморфозу, возможность резкого (за одно поколение) изменения плана морфологической организации живых тел – это не теоретическое предположение, а регулярно наблюдаемое и даже фотографируемое событие (рис. 4, 6).
Свойства самой формы (непрерывность, упорядоченность, целостность) приводят к самовоспроизведению изменчивости из любой ее части, не требуя введения каких-либо дополнительных причин (путем перерождения формы при рождении нового живого тела в ходе размножения, не важно, полового или бесполого). У нас нет необходимости для объяснения возникновения каждой из форм по отдельности (помимо ее чисто геометрических свойств), предполагать ее функциональность, адаптивность, физиологическую нормальность или соответствие цели, каждый раз вводя множество дополнительных причин (дивергенция, адаптация, мутация, родство, ген, рудимент, атавизм, гомология, тип).
Морфоз – макропотенциальная изменчивость (эволюция каждый день)
Явление перерождения, возникновение типичной формы другого таксона показывают, что в индивидуальном развитии пыльцы происходят события, которые по глубине необходимых онтогенетических преобразований должны быть сопоставимы с макроэволюционными явлениями – гипотетическими (ненаблюдаемыми) макромутациями (чрезвычайно редкие события, эпохальные по своим последствиям; вызываются специфическими причинами, о природе которых, впрочем, науке по-прежнему ничего не известно). Наблюдаемое явление перерождения биологической формы означает, что причины макропотенциальной (эволюционной) изменчивости не отнесены в далекое прошлое, а происходят во времени “сейчас”. Все формы ряда синхронны, все существуют одновременно; все формы ряда – это зрелые, дефинитивные формы; ничто не говорит о том, что члены ряда расположены в хронологической последовательности стадий динамической траектории (кинематографический метод – Бергсон, 1999; процессуальная реконструкция – In Memoriam, 2007).
Новая форма, типичная для другого таксона, может возникнуть за одно поколение, сразу, без неопределенных мутаций, горизонтального переноса, наследования, гибридизации, дивергенции, вымирания, приспособления или усовершенствования и целенаправленного развития. Упорядоченная форма может быть воспроизведена “из ничего”, но возникать в результате случайных изменений или произойти от менее упорядоченного состояния – не может.
Переходные, промежуточные формы, которые не удается найти ни в современной, ни в ископаемой таксономической (типологической) изменчивости, несложно обнаруживаются в изменчивости индивидуальной в каждом поколении в их полном ассортименте. Значит, эти формы не вымирали в ходе предполагаемого длительного процесса адаптации и дивергенции. Реально существуют и требуют объяснения они, а не гипотетические предковые формы и промежуточные звенья модели дивергентной эволюции (вымерших форм типичной пыльцы известно необычайно мало, например: Hofmann, Zetter, 2007). Эволюционная новизна появляется в форме упорядоченного многообразия и исключает предположения о неопределенной изменчивости и первозданном хаосе как источнике современного многообразия биологических форм. Изменчивость, неоднородность и первичная структура исходны; идея, что простое собирается в сложное, несмотря на свою интуитивную наглядность, не охватывает свойства наблюдаемой изменчивости. Наблюдаемая картина полной изменчивости форм пыльцы определенно не возникала в результате последовательности дивергенций, произошедших в геологическом прошлом, а складывается в настоящем каждый раз заново на основе параллелизмов. Возможность перерождения индивидуальной формы, обратимое возникновение в генеалогической линии типичной формы иного, не родственного таксона, с одной стороны, объясняет неэффективность морфологии для генеалогических реконструкций, а с другой – убеждает, что возникновение в результате произошедшей морфологической макроэволюции биологического многообразия с наблюдаемыми свойствами (непрерывной, закономерной и транзитивной структурой индивидуальной изменчивости) не может быть объяснено в рамках генеалогической (генеративной) модели (с концепцией рода, родства, происхождения, генезиса, дивергенции). Молекулярные методы реконструкции генеалогических (таксономических) связей приводят к тому же заключению, в его отрицательной формулировке: морфологическое сходство слишком часто оказывается парафилетичным или полифилетичным и не дает возможности точной реконструкции порядка диверсификации монофилетичных таксонов. Для этого больше подходит анализ молекулярных последовательностей и продуктов их матричного копирования (кодирование, репликация, транскрипция, трансляция) – процесс, дихотомичный по своей структуре (описываемый дихотомическим графом, хотя такое обоснование дивергенции не имеет отношения к идеям естественного отбора или приспособления).
Несмотря на некоторую радикальность сделанных заключений, такой “геометрический” подход к описанию биологической формы экономичнее и рациональнее, чем классификация типичных форм, и более соответствует наблюдаемым свойствам естественной изменчивости пыльцы р. Physalis и других цветковых. Использование пыльцы как модельного объекта для изучения свойств индивидуальной изменчивости позволяет описать сходство не как следствие родства или приспособления, а свойство целостности.
Благодарности
Авторы выражают особую признательность и благодарность Людмиле Александровне Карцевой, инженеру ЦКП БИН РАН (Санкт-Петербург) за многолетнее творческое сотрудничество, высокий профессионализм и преданность делу.
Финансирование
Работа выполнена на оборудовании ЦКП “Клеточные и молекулярные технологии изучения растений и грибов” Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (Санкт-Петербург) в рамках выполнения государственного задания по теме: “Пыльца и споры современных и ископаемых растений: морфология и развитие” АААА-А19-119080790048-7.
Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Соблюдение этических стандартов
Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с использованием животных в качестве объектов.
About the authors
A. E. Pozhidaev
Komarov Botanical Institute, RAS
Author for correspondence.
Email: pae62@mail.ru
Russian Federation, Prof. Popov Str., 2, St. Petersburg, 197376
V. V. Grigoryeva
Komarov Botanical Institute, RAS
Email: mikhailov_val@mail.ru
Russian Federation, Prof. Popov Str., 2, St. Petersburg, 197376
A. N. Semenov
Komarov Botanical Institute, RAS
Email: grigorieva@binran.ru
Russian Federation, Prof. Popov Str., 2, St. Petersburg, 197376
References
- Айрапетян А.М., 1991. Апертурный полиморфизм пыльцы у вида Physalis maxima L. (Solanaceae) // Флора, растительность и растительные ресурсы Армении. Вып. 13. С. 107–115.
- Айрапетян А.М., 2002. Палинологические данные к подсемейству Solanoideae (Solanaceae Juss.): триба Solaneae // Флора, растительность и растительные ресурсы Армении. Т. 14. С. 118–130.
- Бергсон А., 1999. Творческая эволюция. Материя и память. Минск: Харвест. 1408 с.
- Гете И.В., 2014. Научные сочинения. Т. 1. Образование и преобразование органических существ (морфология). М.: КМК. 696 с.
- Григорьева В.В., Брицкий Д.А., Коробков А.А., 2018. Морфология пыльцевых зерен видов рода Artemisia (Asteraceae) Дальнего Востока России // Бот. журн. Т. 103. № 10. С. 1255–1264. https://doi.org/10.7868/S0006813618100046
- Григорьева В.В., Пожидаев А.Е., Семенов А.Н., Брицкий Д.А., 2019. Морфологическая изменчивость пыльцы представителей рода Nicotiana (Solanaceae) // Бот. журн. Т. 104. № 6. С. 900–917. https://doi.org/10.1134/S0006813619060061
- Кренке Н.П., 1933–1935. Феногенетическая изменчивость // Сборник работ отделения фитоморфогенеза. Т. I. М.: Изд. Биол. ин-та им. Тимирязева. С. 11–415.
- Куприянова Л.А., Алешина Л.А., 1967. Палинологическая терминология покрытосеменных растений. Л.: Наука. 84 с.
- Любищев А.А., 1982. Проблемы формы, систематики и эволюции организмов. М.: Наука. 376 с.
- Мейен С.В., 1978. Основные аспекты типологии организмов // Журн. общ. биологии. Т. 39. № 4. С. 495–508.
- Павлинов И.Я., 2023. Проблема вида в биологии. Истоки и современность. М.: Т-во науч. изд. КМК. 216 с.
- Пожидаев A.E., 1989. Структура экзины пыльцевых зерен представителей сем. Lamiaceae // Бот. журн. Т. 74. № 10. С. 1410–1422.
- Пожидаев А.Е., 2009. Структура многообразия морфологического признака на примере расположения апертур пыльцы цветковых и естественная упорядоченность биологического многообразия. Или – что такое многообразие (описание и интерпретация) // Вид и видообразование. Анализ новых взглядов и тенденций. Тр. ЗИН РАН. Приложение № 1. М.: КМК. C. 151–182.
- Пожидаев А.Е., 2015. Рефренная структура биологического многообразия и теория филогенеза // Палеоботанический временник. Т. 2. С. 115–127.
- Пожидаев А.Е., Григорьева В.В., Семенов А.Н., 2023. Структура естественной изменчивости палиноморфологических признаков на примере некоторых видов Nierenbergia и Bouchetia (Solanaceae) и естественная система биомногообразия // Журн. общ. биологии. Т. 84. № 4. С. 279–295. https://doi.org/10.31857/S0044459623040061
- Пожидаев А.Е., Григорьева В.В., Семенов А.Н., 2024. Структура индивидуальной изменчивости палиноморфологических признаков рода Cestrum (Solanaceae Juss.). Типичная форма и отклонения (морфозы) // Журн. общ. биологии. Т. 85. № 3. С. 207–229.
- Пожидаев А.Е., Петрова Н.В., 2022. Структура изменчивости палиноморфологических признаков внутри рода Galeopsis l. Hjl. (Lamiaceae) и за его пределами в связи с идеей дивергентной морфологической эволюции // Журн. общ. биологии. Т. 83. № 3. С. 151–169. https://doi.org/10.31857/S004445962203006X
- Телицына И.В., Григорьева В.В., Пожидаев А.Е., Гаврилова О.А., Шванова В.В., 2019. Морфология пыльцевых зерен некоторых видов рода Polygala (Polygalaceae) флоры Кавказа // Бот. журн. Т. 104. № 7. С. 1110–1121. https://doi.org/10.1134/S0006813619050168
- Свасьян К.А., 2001. Философское мировоззрение Гете. М.: Evidentis. 219 с.
- Сладков А.Н., 1967. Введение в спорово-пыльцевой анализ. М.: Наука. 275 с.
- Чайковский Ю.В., 2004. О природе случайности. М.: Центр системных исследований. 280 с.
- Чайковский Ю.В., 2018. Автопоэз. Опыт пособия тем, кто хочет понять эволюцию живого. М.: КМК. 560 с.
- Шелудякова М.Б., Григорьева В.В., Пожидаев А.Е., 2017. Морфология пыльцевых зерен представителей рода Scrophularia (Scrophulariaceae) // Бот. журн. Т. 102. № 3. С. 361–379.
- Airapetyan A.M., 2008. Features of the exine ornamentation of pollen grains in the family Solanaceae Juss. I. The simple types of ornamentation // Nat. Sci. V. 2. № 11. P. 46–50.
- Albert B., Matamoro-Vidal A., Prieu C., Nadot S., Till-Bottraud I., et al., 2022. A review of the developmental processes and selective pressures shaping aperture pattern in angiosperms // Plants. V. 11. Art. 357. https://doi.org/10.3390/plants11030357
- Blackmore S., Crane P.R., 1998. The evolution of apertures in the spores and pollen grains of embryophytes // Reproductive Biology / Eds Owens S.J., Rudall P.J. Kew: Royal Botanic Gardens. P. 159–180.
- Campo M., van, 1976. Patterns of pollen morphological variation within taxa // The Evolutionary Significance of the Exine / Eds Ferguson I.K., Muller J. L.: Academic Press. P. 125–137.
- Cope E.D., 1896. Primary Factors of Organic Evolution. Chicago: Open Court. 547 p.
- D’Arcy W.G., 1991. The Solanaceae since 1976, with a review of its biogeography // Solanaceae II. Taxonomy, Chemistry, Evolution / Eds Hawkes J.G., Lester R.N., Nee M., Estrada N. Kew: Royal Botanic Gardens. P. 75–138.
- Dajoz I., Till-Bottraud I., Gouyn P.H., 1993. Pollen aperture polymorphism and gametophyte performance in Viola diersifolia // Evolution. V. 47. № 4. P. 1080–1093.
- Gavrilova O., Britski D., Grigorieva V., Tarasevich V., Pozhidaev A., Leunova V., 2018. Morphology of pollen of representatives of the genus Euonymus (Celastraceae) // Turczaninowia. Т. 21. № 4. С. 188–206.
- Erdtman G., 1952. Pollen Morphology and Taxonomy: Angiosperms. Stockholm: Almquist and Wiksell. 539 p.
- Estrada E., Martínez M., 1998. Physalis (Solanaceae) and allied genera: Tzeltalia, a new genus from the highlannds of southern Mexico and northwestern Guatemala // Brittonia. V. 50. № 3. P. 285–295.
- Feng S., Jiang M., Shi Y., Jiao K., Shen C., et al., 2016. Application of the ribosomal DNA ITS2 region of Physalis (Solanaceae): DNA barcoding and phylogenetic study // Front. Plant Sci. V. 7. Art. 1047. https://doi.org/10.3389/fpls.2016.01047
- Ferguson M.C., Coolidge E.B., 1932. A cytological and a genetical study of Petunia. IV. Pollen grains and method of studying them // Am. J. Bot. V. 19. № 7. Р. 644–658.
- Hendrych R., 1989. Physalis alkekengi in Europa und in der Tschechoslowakei besonders // Acta Univ. Corolinae. Biol. V. 33. P. 1–42.
- Henry D.R., 1958. Morphological studies of diploid and autotetraploid plants of Physalis pruinosa L. PhD Thesis. Ohio. 90 p.
- Hofmann C.-C., Zetter R., 2007. Upper Cretaceous pollen flora from the Vilui Basin, Siberia: Circumpolar and endemic Aquilapollenites, Manicorpus and Azonia species // Grana. V. 46. P. 227–249.
- In Memoriam. С.В. Мейен: палеоботаник, эволюционист, мыслитель, 2007. М.: ГЕОС. 348 с.
- Laws H.M., 1965. Pollen grain morphology of polyploid Oenotheras // J. Heredity. V. 56. № 1. Р. 18–21.
- Martínez M., 1998. Revision of Physalis section Epeteiorhiza // Anales Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. México. Bot. V. 69. № 2. P. 71–117.
- Martínez M., 1999. Infrageneric taxonomy of Physalis // Solanaceae IV: Advances in Biology and Utilization. Kew: Royal Botanic Gardens. P. 275–283.
- Meyen S.V., 1973. Plant morphology in its nomothetical aspects // Bot. Rev. V. 39. № 3. P. 205–260.
- Murry L.E., Eshbaugh W.H., 1971. A polynological study of the Solaninae (Solanaceae) // Grana. V. 11. № 2. P. 65–78.
- Najčevska C.M., Speckmann G.J., 1968. Nambers of chloroplasts and pollen grain pores in diploid and tetraploid varieties of some Trifolium species // Euphytica. V. 17. № 3. P. 357–362.
- Olmstead R.G., Bohs L., Migid H.A., Santiago-Valentin E., Garcia V.F., Collier S.M., 2008. A molecular phylogeny of the Solanaceae // Taxon. V. 57. P. 1159–1181.
- Perveen A., Qaiser M., 2007. Pollen morphology of family Solanaceae from Pakistan // Pak. J. Bot. V. 39. № 7. P. 2243–2256.
- Pozhidaev A.E., 1992. The origin of three- and sixcolpate pollen grains in the Lamiaceae // Grana. V. 31. № 1. P. 49–52.
- Pozhidaev A.E., 1993. Polymorphism of pollen in the genus Acer (Aceraceae). Isomorphism of deviant forms of angiosperm pollen // Grana. V. 32. № 2. P. 79–85. https://doi.org/10.1080/00173139309429457
- Pozhidaev A.E., 1995. Pollen morphology of the genus Aesculus (Hippocastanaceae). Patterns in the variety of morphological characteristics // Grana. V. 34. № 1. P. 10–20. https://doi.org/10.1080/00173139509429028
- Pozhidaev A.E., 1998. Hypothetical way of pollen aperture patterning. 1. Formation of 3-colpate patterns and endoaperture geometry // Rev. Palaeobot. Palynol. V. 104. № 1. P. 67–83. https://doi.org/10.1016/S0034-6667(98)00045-1
- Pozhidaev A.E., 2000a. Hypothetical way of pollen aperture patterning. 2. Formation of polycolpate patterns and pseudoaperture geometry // Rev. Palaeobot. Palynol. V. 109. P. 235–254. https://doi.org/10.1016/s0034-6667(99)00057-3
- Pozhidaev A.E., 2000b. Pollen variety and aperture patterning // Pollen and Spores: Morphology and Biology. Kew: Royal Botanic Gardens. P. 205–225.
- Pozhidaev A.E., 2002. Hypothetical way of pollen aperture patterning. 3. A family-based study of Krameriaceae // Rev. Palaeobot. Palynol. V. 127. № 1. P. 1–23. https://doi.org/10.1016/S0046667(02)00251-8
- Rydberg P.A., 1896. The North American species of Physalis and related genera // Mem. Torrey Bot. Club. V. 4. P. 297–372.
- Shishova M., Puzanskiy R., Gavrilova O., Kurbanniazov S., Demchenko K., et al., 2019. Metabolic alterations in male-sterile potato as compared to male-fertile // Metabolites. V. 9. № 2. Art. 24. https://doi.org/10.3390/metabo9020024
- Simpson B.B., 1989. Krameriaceae // Flora Neotropica. V. 49. № 4. P. 1–109.
- Till-Bottraud I., Mignot A., Paepe R., de, Dajoz I., 1995. Pollen heteromorphism in Nicotiana tabacum (Solanaceae) // Am. J. Bot. V. 82. № 8. P. 1040–1048.
- Walker J.W., Doyle J.A., 1975. The bases of angeosperms phylogeny: Palynology // Ann. Miss. Bot. Gard. V. 62. № 3. P. 664–723. https://doi.org/10.2307/2395271
- Wang R., 2014. A new combination in Alkekengi (Solanaceae) for the Flora China // Phytotaxa. V. 178. № 1. P. 59–60.
- Whitson M., Manos P.S., 2005. Untangling Physalis (Solanaceae) from the physaloids: A two-gene phylogeny of the Physalinae // Syst. Bot. V. 30. № 1. P. 216–230. https://doi.org/10.1600/0363644053661841
- Zamora-Tavares M., Martínez M., Magallón M., Guzmán-Dávalos L., Vargas-Ponce O., 2016. Physalis and physaloids: A recent and complex evolutionary history // Mol. Phylogen. Evol. V. 100. № 7. P. 41–50.
- Zhang Z.-Y., Lu A.-M., 1995. Pollen morphology of Physalis (Solanaceae) in China and its systematic significance // Cathaya. V. 7. P. 63–74.
Supplementary files