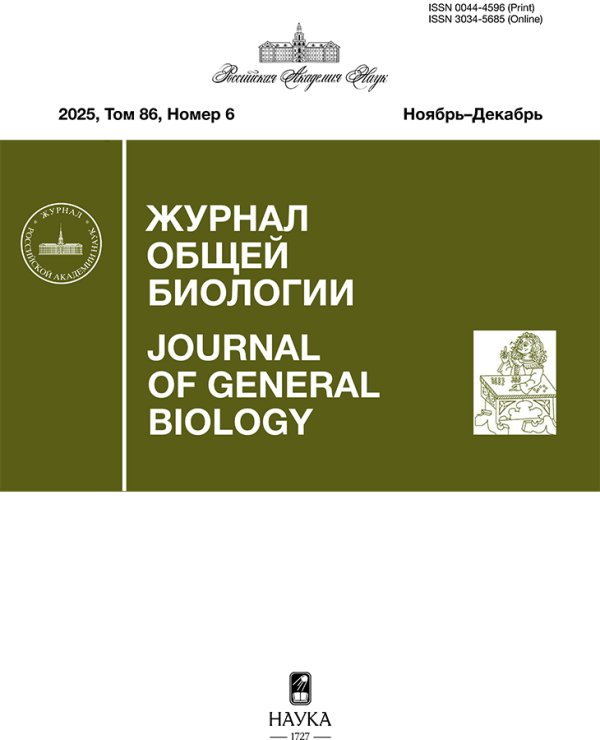Biomarkers of stress in common coastal amphipods and bivalves under salinity gradient and pollution influence (the White Sea)
- Authors: Berezina N.A.1
-
Affiliations:
- Zoological Institute, RAS
- Issue: Vol 85, No 6 (2024)
- Pages: 445-459
- Section: (Indexed in “Current Contents”)
- URL: https://journal-vniispk.ru/0044-4596/article/view/276336
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044459624060024
- EDN: https://elibrary.ru/tqspuu
- ID: 276336
Cite item
Full Text
Abstract
Studies of the biochemical parameters of aquatic organisms are important for understanding the mechanisms of their adaptive reactions in response to the influence of environmental factors. They are also used in a comprehensive assessment of the quality of the aquatic environment under the influence of anthropogenic pollution. The purpose of the work is a comparative study of the biochemical parameters of marine invertebrates, showing neurotoxic effects, the process of antioxidant protection, and the functioning of the biotransformation system. These indicators are considered “biomarkers of stress” in aquatic organisms. Widespread White Sea species were chosen as model species: Gammarus oceanicus (Amphipoda: Malacostraca), Mytilus edulis (Mytilida: Bivalvia), and Mya arenaria (Myoida: Bivalvia). At the end of August 2015–2016, these invertebrates were collected from several locations of the littoral zone of the Kandalaksha Bay of the White Sea: the wild littoral in the absence of visible anthropogenic influence, and with different levels of local pollution (far from an urban settlement (Maly Pitkul Bay), on a wild beach near the confluence of the Niva River, near the port of Kandalaksha at the boat pier, and at the Kartesh biological station). In addition, a comparison was made between molluscs (M. edulis) living in the intertidal and subtidal zones (as part of mussel rope aquaculture). The highest levels of enzyme activity (catalase, glutathione-S-transferase) and increased levels of lipid peroxidation, indicating the state of oxidative stress in the amphipods and molluscs, were determined for animals living at the mouth of the Niva River and local pollution with oil products in the port of Kandalaksha. For each indicator, interspecies differences in response to impacts of one nature or another were found. Principal component analysis revealed two factors that explained 81.08% of the variability of the variables. The main influencing factors were the river reducing the salinity of the water and introducing pollutants into the sea, increasing the levels of metals (copper, zinc, and lead) in the water. The second important impact factor was local pollution of habitats with oil products (motor boats), and it was this second factor that was associated with changes in a large number of biochemical parameters of molluscs and amphipods, indicating the state of stress in organisms. The results of this study confirm the usefulness of using biochemical indicators of marine invertebrates to assess their condition under the influence of environmental stress factors, including pollution, and the high indicator significance of the applied biomarkers.
Full Text
Биохимические показатели отражают изменения в обмене веществ организма, как правило, возникшие до момента появления физиологических отклонений от нормы, и позволяют определить начальную фазу воздействия и оценить границы адаптационных возможностей организма в неблагоприятных условиях (Немова, Высоцкая, 2004; Немова и др., 2014). Повышение концентрации ксенобиотиков (химических веществ, чужеродных для живых организмов) в водной среде прямо или косвенно связано с хозяйственной деятельностью человека. От степени функционирования ферментов биотрансформации ксенобиотиков и регуляторных ферментов, участвующих в реализации защитных реакций организма, зависит устойчивость разных видов гидробионтов к воздействию факторов внешней среды (Немова и др., 2014). Биомаркеры представляют собой молекулярные, биохимические, клеточные и физиологические индикаторы стресса, вызванного загрязнением, измеряемые у организмов, обитающих или подвергающихся воздействию in situ (Timbrell, 1998). Биохимические показатели – это своего рода биомаркеры “раннего предупреждения” о стрессе (Lehtonen et al., 2006; Havelková et al., 2008; Lushchak, 2011). Главное преимущество биомаркеров перед физико-химическими методами анализа – способность выявить биологические последствия действия отдельного взятого фактора или их совокупности, а относительно других биологических методов (биотестирования и биоиндикации) – высокая чувствительность и оперативность ответа, т. е. возможность зарегистрировать происходящие в биологической системе изменения на ранних этапах действия факторов и при их низкой интенсивности (Чуйко, 2017).
Среди биомаркеров часто определяют как ферменты биотрансформации ксенобиотиков, так и регуляторные ферменты, являющиеся индикаторами нейротоксического воздействия, процесс антиоксидантной защиты и функционирование системы биотрансформации (Немова, Высоцкая, 2004; Klimova et al., 2019; Golovanova et al., 2019; Berezina et al., 2019). Каталаза (КАТ) является биомаркером, отражающим защитное функционирование системы антиоксидантной защиты. Еще одним широко используемым биомаркером, связанным с антиоксидантной защитой, является глутатион-S-трансфераза (ГST), играющая ключевую роль в детоксикации ксенобиотиков. Этот фермент действует в реакциях детоксикации фазы II, конъюгируя промежуточные продукты распада органических загрязнителей с глутатионом. Например, очевидное увеличение экспрессии генов, связанных с клеточным окислительным индексом в теле полихет при окислительном стрессе, что связано с воздействием Cu и Cd в донных отложениях и их повышенными концентрациями в теле полихет (Won et al., 2012).
В случае если система антиоксидантной защиты может адекватно реагировать на повышенное производство активных форм кислорода (АФК), вызванное, например, воздействием химических загрязнителей, происходит окисление макромолекул, которое можно обнаружить путем измерения уровня перекисного окисления липидов (ПОЛ), показывающего повреждение липидов в биологических мембранах. Повреждение мембранных липидов происходит в процессе, возникающем в результате реакций АФК с образованием гидроперекисей липидов, которые расщепляют двойные связи ненасыщенных жирных кислот. Гидропероксиды липидов затем могут расщепляться до альдегидов, таких как малоновый диальдегид, который легко вступает в реакцию с белками и ДНК. Перекисное окисление липидов служит хорошим индикатором окислительного повреждения моллюсков и полихет под воздействием металлов (Freitas et al., 2012). Окислительный стресс является потенциальным модулятором защитной системы водных организмов, а биомаркеры могут быть полезны в качестве сигналов раннего предупреждения для биомониторинга окружающей среды (Regoli, 1998). Снижение активности (ингибирование) ацетилхолинэстеразы (АХЭ) свидетельствует о нейротоксических эффектах у организмов (Binelli et al., 2006; Nunes, 2011; Ковыршина, Руднева, 2014). Таким образом, биохимические реакции в ответ на стрессовое воздействие достаточно давно используются в качестве индикаторов загрязнения металлами и другими веществами и признаются одними из современных и продвинутых методов мониторинга загрязнений. Однако очевидные межвидовые различия в реакциях на стресс и региональная специфика условий среды, влияющая на базовый уровень биохимических показателей, требуют детальных сравнительных исследований. Сложность активного внедрения биомаркерного метода в программы мониторинга водных объектов определяется тем, что в природных условиях водные организмы, как правило, подвергаются воздействию смеси загрязняющих веществ в сочетании с природными факторами, способными влиять на биохимическую реакцию как аддитивно, так и антагонистически.
Исследования биологического воздействия загрязнения на морскую биоту арктических морей очень скудны по сравнению с морями умеренного климата (Dietz et al., 2019), особенно мало сведений об использовании биомаркеров “раннего предупреждения” о стрессе для организмов, т. е. основанных на биохимических реакциях (Camus et al., 2003; Lysenko et al., 2014). Белое море – уникальная полузамкнутая морская акватория на северо-западе России, служащая транспортными воротами в Арктику. По климатическим особенностям это море можно рассматривать как модель арктической экосистемы (Филатов и др., 2011). В последние десятилетия экосистема моря, ранее считавшаяся незагрязненной и в значительной степени не тронутой человеческой деятельностью, претерпевает негативные изменения в результате климатических перестроек и растущего антропогенного воздействия. Развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта и туризма является основной причиной поступления биогенных и загрязняющих веществ в прибрежные воды (Cobelo-García et al., 2006). После попадания в море через прямые сбросы из диффузных источников, впадающие реки или из атмосферы с осадками эти вещества могут адсорбироваться взвешенными твердыми частицами, что приводит к локальному повышению концентраций загрязняющих веществ в прибрежных районах и в составе донных отложений.
Морские беспозвоночные, населяющие прибрежные районы, могут быть предварительно адаптированы к кратковременному стрессу окружающей среды благодаря их значительной устойчивости ко многим абиотическим факторам: температуре, солености, питательным веществам и кислороду (Gray, Elliott, 2009). Обитание в условиях, близких к критическим пределам экологической толерантности, может снижать адаптивные возможности таких организмов к дополнительным неблагоприятным воздействиям, в том числе к загрязнению (Chevin et al., 2010). В настоящем исследовании изучены биохимические реакции трех видов беломорских беспозвоночных: съедобной мидии Mytilus edulis (Mytilida: Bivalvia), песчаного моллюска Mya arenaria (Myoida: Bivalvia) и океанического гаммаруса Gammarus oceanicus (Amphipoda: Malacostraca) – в градиенте солености и локального загрязнения в Кандалакшском заливе.
Целью работы является сравнительное изучение биохимических показателей морских беспозвоночных, отражающих эффекты нейротоксического воздействия, процесс антиоксидантной защиты и функционирование системы биотрансформации. Все виды, выбранные для данного исследования, обладают большим индикаторным потенциалом для использования в оценке состояния среды обитания. Мидии ведут прикрепленный образ жизни и используют фильтрационный способ питания, накапливая микроэлементы и органические вещества из водной среды, они широко используются в биоиндикации водной и придонной зоны моря (Beyer et al., 2017). Мии (Mya arenaria) и амфиподы (Gammarus oceanicus) являются представителями донной инфауны, питающимися частичками донных отложений (Camus et al., 2003; Berezina, 2023). Находясь в тесном взаимодействии с грунтами, они наиболее четко отражают состояние донных отложений. Все три вида – обитатели приливно-отливной (литоральной) зоны Белого моря, способные существовать при значительных изменениях характеристик среды, в первую очередь температуры и солености. Являясь пойкилоосмотическими организмами (т. е. осмоконформерами), моллюски и амфиподы не способны регулировать осмотическую концентрацию полостной жидкости и поддерживают состояние, близкое к изотонии, в диапазоне солености внешней среды, соответствующей зоне адаптации (Бергер, 1986). Мидии и мии являются факультативными анаэробами, т. е. используют кислород, если он имеется, но могут выживать и при полном отсутствии кислорода, в аноксийных условиях, переходя в неблагоприятных условиях к анаэробному метаболизму (Хочачка, Сомеро, 1988; Фокина и др., 2011). В отличие от них, амфиподы, как и другие ракообразные, обладают активным дыханием, требующим постоянного обновления кислорода, и чувствительны к гипоксии (Berezina, 2023).
Материал и методы
Район исследования. Кандалакшский залив – один из четырех крупных заливов Белого моря. Это мелководная (<300 м) солоноватая часть моря из-за значительного поступления пресной воды из многих рек, в том числе из самой крупной р. Нивы и некоторых более мелких. Район исследований – мелководный (максимальная глубина <20 м) район залива, который отделен от открытой части комплексом островов, что существенно смягчает уровень волнового воздействия. Верхняя часть залива получила статус Рамсарских водно-болотных угодий международного значения, поскольку характеризуется особым микроклиматом и стало излюбленным местообитанием и гнездованием перелетных водоплавающих птиц. Река Нива протекает через Кольский полуостров (Мурманская обл.) в Кандалакшский залив недалеко от г. Кандалакши. На берегу реки расположена Кольская АЭС (г. Полярные Зори).
Город Кандалакша с населением 40 000 человек расположен в вершине Кандалакшского залива в северо-западной части Белого моря и является крупнейшим населенным пунктом в этом районе. На водосборе расположен крупный завод по выплавке первичного алюминия (Al), завод производит 72 000 т алюминия в год, занимая 15-е место по мощности в Российской Федерации (сайт РУСАЛа, https://rusal.ru/about/geography/kandalakshskiy-alyuminievyy-zavod-kaz/). Потенциальное воздействие металлургического завода вместе с другими местными предприятиями и стоком рек, несущих загрязняющие вещества из других промышленных и горнодобывающих районов Кольского полуострова, могут быть источниками значительного антропогенного загрязнения. Кроме того, поскольку город был ключевой гаванью в этом районе, здесь действовал нефтяной терминал, и на этот район потенциально может повлиять загрязнение от его прошлой деятельности.
Отбор проб. Моллюски M. edulis, M. arenaria и бокоплавы G. оceanicus собраны в конце августа 2014 и 2015 гг. на пяти участках (станции 1–6; рис. 1). Амфипод (длина тела самцов 18–22 мм) и мидий (длина раковины 44–52 мм) собирали вручную в зоне фукусов на каменисто-песчаной литорали во время отлива, а мий (48–56 мм) – из грунта при помощи лопаты.
Рис. 1. Карта-схема района исследования с указанием мест отбора материала.
Все виды были отобраны в количестве по 20 особей на каждом из участков (1, 3–6; рис. 1). На одном из участков (в районе биостанции “Картеш”) мидии были отобраны из разных местообитаний: в прибрежной зоне моря (на литорали), периодически подвергающейся воздействию приливно-отливных течений (ст. 1), и на искусственных субстратах в составе марикультуры, расположенной в сублиторали (ст. 2).
Моллюсков переносили на лед и препарировали: пищеварительные железы и жабры быстро вырезали для измерения биомаркеров, немедленно замораживали при –70°C и транспортировали в лабораторию в изотермическом боксе с сухим льдом. Амфипод промывали водой Milli-Q и также в замороженном виде (–70°C) транспортировали в лабораторию. В лаборатории все образцы содержали при температуре –80°C и анализировали спустя два-три месяца.
Биомаркеры. Все анализы молекулярных биомаркеров выполняли на базе Лаборатории биомаркеров (Институт окружающей среды Финляндии, г. Хельсинки). У изучаемых видов моллюсков (мидий и мий) отбирали ткани для определения биомаркеров каталазы (КАТ), глутатион-S-трансферазы (ГSТ) и перекисного окисления липидов (ПОЛ), в то время как ацетилхолинэстеразу (АХЭ) определяли в жабрах моллюсков согласно методике, описанной ранее (Turja et al., 2020). Показатели активности выбранных маркеров могут иметь различия в зависимости от локализации отбора пробы ткани/органа. Так, у амфипод ранее показаны хорошо выраженные различия в активности пероксидазы, связанные с отделами тела, меньшие различия в активности каталазы и отсутствие различий в активности глутатион-S-трансферазы между разными отделами тела (Timofeyev, 2006). Поскольку в цели работы не входило сравнение показателей между амфиподами и моллюсками, амфиподы были взяты в анализы целиком из-за мелких размеров и малого объема тканей, а у моллюсков двух видов для анализов были отобраны одни и те же ткани. Металлы и другие загрязняющие вещества поглощаются в первую очередь жабрами и мантией, которые находятся в прямом контакте с внешней водой, таким образом жабры моллюсков первыми подвергаются токсической атаке и развитию нейротоксического эффекта, определяемого по снижению активности фермента АХЭ (Кабдрахманова, Утепкалиева, 2018). Например, более высокие уровни токсичных металлов (кадмия) обнаружены в жабрах по сравнению с гепатопанкреасами (пищеварительной железой) моллюсков, что можно объяснить расположением этих тканей и прямым контактом с внешней водой (Huang et al., 2020). Пищеварительная железа моллюсков накапливает вредные вещества в меньшем объеме, чем жабры, но в длительном периоде гистологические изменения происходят у двустворчатых моллюсков именно в гепатопанкреасе, метаболически наиболее активном органе, отвечающем за пищеварительную ферментативную активность, а также биотрансформацию (детоксикацию) различных органических и неорганических токсичных веществ, а повреждение этой железы приводит к развитию оксидативного стресса (Seen, 2021). Традиционно биомаркеры оксидативного стресса моллюсков измерялись в гепатопанкреасе (Viarengo, 1991), а также в жабрах (Kwok et al., 2012; Сухаренко и др., 2017, и др.).
Пищеварительные железы мидий и мий (6– 12 проб) гомогенизировали в калий-фосфат-ном буфере (100 мМ, рН 7.4), а жабры (n = 12) в натрий-фосфатном буфере (200 мМ, рН 7.0), содержащем 0.1% Тритона-Х. Тело одной или двух особей G. оceanicus гомогенизировали в 50 мМ калий-фосфатном буфере, включающем 2 мМ ЭДТА (рН 7.5). При 4°C центрифугировали при 10 000 g в течение 20 мин. Супернатанты анализировали сразу или хранили при –80°C для последующего анализа.
Активность глутатион-S-трансферазы определяли согласно методике, описанной ранее (Habig et al., 1974) путем измерения скорости образования хлородинитробензола ([CNDB]-глутатиона [GSH]) при 340 нм. В реакции использовали конечные концентрации 1 мМ CNDB (Sigma 237329) и 1 мМ GSH (Sigma G6529) в калий-фосфатном буфере (100 мМ, pH 7.0). Активность каталазы измеряли методом Клэйборна (Claiborne, 1985) путем разложения перекиси водорода (H2O2) при 240 нм.
Уровни ПОЛ измеряли по выработке веществ, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБАР) по методу Окавы (Ohkawa et al., 1979). Реакционная смесь содержала 0.24 М трихлоруксусной кислоты (Riedel de Haën 33731), 60 мМ Трис-HCl с 0.1 мМ DTPA и 16 мМ 2-тиобарбитуровой кислоты (Sigma T5500). Количество ТБАР измеряли путем измерения оптической плотности при 535 нм.
Анализ активности АХЭ в жабрах моллюсков и теле амфипод выполняли по методу, описанному ранее (Leiniö, Lehtonen, 2005) с использованием субстратов ацетилтиохолин йодида по методу Эллмана (Ellman et al., 1961) с модификацией Меннило (Mennillo et al., 2017). Значения активности АХЭ выражены в эквивалентах ацетилхолина (нмоль/мин мг протеина), единица соответствует гидролизу 75 нмоль ацетилхолина.
Концентрацию белка измеряли методом Брэдфорда (Bradford, 1976) с использованием стандарта BSA (бычий сывороточный альбумин). Все измерения проводили на микропланшетах с использованием спектрофотометра TECAN Infinite-200 с программой Magellan.
Измерение одной пробы для каждого молекулярного биомаркера проводили в четырех аналитических повторах. Все используемые химикаты и реагенты имели аналитическую степень чистоты и были приобретены у компании Sigma-Aldrich Chemicals (Штайнхайм, Германия), за исключением реагента Брэдфорда, который был приобретен у Bio-Rad Laboratories, Inc.
Все показатели представлены как медиана ± стандартное отклонение. Различия в показателях между станциями анализировали с помощью непараметрического критерия Краскела–Уоллиса, а затем U-критерия Манна–Уитни для парных сравнений. Уровень значимости был установлен на уровне p < 0.05. Проведен анализ главных компонент для выявления основных факторов, влияющих на вариабельность всей совокупности переменных с использованием статистического пакета Statistica 12.0.
Результаты
Соленость воды заметно отличалась между точками отбора проб: самые низкие уровни наблюдались вблизи устья р. Нивы (12‰), а самые высокие – на эталонном участке, на Терском берегу Кандалакшского залива (26‰), где соленость была лишь немного выше, чем в районе биостанции “Картеш” (24‰; табл. 1). Наибольшему влиянию локального загрязнения подвержена литораль на ст. 6, расположенная в районе порта г. Кандалакши у лодочного пирса, тут обнаружено наибольшее содержание нефтепродуктов в воде. Самые высокие концентрации металлов и превышение ПДК по меди, свинцу и кадмию отмечены в районе впадения р. Нивы (табл. 1). Сходное распределение загрязненных участков прослеживается в районе г. Кандалакши, т. е. выявление наибольших концентраций тяжелых металлов в воде в районе смешения морских и речных вод отмечено здесь и ранее (Lysenko et al., 2014). Наименее загрязнена этими веществами вода на двух участках – в районе биостанции “Картеш” (ст. 1) и ненаселенного берега на Терском берегу Кандалакшского залива (ст. 3), их можно рассматривать как эталонные участки.
Таблица 1. Соленость (S,‰) и относительное содержание нефтепродуктов и металлов в воде (доля по отношению к региональным нормативам предельно допустимой концентрации, ПДК) на станциях отбора беспозвоночных
Станция | Место | S | НП | Cu | Zn | Cd | Pb |
1 | Картеш, литораль | 24 | <0.1 | 0.5 | 0.2 | <0.1 | <0.1 |
2 | Картеш, искусственные субстраты | 24 | – | – | – | – | – |
3 | Терский берег | 26 | <0.1 | 0.3 | 0.2 | <0.1 | 0.2 |
4 | Пляж “Лабиринт” | 17 | <0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.7 |
5 | Устье р. Нивы | 12 | 0.28 | 2.05 | 2 | 1.1 | 1.6 |
6 | Район Порта | 14 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.01 |
Примечание. ПДК для нефтепродуктов (НП) – 50.0 мкг/л, меди (Cu) – 1.40 мкг/л, цинка (Zn) – 7.0 мкг/л, кадмия (Cd) – 0.37 мкг/л, свинца (Pb) – 11 мкг/л.
Биомаркеры. Заметные биохимические реакции наблюдались у всех видов вдоль предполагаемого градиента солености воды и условного загрязнения местообитаний. Повышенные величины активности каталазы были выявлены для амфипод на ст. 5 и 6 (рис. 2), они не различались между собой, но были существенно выше, чем на фоновом участке (табл. 2).
Рис. 2. Активность каталазы (КАТ, мкмоль/мин протеин) у трех изученных видов (M. edulis, M. аrenaria и G. оceanicus) на биостанции “Картеш” (1 и 2) в сентябре 2015 г. и в Кандалакшском заливе в начале августа 2016 г. (3–6). Статистическая различия между участками показаны в табл. 2 при р < 0.05.
Таблица 2. Результаты теста показателей (КАТ, ГST, ПОЛ и АХЭ) изученных видов (G.o. – Gammarus oceanicus, M.e. – Mytilus edulis, M.a. – Mya arenaria) по тесту Краскела–Уоллиса (K-W тест) с последующим попарным сравнением по U-критерию Манна–Уитни (U-тест) между беспозвоночными на станциях 1–6
Показатель, K-W тест | Станции | Станции | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
КАТ G.o. H = 17.61, p = 0.001 | 1 | – | 0.003 | 0.007 | 0.125 | 0.011 |
2 | – | – | – | – | – | |
3 | – | 0.609 | 0.011 | 0.030 | ||
4 | – | 0.055 | 0.798 | |||
5 | – | 0.201 | ||||
ГST G.o. H = 19.34, p < 0.001 | 1 | – | 0.419 | 0.341 | 0.000 | 0.019 |
2 | – | – | – | – | ||
3 | – | 0.857 | 0.003 | 0.194 | ||
4 | – | 0.002 | 0.1729 | |||
5 | – | 0.054 | ||||
ПОЛ G.o. H = 10.56, p = 0.032 | 1 | – | 0.689 | 0.093 | 0.174 | 0.013 |
2 | – | – | – | – | – | |
3 | – | 0.093 | 0.262 | 0.031 | ||
4 | – | 0.936 | 0.128 | |||
5 | – | 0.230 | ||||
АХЭ G.o. H = 9.77, р = 0.044 | 1 | – | 0.406 | 0.798 | 0.125 | 0.125 |
2 | – | – | – | – | – | |
3 | – | 0.250 | 0.898 | 0.041 | ||
4 | – | 0.201 | 0.523 | |||
5 | – | 0.002 | ||||
КАТ M.e. H = 38.30, p < 0.001 | 1 | 0.010 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 |
2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
3 | 0.038 | 0.030 | 0.026 | |||
4 | 0.916 | 0.104 | ||||
5 | 0.275 | |||||
ГST M.e. H = 29.86, p ≤ 0.001 | 1 | 0.494 | 0.066 | 0.318 | 0.003 | 0.001 |
2 | 0.024 | 0.269 | 0.001 | 0.001 | ||
3 | 0.958 | 0.010 | 0.001 | |||
4 | 0.066 | 0.001 | ||||
5 | 0.031 | |||||
ПОЛ M.e. H = 34.65, p ≤ 0.001 | 1 | 0.654 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.002 |
2 | 0.002 | 0.011 | 0.002 | 0.002 | ||
3 | 0.898 | 0.002 | 0.007 | |||
4 | 0.002 | 0.011 | ||||
5 | 0.125 | |||||
АХЭ M.e. H = 1.53, p = 0.910 | 1 | 1.00 | 0.52 | 0.52 | 1.00 | 1.00 |
2 | 0.70 | 0.31 | 0.90 | 0.80 | ||
3 | 0.61 | 1.00 | 0.52 | |||
4 | 0.61 | 0.37 | ||||
5 | 0.80 | |||||
КАТ M.a. H = 31.51, p ≤ 0.001 | 1 | – | 0.875 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
2 | – | – | – | – | – | |
3 | – | 0.001 | 0.002 | 0.001 | ||
4 | – | 0.004 | 0.958 | |||
5 | – | 0.005 | ||||
ГST M.a. H = 24.98, p ≤ 0.001 | 1 | – | 0.689 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
2 | – | – | – | – | – | |
3 | – | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
4 | – | 0.575 | 0.008 | |||
5 | – | 0.005 | ||||
ПОЛ M.a. H = 23.08, p ≤ 0.001 | 1 | – | 0.097 | 0.055 | 0.005 | 0.002 |
2 | – | – | – | – | – | |
3 | – | 1.000 | 0.160 | 0.002 | ||
4 | – | 0.055 | 0.002 | |||
5 | – | – | 0.003 | |||
АХЭ M.a. H = 9.01, p = 0.060 | 1 | – | 0.371 | 0.083 | 0.563 | 0.128 |
2 | – | – | – | – | – | |
3 | – | 0.051 | 0.958 | 0.035 | ||
4 | – | 0.104 | 0.674 | |||
5 | – | 0.066 | ||||
Примечание. Таблица показывает попарные сравнения между станциями, поэтому пары 1–1, 2–2, 3–3, 4–4, 5–5, 6–6 не показаны. Значимые различия выделены жирным шрифтом. Показатели р для U-теста находятся на пересечении строк и столбцов. Знак “–” означает отсутствие данных.
Величины активности каталазы у мидий на участках с распресненной водой (4, 5 и 6) были в 1.5–2 раза выше (р < 0.05; табл. 2), чем на ст. 3 (рис. 2). Кроме того, эти величины отличались от мидий с литорали у биостанции “Картеш”, где они были значимо ниже, чем в районе г. Кандалакши и на фоновом участке (ст. 3). Отличия активности каталазы у мий, отобранных на ст. 1 и 3, были незначимыми (табл. 2), но величины ее активности у мий в районе эстуарного участка (ст. 4, 5 и 6) были значимо выше, чем на остальных участках. По этому показателю также различны мидии, взятые из аквакультуры и в литорали на одном и том же участке в районе “Картеша”.
Различия в активности ГSТ были выявлены для всех видов между участками в районе впадения р. Нивы и условно фоновым участком 3 (рис. 3). Для мидий и мий значимыми были и различия между фоновым участком и участком 6. По сравнению с фоновым участком наблюдалось повышение уровней активности глутатион-S-трансферазы амфипод на 26%, а мидий и мий – на 26–61 и 68–145% соответственно. Различия между беспозвоночными всех видов, собранных на “Картеше” (ст. 1) и фоновом участке (ст. 3), были статистически недостоверными (все p > 0.05; табл. 2). Также не отличались по этому показателю мидии с литоральных и сублиторальных зон (Картеш).
Рис. 3. Активность глутатион-S-трансферазы (ГSТ, нмоль/мин протеин) у трех изученных видов (M. edulis, M. arenaria и G. oceanicus) на биостанции “Картеш” (1 и 2) в сентябре 2015 г. и в Кандалакшском заливе в начале августа 2016 г. (3–6). Статистическая различия между участками показаны в табл. 2 при р < 0.05.
Наиболее отчетливые различия в уровне ПОЛ между участками выявлены для мидий (рис. 4), отмечены значимо более высокие уровни между фоновым участком и станциями 5 и 6. Такие же различия отмечены для “картешанских” мидий и особей со всех остальных участков (все p < 0.005; табл. 2). Для амфипод эти различия были значимыми только между ст. 1 и 6 и ст. 3 и 6, на последней отмечалось статистически значимое повышение в величинах этого показателя (р = 0.01 и 0.03; табл. 2). Сходные тенденции в динамике величин ПОЛ выявлены и в случае мий (р = 0.002).
Рис. 4. Показатели активности перекисного окисления липидов (ПОЛ, нмоль ТБАР/г сырой массы) у трех изученных видов (M. edulis, M. arenaria и G. oceanicus) на биостанции “Картеш” (1 и 2) в сентябре 2015 г. и в Кандалакшском заливе в начале августа 2016 г. (3–6). Статистические различия между участками показаны в табл. 2 при р < 0.05.
Для мидий реакции со стороны АХЭ не было обнаружено (р > 0.05; табл. 2), в то время как для амфипод со ст. 6 выявлено значимое понижение активности этого фермента по сравнению с фоновым участком (ст. 3, р = 0.041) и устьевым участком (ст. 5, р = 0.002). В целом активность этого фермента была намного ниже в жабрах моллюсков, чем в теле амфипод (рис. 5). Тем не менее у мий, так же как и у амфипод, выявлено снижение активности АХЭ на ст. 6 по сравнению со ст. 3 (р = 0.035).
Рис. 5. Активность АХЭ (нмоль/мин мг протеина) у трех изученных видов (M. edulis, M. arenaria и G. oceanicus) на биостанции “Картеш” (1 и 2) в сентябре 2015 г. и в Кандалакшском заливе в начале августа 2016 г. (3–6). Статистическая различия между участками показаны в табл. 2 при р < 0.05.
Анализ главных компонент выявил две группы факторов (PC1 и PC2; табл. 3), объясняющих 81.08% вариабельности переменных. Основным фактором влияния была река, снижающая соленость воды и привносящая в море загрязняющие элементы, повышая уровни металлов (меди, цинка и свинца) в воде. Вторым важным фактором (PC2) воздействия было локальное загрязнение местообитаний нефтепродуктами (моторными лодками), причем именно с этим вторым фактором было связанно изменение большего числа биохимических показателей моллюсков и амфипод, свидетельствующих о состоянии стресса организмов. ГSТ амфипод, ПОЛ и АХЭ мидий были тесно связаны с содержанием металлов (кадмий и свинец) и соленостью воды и объединялись в один кластер (PC1), тогда как ПОЛ и АХЭ амфипод, ГSТ мидий, а также КАТ, ГSТ и ПОЛ мий тесно коррелировали с содержанием в воде нефтепродуктов (табл. 3, рис. 6). Связь с соленостью была отрицательной, что подтверждается наибольшим содержанием металлов в районе впадения реки при самой низкой солености воды. В целом подтверждается более высокая чувствительность амфипод (ПОЛ, АХЭ) и мий (КАТ, ГSТ, ПОЛ) к загрязнению нефтепродуктами (ст. 6), а мидий (ПОЛ и АХЭ) – к распресненной воде и повышенным концентрациям металлов в воде (ст. 5). Повышенные уровни ГSТ также свидетельствуют о развитии стрессовой реакции под действием тяжелых металлов у амфипод в условиях загрязнения и у мидий при загрязнении нефтепродуктами.
Рис. 6. Анализ главных компонент и связанность переменных по двум основным факторам. 1 – КАТ G.o., 2 – КАТ M.e., 3 – КАТ M.a., 4 – ГST G.o., 5 – ГST M.e., 6 – ГST M.a., 7 – ПОЛ G.o., 8 – ПОЛ M.e., 9 – ПОЛ M.a., 10 – АХЭ G.o., 11 – АХЭ M.e., 12 – АХЭ M.a., 13 – соленость воды, 14 – нефтепродукты, 15 – Cu, 16 – Zn, 17 – Cd, 18 – Pb. Обозначения для видов: G.o. – Gammarus oceanicus, M.e. – Mytilus edulis, M.a. – Mya arenaria. Переменные: Active – активные, Suppl. – дополнительные.
Таблица 3. Факторные нагрузки (PC1 и PC2) переменных изученных видов (G.o. – Gammarus oceanicus, M.e. – Mytilus edulis, M.a. – Mya arenaria), основанные на корреляциях между ними
Переменные | КАТ G.o. | КАТ M.e. | КАТ M.a. | ГST G.o. | ГST M.e. | ГST M.a. | ПОЛ G.o. | ПОЛ M.e. | ПОЛ M.a. |
PC1 | 0.22 | 0.52 | 0.09 | 0.96 | 0.32 | 0.21 | 0.24 | 0.87 | 0.06 |
PC2 | −0.27 | 0.58 | 0.89 | 0.18 | 0.86 | 0.97 | 0.96 | 0.42 | 0.89 |
Переменные | АХЭ G.o. | АХЭ M.e. | АХЭ M.a. | S | НП | Cu | Zn | Cd | Pb |
PC1 | 0.39 | 0.80 | 0.68 | –0.70 | 0.10 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.88 |
PC2 | –0.89 | 0.02 | –0.70 | −0.68 | 0.85 | −0.08 | −0.03 | 0.05 | 0.47 |
Примечание. Нагрузки переменных, отмеченные жирным шрифтом, являются значимыми (> 0.70).
Обсуждение
Использование биохимических показателей в настоящее время востребовано в программах экологического мониторинга в качестве сигналов раннего предупреждения об экологическом стрессе (Cajaraville et al., 2000; Nunes et al., 2015). Эти инструменты могут дать представление о физиологическом состоянии организмов, выявить пространственные тенденции, что позволяет проводить многомасштабную оценку качества экосистемы. Биохимические маркеры, не просто сигнализирующие о присутствии ксенобиотиков с биологической активностью, могут дать конкретное представление о процессах и механизмах, которые нарушаются или модифицируются под воздействием факторов среды. Ответная реакция организма реализуется за счет изменения основных метаболических путей: обмена запасных и мембранных липидов, белкового метаболизма, а также энергопродукции – синтеза важнейшей энергетической валюты клетки АТФ, интенсивность которого определяется активностью ферментов энергетического метаболизма (Хочачка, Сомеро, 1988; Немова и др., 2014). Биохимические показатели (активность ферментов, концентрация биологически активных соединений), определенные в данном исследовании, позволили судить о состоянии организма амфипод и моллюсков. Заметные изменения всех измеренных биомаркеров наблюдались у всех исследованных видов вдоль градиента загрязнения и солености воды.
Было выявлено увеличение активности КАТ, ГSТ и уровня ПОЛ у этих беспозвоночных на одних и тех же участках, свидетельствующее о развитии состояния оксидативного стресса и компенсаторного ответа организма на действие неблагоприятных факторов. Вместе с тем реакция метаболических процессов у модельных объектов различается в зависимости от таксономической принадлежности организма и биохимической реакции. Активность КАТ в жабрах у M. edulis и M. arenaria, указывающая на повышенный уровень продукции активных форм кислорода (АФК) и окислительного стресса, демонстрирует самые высокие уровни на участках влияния р. Нивы (соленость 12–17‰). На активность каталазы G. oceanicus (повышенные уровни) влияла пониженная соленость (12‰) в устье р. Нивы. Эти величины значимо выше величин KAT для всех видов, отобранных в отдалении от реки, при обычной солености моря (24–26‰). В многочисленных исследованиях показано, что пониженная соленость эстуарных вод является важным фактором, влияющим на физиологические процессы двустворчатых моллюсков, такие как обмен белков и липидов (Fokina et al., 2014). Так, кратковременное воздействие низкой солености воды (6–14‰) вызывало окислительный стресс в гемоцитах и жабрах другой мидии Mytilus galloprovincialis (Gostyukhina et al., 2023). У двустворчатых моллюсков реакции на анизоосмотические состояния часто связаны с избыточным образованием АФК, процессами перекисного окисления липидов и изменением активности антиоксидантных ферментов в тканях.
Концентрации микроэлементов в водной толще и донных отложениях Белого моря обычно находятся в пределах концентраций, отнесенных к незагрязненным морским акваториям. Однако в районе устья р. Нивы были определены повышенные концентрации растворенных металлов (Сu, Zn и Pb). ПОЛ мидий и ГSТ амфипод показывали наибольшую стресс-реакцию при повышенных содержаниях тяжелых металлов и самой низкой солености воды. Другие исследования беспозвоночных в лабораторных и полевых условиях также показали, что воздействие различных металлов увеличивает внутриклеточную выработку АФК и может привести к окислительному стрессу (Freitas et al., 2012; Lysenko et al., 2014; Klimova et al., 2019). Ким и Ли (Kim, Lee, 2018) выяснили, что токсичность металлов для водных животных может быть связана с блокированием ими окислительного фосфорилирования, истощением запасов глутатиона и ингибированием антиоксидантной ферментативной активности. У мидии была выявлена положительная корреляция величин АХЭ с переменными главной компоненты 2 (влияние реки), что может быть следствием воздействия повышенных концентраций металлов (Cu, Pb), которые могут влиять на активность АХЭ (Frasco et al., 2005; Amer et al., 2022).
Ингибирование АХЭ, наблюдаемое у G. oceanicus и M. аrenaria при действии нефтепродуктов, у M. edulis не наблюдалось. Повышенные величины ПОЛ G. oceanicus и M. arenaria на участке с видимыми следами нефтепродуктов в воде и грунте свидетельствовали об усилении метаболизма ксенобиотиков и окислительном повреждении макромолекул. Кроме того, снижение уровня активности АХЭ у обоих видов показывает нейротоксические эффекты при таких условиях. Активности КАТ и ГSТ мии были гораздо выше на этом участке по сравнению с другими станциями. Накопление продуктов распада нефти происходит в осадках, к которым приурочены эти виды (Camus et al., 2003), что и повышает их чувствительность к этому загрязнению, в сравнении с мидиями.
Видоспецифичная разница в реакции на неблагоприятные факторы связана с рядом причин, включая различия в микросредах обитания, способе питания, уровне подвижности, а также чувствительности видов к различным типам загрязняющих веществ. Прикрепленные фильтраторы M. edulis подвергаются воздействию загрязняющих веществ, передающихся через воду в растворенной форме и частицы пищи, через жабры. Донные детритофаги M. аrenaria вытягивают сифон на поверхность осадка и питаются частицами с придонного пограничного слоя, где могут накапливаться жирорастворимые загрязнители, такие как микроэлементы комплексов металлов и органические вещества (в том числе углеводороды). В отличие от двустворчатых моллюсков, всеядные амфиподы G. оceanicus активно передвигаются в грунте и воде, поедая частицы детрита с поверхности, а также мелкие живые организмы.
В заключение отметим, что исследования молекулярных биомаркеров позволяют выяснить механизмы развития адаптивных биохимических реакций у водных животных в ответ на воздействие неблагоприятных изменений водной среды. Применение таких показателей может быть весьма перспективно для оценки эффектов загрязнения морской среды металлами и нефтепродуктами, но важно учитывать индикационный потенциал каждого вида, используемого в качестве тестового объекта, поскольку то, что отражают те или иные реакции организма, зависит от образа его жизни и индивидуальных физиологических особенностей.
Благодарности
Автор выражает благодарность К. К. Лехтонену (Институт окружающей среды Финляндии) за участие в сборе и препарировании животных, ценные советы в ходе работы, P. Турье и А. Ахво (Институт окружающей среды Финляндии) за консультации по проведению анализа биомаркеров, А. Н. Шарову (Институт биологии внутренних вод РАН) за помощь в отборе и транспортировке образцов и В. В. Халаману (Беломорская биостанция “Картеш”, Зоологический институт РАН) за предоставление мидий с искусственных субстратов.
Финансирование
Работа поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (госзадание № 122031100274-7) и Академией Финляндии по программе научного обмена (гранты AF287817, AF298015, 2014–2016 гг.).
Конфликт интересов
Aвтор декларирует отсутствие конфликта интересов.
Биоэтика
При работе с животными соблюдались этические нормы и стандарты. Разрешение № 1-5/19-02-2024 предоставлено Комиссией по биоэтике ЗИН РАН.
About the authors
N. A. Berezina
Zoological Institute, RAS
Author for correspondence.
Email: nadezhda.berezina@zin.ru
Russian Federation, Universitetskaya Embankment, 1, St. Petersburg, 199034
References
- Бергер В.Я., 1986. Адаптации морских моллюсков к изменениям солености среды. Л.: Наука. 218 с.
- Кабдрахманова Г.Б., Утепкалиева А.П., 2018. О роли экотоксикантов в развитии нейротоксикозов // West Kazakhstan Med. J. № 57 (1). С. 29–36.
- Ковыршина Т., Руднева И., 2014. Холинэстеразы рыб как биомаркеры загрязнения морской среды пестицидами // Междунар. сельскохоз. журн. № 3. С. 38–42.
- Немова Н.Н., Высоцкая Р.У., 2004. Биохимическая индикация состояния рыб. М.: Наука. 316 с.
- Немова Н.Н., Мещерякова О.В., Лысенко Л.А., Фокина Н.Н., 2014. Оценка состояния водных организмов по биохимическому статусу // Тр. КарНЦ РАН. № 5. С. 18–29.
- Сухаренко Е.В., Недзвецкий В.С., Кириченко С.В., 2017. Биомаркеры нарушений метаболизма двустворчатых моллюсков в условиях загрязнения среды обитания продуктами переработки нефти // Biosyst. Divers. V. 25. № 2. P. 113–118. https://doi.org/10.15421/011717
- Филатов Н., Тержевик А., Дружинин П., 2011. Беломорье – регион решения арктических задач // Aрктика: экология и экономика. № 2. С. 90–101.
- Фокина Н.Н., Нефедова З.А., Немова Н.Н., 2011. Биохимические адаптации морских двустворчатых моллюсков к аноксии (обзор) // Тр. КарНЦ РАН. № 3. С. 121–130.
- Хочачка П., Сомеро Дж., 1988. Стратегия биохимической адаптации. М.: Мир. 586 с.
- Чуйко Г.М., 2017. Биомаркеры в системе оценки токсического воздействия на гидробионтов и в экологическом мониторинге водных экосистем // Вода Magazine. № 7 (119). С. 26–29.
- Amer N.R., Lawler S.P., Zohdy N.M., Younes A., ElSayed W.M., et al., 2022. Copper exposure affects anti-predatory behaviour and acetylcholinesterase levels in Culex pipiens (Diptera, Culicidae) // Insects. V. 13. № 12. Art. 1151. https://doi.org/10.3390/insects13121151
- Berezina N.A., 2023. Energy metabolism of crustaceans (Amphipoda) from the northern populations (White Sea Basin) // Russ. J. Ecol. V. 54. P. 62–69. https://doi.org/10.1134/S1067413623010022
- Berezina N.A., Lehtonen K.K., Ahvo A., 2019. Coupled application of antioxidant defense response and embryo development in amphipod crustaceans in the assessment of sediment toxicity // Environ. Toxicol. Chem. V. 38. № 9. P. 2020–2031. http//doi.org/10.1002/etc.4516
- Beyer J., Green N.W., Brooks S., Allan I.J., Ruus A., et al., 2017. Blue mussels (Mytilus edulis spp.) as sentinel organisms in coastal pollution monitoring: A review // Mar. Environ. Res. V. 130. P. 338–365. http//doi.org/10.1016/j.marenvres.2017.07.024
- Binelli A., Ricciardi F., Riva C., Provini A., 2006. New evidences for old biomarkers: Effects of several xenobiotics on EROD and AChE activities in zebra mussel (Dreissena polymopha) // Chemosphere. V. 62. P. 510–519. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2005.06.033
- Bradford M.M., 1976. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding // Ann. Biochem. V. 72. P. 248–254. http//doi.org/10.1006/abio.1976.9999
- Cajaraville M.P., Bebianno M.J., Blasco J., Porte C., Sarasquete C., Viarengo A., 2000. The use of biomarkers to assess the impact of pollution in coastal environments of the Iberian Peninsula: A practical approach // Sci. Total Environ. V. 247. P. 295–311. https://doi.org/10.1016/s0048-9697(99)00499-4
- Camus L., Birkely S.R., Jones M.B., Børseth J.F., Grøsvik B.E., et al., 2003. Biomarker responses and PAH uptake in Mya truncate following exposure to oil-contaminated sediment in an Arctic fjord (Svalbard) // Sci. Total Environ. V. 308. P. 221–234. https://doi.org/10.1016/S0048-9697(02)00616-2
- Chevin L.-M., Lande R., Mace G.M., 2010. Adaptation, plasticity, and extinction in a changing environment: Towards a predictive theory // PLoS Biol. V. 8. № 4. Art. e1000357. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1000357
- Claiborne A., 1985. Catalase activity // CRC Handbook of Methods for Oxygen Radical Research / Ed. Greenwald R.A. Boca Raton: CRC Press. P. 283–284.
- Cobelo-García A., Millward G.E., Prego R., Lukashin V., 2006. Metal concentrations in Kandalaksha Bay, White Sea (Russia) following the spring snowmelt // Environ. Pollut. V. 143. P. 89–99. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2005.11.006
- Dietz R., Letcher R.J., Desforges J.-P. et al., 2019. Current state of knowledge on biological effects from contaminants on arctic wildlife and fish // Sci. Total Environ. V. 696. Art. 133792. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.133792
- Ellman G.L., Courtney K.D., Andres V., Featherstone R.M., 1961. A new and rapid colorimetric determination of acetylcholinesterase activity // Biochem. Pharmacol. V. 7. P. 88–95. https://doi.org/10.1016/10.1016/0006-2952(61)90145-9
- Fokina N.N., Bakhmet I.N., Shklyarevich G.A., Nemova N.N., 2014. Effect of seawater desalination and oil pollution on the lipid composition of blue mussels Mytilus edulis L. from the White Sea // Ecotoxicol. Environ. Saf. V. 110. P. 103–109. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2014.08.010
- Frasco M.F., Fournier D., Carvalho F., Guilhermino L., 2005. Do metals inhibit acetylcholinesterase (AchE)? Implementation of assay conditions for the use of AchE activity as a biomarker of metal toxicity // Biomarkers. V. 10. P. 360–375. https://doi.org/10.1080/13547500500264660
- Freitas R., Costa E., Velez C., Santos J., Lima A., et al., 2012. Looking for suitable biomarkers in benthic macroinvertebrates inhabiting coastal areas with low metal contamination: Comparison between the bivalve Cerastoderma edule and the polychaete Diopatra neapolitana // Ecotoxicol. Environ. Saf. V. 75. № 1. P. 109–118. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2011.08.019
- Golovanova I.L., Golovanov V.K., Chuiko G.M., Podgornaya V.A., Aminov A.I., 2019. Effects of roundup herbicide at low concentration and of thermal stress on physiological and biochemical parameters in Amur Sleeper Perccottus glenii Dybowski juveniles // Inland Water Biol. V. 12. № 4. P. 462–469. https://doi.org/10.1134/S1995082919040059
- Gostyukhina O.L., Kladchenko E.S., Chelebieva E.S., Tkachuk A.A., Lavrichenko D.S., Andreyeva A.Y., 2023. Short-time salinity fluctuations are strong activators of oxidative stress in Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis) // Ecol. Montenegrina. V. 63. P. 46–58. https://doi.org/10.37828/em.2023.63.5
- Gray J.S., Elliott M., 2009. Ecology of Marine Sediments: From Science to Management. 2nd ed. Oxford: Oxford Univ. Press. 225 р.
- Habig W.H., Pabst M.J., Jakoby W.B., 1974. Glutathione S-transferases. The first step in mercapturic acid formation // J. Biol. Chem. V. 249. P. 7130–7139.
- Havelková M., Randak T., Blahová J., Slatinská I., Svobodová Z., 2008. Biochemical markers for the assessment of aquatic environment contamination // Interdiscip. Toxicol. V. 1. P. 169–181. https://doi.org/10.2478/v10102-010-0034-y
- Huang Y., Tang H., Jin J., Fan M., Chang A.K., Ying X., 2020. Effects of waterborne cadmium exposure on its internal distribution in Meretrix meretrix and detoxification by metallothionein and antioxidant enzymes // Front. Mar. Sci. V. 7. Art. 502. https://doi.org/10.3389/fmars.2020.00502
- Kim Y.H., Lee S.H., 2018. Invertebrate acetylcholinesterases: Insights into their evolution and non-classical functions // J. Asia Pac. Entomol. V. 21. P. 186–195. https://doi.org/10.1016/j.aspen.2017.11.017
- Klimova Y.S., Chuiko G.M., Gapeeva M.V., Pesnya D.S., Ivanova E.I., 2019. The use of oxidative stress parameters of bivalve mollusks Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) as biomarkers for ecotoxicological assessment of environment // Inland Water Biol. V. 12. № S2. P. 88–95. https://doi.org/10.1134/S1995082919060063
- Kwok C.-T., Van de Merwe J., Chiu J., Wu R., 2012. Antioxidant responses and lipid peroxidation in gills and hepatopancreas of the mussel Perna viridis upon exposure to the red-tide organism Chattonella marina and hydrogen peroxide // Harmful Algae. V. 13. P. 40–46. https://doi.org/10.1016/j.hal.2011.10.001
- Lehtonen K.K., Leiniö S., Schneider R., Leivuori M., 2006. Biomarkers of pollution effects in the bivalves Mytilus edulis and Macoma balthica collected from the southern coast of Finland (Baltic Sea) // Mar. Ecol. Prog. Ser. V. 322. P. 155–168. https://doi.org/10.3354/meps322155
- Leiniö S., Lehtonen K.K., 2005. Seasonal variability in biomarkers in the bivalves Mytilus edulis and Macoma balthica from the northern Baltic Sea // Comp. Biochem. Physiol. C. Toxicol. Pharmacol. V. 140. P. 408–421. https://doi.org/10.1016/j.cca.2005.04.005
- Lushchak V.I., 2011. Environmentally induced oxidative stress in aquatic animals // Aquat. Toxicol. V. 101. P. 13–30. https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2010.10.006
- Lysenko L., Kantserova N., Käiväräinen E., Krupnova M., Shklyarevich G., Nemova N., 2014. Biochemical markers of pollutant responses in macrozoobenthos from the White Sea: Intracellular proteolysis // Mar. Environ. Res. V. 96. P. 38–44. https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2014.01.005
- Mennillo E., Casu V., Tardelli F., De Marchi L., Freitas R., Pretti C., 2017. Suitability of cholinesterase of polychaete Diopatra neapolitana as biomarker of exposure to pesticides: In vitro characterization // Comp. Biochem. Physiol. C. Toxicol. Pharmacol. V. 191. P. 152–159. https://doi.org/10.1016/j.cbpc.2016.10.007
- Nunes B., 2011. The use of cholinesterases in ecotoxicology // Rev. Environ. Contam. Toxicol. V. 212. P. 29–59. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-8453-1_2
- Nunes B.S., Travasso R., Gonçalves F., Castro B.B., 2015. Biochemical and physiological modifications in tissues of Sardina pilchardus: Spatial and temporal patterns as a baseline for biomonitoring studies // Front. Environ. Sci. V. 3. Art. 7. https://doi.org/10.3389/fenvs.2015.00007
- Ohkawa H., Ohishi N., Yagi K., 1979. Assay for lipid peroxides in animal tissues by thiobarbituric acid reaction // Ann. Biochem. V. 95. P. 351–358. https://doi.org/10.1016/0003-2697(79)90738-3
- Regoli F., 1998. Trace metals and antioxidant enzymes in gills and digestive gland of the Mediterranean mussel Mytilus galloprovincialis // Arch. Environ. Contam. Toxicol. V. 34. P. 48–63. https://doi.org/10.1007/s002449900285
- Seen S., 2021. Chronic liver disease and oxidative stress – a narrative review // Expert Rev. Gastroenterol. Hepatol. V. 15. P. 1021–1035. https://doi.org/10.1080/17474124.2021.1949289
- Timbrell J.A., 1998. Biomarkers in toxicology // Toxicology. V. 129. P. 1–12. https://doi.org/10.1016/S0300-483X(98)00058-4
- Timofeyev M.A., 2006. Antioxidant enzyme activity in endemic Baikalean versus Palaearctic amphipods: tagma- and size-related changes // Comp. Biochem. Physiol. B. Biochem. Mol. Biol. V. 143. № 3. P. 302–308. https://doi.org/10.1016/j.cbpb.2005.12.001
- Turja R., Sanni S., Stankevičiūtė M., Butrimavičienė L., Devier M-H., et al., 2020. Biomarker responses and accumulation of polycyclic aromatic hydrocarbons in Mytilus trossulus and Gammarus oceanicus during exposure to crude oil // Environ. Sci. Pollut. Res. V. 27. P. 15498–15514. https://doi.org/10.1007/s11356-020-07946-7
- Viarengo А., 1991. Seasonal variations in the antioxidant defence systems and lipid peroxidation of the digestive gland of mussels // Comp. Biochem. Physiol. C. Comp. Pharmacol. V. 100. № 1–2. P. 187–190. https://doi.org/10.1016/0742-8413(91)90151-i
- Won E.J., Rhee J.S., Kim R.O., Ra K., Kim K.T., et al., 2012. Susceptibility to oxidative stress and modulated expression of antioxidant genes in the copper-exposed polychaete Perinereis nuntia // Comp. Biochem. Physiol. C. Toxicol. Pharmacol. V. 155. № 2. P. 344–351. https://doi.org/10.1016/j.cbpc.2011.10.002
Supplementary files