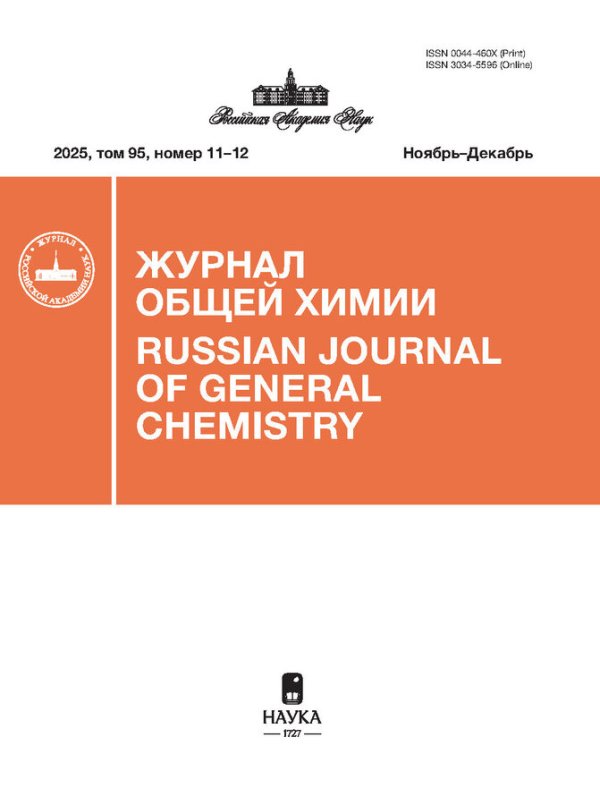Competing mechanisms for the formation of chemical nuclear polarization effects during photolysis of 1-(4-methylphenyl)-3-phenylpropane-2-thione in different solvents
- Authors: Porkhun V.I.1, Zavyalov D.V.1, Savelyev Е.N.1, Bogdanova Y.V.1, Kuznetsova N.A.1
-
Affiliations:
- Volgograd State Technical University
- Issue: Vol 94, No 10 (2024)
- Pages: 1032-1042
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0044-460X/article/view/281025
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044460X24100031
- EDN: https://elibrary.ru/RFKUZS
- ID: 281025
Cite item
Full Text
Abstract
According to the Kloss–Kaptein–Oosterhoff model of radical pairs, the formation of chemical nuclear polarization occurs at the stage of recombination of radicals during singlet-triplet transitions S–T0 in radical pairs or according to the triplet mechanism during electron-nuclear cross-relaxation transitions. In this work, the competition between the formation of the nuclear polarization mechanism during the photolysis of CH3C6H4CH2CSCH2Ph thione in various solvents was experimentally proven.
Full Text
Введение
Серосодержащие органические соединения присутствуют в терпенах, стероидных гормонах, антибиотиках, в важнейших аминокислотах, участвуют в метаболизме веществ в организмах, применяются в фармакологии. Фотолиз тионов исследуется с целью создания эффективных фотоинициаторов цепных реакций, имеющих прикладное значение.
Механизмы радикальных реакций меркаптанов и тиокетонов хорошо изучены и описаны в работах [1–3]. Электронной и колебательной спектроскопии органических соединений серы посвящено много работ [4–8]. В работах [9–13] изучена фотохимия возбужденных электронных состояний тиосоединений. В классическом обзоре [14] приведены фотофизические свойства тиокарбонильных соединений и примеры реакций фотозамещения, циклоприсоединений, фотоприсоединений, циклизации.
Целью данной работы является исследование фотохимических реакций тиона СН3С6Н4СН2СSСН2Ph 1 методом спектроскопии ЯМР с помощью эффекта химической поляризации ядер [15–32]. Эффекты химической поляризации ядер являются уникальным явлением. Их исследования позволяют установить радикальные стадии реакций, поскольку об этом свидетельствует сам факт обнаружения химической поляризации ядер. С помощью эффектов возможно установить кинетические параметры реакций: константы скорости, энергии активации, коэффициенты поляризации. По знакам поляризации определены спиновые мультиплетности радикальных пар. Возможно разделить первичные и вторичные радикальные пары и оценить выходы продуктов из этих пар. Определяются величины и знаки констант сверхтонкого взаимодействия, g-факторы короткоживущих радикалов, энергии обменного взаимодействия в паре, величины и знаки констант спин-спинового взаимодействия. Большие коэффициенты поляризации позволяют определять микроскопические наработки соединений.
Изучения фотореакций тиокарбонильных соединений с помощью эффектов поляризации ядер до последнего времени не проводились. Используя сигналы химической поляризации ядер на ядрах 13С и 1Н, авторами установлено, что при распаде возбужденных тиокетонов поляризация возникает в триплетно возбужденном состоянии. Экспериментально доказаны элементарные акты фотореакции метиладамантилтиона. Фотолиз тиона протекает по типу Норриш-I с преобладанием рекомбинации в радикальных парах и с регенерацией исходного тиокетона. Установлен механизм фотореакции метилбензилтиона [33, 34].
Используя эффект химической поляризации ядер, авторам удалось детально установить элементарные акты фотореакции в меркаптанах, причем механизм реакции отличался от общепринятого [35, 36]. Считается, что при фотолизе бензохинонов в спиртах первичным актом восстановления хинона является отрыв от спирта α-атома водорода и его перенос к хинону. И в настоящее время преобладает мнение об участии α-тиоэтанольного радикала СН3С•НSН в процессе фотовосстановления хинонов меркаптаном. Наши экспериментальные данные на основании исследования сигналов химической поляризации ядер опровергли это мнение, поскольку фотореакции с участием α-тиоэтанольного радикала объяснить невозможно. Для объяснения знаков и масштабов поляризации на продуктах и исходных соединениях необходимо допустить участие тиоалкильных радикалов СН3СН2S•.
Поскольку отрыв атома водорода от SН-группы спирта менее энергетически выгоден, чем от СН2, то первым актом служит перенос электрона от спирта к хинону с образованием катион- и анион-радикалов соответственно, а затем перенос протона, т. е. имеет место двухстадийный процесс фотовосстановления хинонов.
В настоящей работе установлено, что в случае фотолиза тиона 1 в полярном растворителе СD3СN химическая поляризация ядер формируется по традиционному механизму при S–Т0 переходах в радикальных парах. В неполярном растворителе С6F6 преобладает совершенно иной физический механизм формирования химической поляризации ядер – триплетный механизм. Как спин-селективный нанореактор (по определению академика А. Л. Бучаченко), радикальная пара не уникальна. В частности, установлено, что при фотореакции триплетных молекул ядерная поляризация может создаваться не только по механизму радикальных парах, но и по так называемому триплетному механизму, который довольно редко проявляет себя в экспериментах.
Результаты и обсуждение
Фотореакция тиона в полярном растворителе СD3СN. В случае фотореакции тиона СН3С6Н4СН2СSСН2Ph 1 в полярном растворителе СD3СN наблюдали сигнал эмиссии протонов СН2-групп, усиленную абсорбцию СН3-групп исходного тиона и обратные знаки химической поляризации ядер этих групп в спектрах С13 (рис. 1).
Рис. 1. Спектры ЯМР 1Н исходного тиона в d-ацетонитриле: (а) темновой спектр; (б) при фотолизе, одна вспышка лампы. 1 – сигнал СН3 (2.34 м. д.); 2 – сигнал СН2 толилметильной группы (4.18 м. д.); 3 – сигнал СН2 бензильной группы тиона (4.28 м. д.); 4 – сигнал ароматических протонов бензильной группы (7.29 м. д.); 5 – сигнал ароматических протонов толилметиленовой группы (7.15 м. д.); * – сигнал растворителя.
Анализ спектров химической поляризации ядер позволил предположить образование двух радикальных пар в триплетном состоянии: СH3С6Н4CH2•CS···•CH2Ph (2) и СH3С6Н4CH2•···•CSCH2Ph (3). Радикальные пары рекомбинируют в клетке растворителя и дают исходный тион с поляризоваными ядрами. Знаки химической поляризации ядер на группах СН3 и СН2 отвечают теоретическим по правилу Каптейна для интегральной поляризации. Для радикалов величины g-фактора и знаки констант сверхтонкого взаимодействия (СТВ) равны соответственно: g1 = 2.0007 (СH3С6Н4CH2•CS), g2 = 2.0025 (•CH2Ph), aСН3 > 0 (СH3С6Н4CH2•), aСН2(1) < 0, aСР2(2) < 0 [1, 37, 38]. Знаки интегральной поляризации: ГCH3 = + + + + > 0: ГCH2(1) = + + − + < 0: ГCH2(2) = + + + − < 0.
Таким образом, химическая поляризация ядер формируется при синглет-триплетных переходах в триплетных радикальных парах внутри клетки растворителя, знаки констант СТВ на этих группах и величины g-факторов определяют знаки поляризации ядер в регенерируемом тионе. В образующихся вне клетки растворителя дибензилах 4–6 знаки поляризации на этих группах обратные. Зарегистрированы три типа дибензилов: СН3С6Н4СН2СН2С6Н4СН3 (4), СН3С6Н4СН2СН2Ph (5), РhСН2СН2Ph (6).
В полярном растворителе СD3СN дибензилы 4–6 получались в соотношении 1:2:1 соответственно. Эти данные и знаки химической поляризации ядер отвечают возникновению поляризации в радикальных парах 2, 3, рекомбинация в которых дает исходный хинон. Выход радикалов из пар, диспропорционирование и случайные встречи приводят к образованию дибензилов, состав которых отвечает экспериментальному соотношению полученных продуктов. Спектры химической поляризации ядер на ядрах С13 полностью подтверждают эти результаты, а также доказывают формирование химической поляризации ядер по механизму синглет-триплетных переходов (рис. 2, табл. 1).
Рис. 2. Спектр ЯМР 13С исходного тиона в d-ацетонитриле: (а) темновой спектр; (б) при фотолизе одной вспышке лампы. 1 – сигнал СН3 (21.46 м. д.); 2 – сигнал СН2 толилметиленовой группы (47.3 м. д.); 3 – сигнал СН2 бензильной группы тиона (48.6 м. д.); 4 – сигнал углерода ароматической группы (127–129 м. д.); 5, 6 – сигнал четвертичных углеродов (135.99, 137.45 м. д.); 7 – сигнал С=S; * – сигнал растворителя.
Таблица 1. Отнесение поляризованных линий в спектрах ЯМР и знаки химической поляризации ядер при фотолизе тиона 1 в СD3CN.
Продукт | Отнесение | δ, м. д. | Знак химической поляризации ядер |
СН3С6Н4CH2CSCH2Ph | Спектр ЯМР 1Н | ||
CH3 | 2.34 | А | |
CH3С6Н4CH2 | 4.18 | Е | |
CH2Ph | 4.28 | Е | |
CH3C6H4 | 7.14; 7.16 | − | |
PhCH2 | 7.28; 7.29 | − | |
Спектр ЯМР С13 | |||
CH3 | 21.46 | Е | |
CH3С6Н4CH2 | 47.3 | А | |
PhCH2 | 48.5 | А | |
CH3С6Н4CH2CH2Ph | Спектр ЯМР 1Н | ||
CH3С6Н4 | 2.30 | Е | |
CH3С6Н4CH2 | 2.89 | А | |
PhCH2 | 2.92 | А | |
Спектр ЯМР С13 | |||
CН3С6Н4 | 20 | А | |
CH3С6Н4CH2 | 37.8 | Е | |
PhCH2 | 39.1 | Е | |
Для подтверждения детального механизма фотолиза проведен расчет переходных состояний каждого типа реакций и восстановлен путь реакций методом IRC. Для расчетов использовали программный пакет GAMESS (US) [39]. Численные расчеты состояли из следующих шагов:
1) с помощью свободной программы Avogadro [40] строили входной файл для GAMESS, который впоследствии модифицировали добавлением модели растворителя и его параметров; для растворителя использовали модель PCM (Polarizable Continuum Model) [41] и тип расчета iterative C-PCM;
2) оптимизировали геометрию молекулы;
3) используя координаты атомов оптимизированной геометрии молекулы и увеличив длину разрываемой в процессе реакции связи на 30%, производили поиск переходного состояния методом линейного синхронного транзита. После того как переходное состояния было найдено, восстанавливали путь реакции методом IRC. Контроль правильности нахождения переходного состояния осуществляли с помощью стандартного метода: находили собственные числа гессиана системы и контролировали факт присутствия среди них строго одного отрицательного значения.
И оптимизация геометрии, и поиск переходного состояния проводили методом теории функционала плотности с использованием гибридного функционала B3LYP/6-31G(d), который использовали для расчета родственных структур, например в работе [42], и показал хорошее совпадение расчетных данных с экспериментом (рис. 3).
Рис. 3. Энергия ΔG‡ переходного состояния образования двух радикальных пар 2 и 3 в триплетном состоянии.
Однако авторами обнаружено различие ΔG‡ переходного состояния между образованием двух радикальных пар в триплетном состоянии: –55.58 ккал/моль (2), –52.06 ккакл/моль (3).
Таким образом, наличие метильной группы в п-метилбензильном радикале приводит к некоторой большей его стабилизации (радикальные пары 3 по сравнению с радикальными парами 2). Близкие их значения указывают на то, что дальнейшие пути химической трансформации будут зависеть от взаимодействия с растворителем (образование сольватных комплексов).
Любопытная деталь механизма рассматриваемой реакции обнаруживается в эксперименте при сравнении интенсивности сигналов химической поляризации ядер метиленовых групп исходного хинона. Сигнал n-толилметиленовой группы в полтора раза интенсивней сигнала СН2 бензильного остатка (рис. 1). Поскольку время ядерной поляризации в обеих группах СН2 одинаково, эти данные свидетельствуют о том, что главный вклад в поляризацию тиона привносят радикальные пары 3, так как константа СТВ на бензильных протонах в радикале СН3С6Н5•СН2 больше, чем в радикале СН3С6Н5СН2•СS.
Расчеты показали, что происходит образование, главным образом, радикальных пар 3, а не 2, как более устойчивых радикалов. Таким образом, можно предположить, что в случае протекания процесса в полярном ацетонитриле не происходит значительной стабилизации переходного состояния, что, в свою очередь, повлияло на механизм трансформации промежуточно получающихся радикалов. Подобные процессы в радикальных и ион радикальных парах были установлены в работе [43].
Фотореакция тиона в неполярном растворителе С6F6. При фотолизе тиона 1 в неполярном ароматическом растворителе С6F6 картина химической поляризации ядер кардинально отличалась от предыдущей. Сигналы дибензилов 4 и 6 не наблюдались, образуется лишь дибензил 5 – продукт диспропорцианирования радикалов СН3С6Н5СН2•СS или РhСН2•СS в парах 2 или 3 и рекомбинация радикалов СН3С6Н5•СН2 и Ph•СН2.
В растворителе С6F6 наблюдали отрицательную поляризацию на протонах обеих групп СН3 и СН2 исходного тиона (рис. 4, табл. 2).
Рис. 4. Спектры ЯМР 1Н исходного тиона в гексафторбензоле: (а) темновой спектр; (б) после первой вспышки; (в) при фотолизе в течение 60 с. 1 – сигнал СН3 (2.45 м. д.); 2 – сигнал СН2 толилметиленовой группы (4.24 м. д.); 3 – сигнал СН2 бензильной группы тиона (4.35 м. д.); 4 – сигнал ароматических протонов бензильной группы (3.2 м. д.); 5 – сигнал ароматических протонов толилметиленовой группы (7.16 м. д.); 6 – ароматические протоны образовавшегося дибензила (6.9 м. д.); 7 – сигнал СН2 образовавшегося дибензила (2.9 м. д.).
Таблица 2. Отнесение поляризованных линий в спектрах ЯМР и знаки химической поляризации ядер при фотолизе тиона 1 в С6F6.
Продукт | Отнесение | δ, м. д. | Знак химической поляризации ядер |
CH3С6Н4CH2CSCH2Ph | Спектр ЯМР 1Н | ||
СH3 | 2.45 | Е | |
СH2 | 4.24 | Е | |
СH2 | 4.35 | Е | |
Спектр ЯМР С13 | |||
CН3 | 22.6 | Е | |
CН2 | 47.3 | Е | |
PhCН2 | 48.6 | Е | |
CS | 260 | − | |
Согласно правилу Каптейна, знаки поляризации на протонах групп СН3 и СН2 (разные знаки констант СТВ в радикалах) должна иметь противоположные значения, но в эксперименте наблюдали поляризацию только отрицательного знака (рис. 4). Отрицательно поляризованы и соответствующие атомы углерода в спектрах 13С, что не согласуется с образованием поляризации в классическом случае при S–Т0 переходах в радикальных парах.
В работе [44] показано, что наличие С6F6 приводит к образованию радикал-катионных систем под действием излучения и различных кислотах Льюиса. Возможно, наличие единственного продукта 5 в реакционной массе можно объяснить образованием устойчивых радикал-катионных систем. Различие продуктов при фотолизе тиокетона в полярном (ацетонитриле) и неполярном (гексафторбензоле C6F6) растворителях можно объяснить различной стабилизацией промежуточно получающихся радикальных пар. Известно, что ацетонитрил является прекрасным растворителем для проведения ионных процессов. Однако стабилизация радикалов в нем мала. Наличие сложного состава продуктов при проведении фотолиза объясняется именно этим. В противоположность ацетонитрилу сильно электронно-дифицитный гексафторбензол стабилизирует радикальные пары, увеличивая их время жизни [45]. Когда в радикальных парах за счет стабилизации растворителем диффузия затруднена, с механизмом формирования химической поляризации ядер по радикальному пути при синглет-триплетных переходах в радикальных парах может конкурировать другой процесс образования химической поляризации ядер.
Знаки эффектов химической поляризации ядер в случае неполярного растворителя нельзя объяснить в рамках модели радикальных парах. Для реакции, включающей слабо диссоциирующие в неполярной среде ион-радикальные пары, ядерная поляризация может формироваться только в рамках триплетного механизма поляризации ядер.
В работе [45] впервые предложен механизм ядерной поляризации при фотолизе растворов, получившей название триплетной модели химической поляризации ядер. В работе [46] сформулированы следующие условия для формирования химической поляризации ядер по триплетному механизму:
1) формирование триплетной химической поляризации электронов в молекуле;
2) быстрое тушение поляризованных триплетов с образованием радикальной пары;
3) электрон-ядерная кросс-релаксация Оверхаузера в свободных радикалах;
4) быстрые обменные процессы для переноса ядерной поляризации из радикалов в диамагнитные соединения.
Таким образом, в фотореакциях тиона 1 ядерная поляризация может возникать не только при S–Т0 переходах в радикальных парах, но и в процессе электрон-ядерной кросс-релаксации в радикалах, неравновесная электронная поляризация которых создается при формировании триплетного состояния молекулы. Так для кросс-релаксации, обусловленной анизотропной частью тензора СТВ, для ядер, имеющих положительные гиромагнитные отношения (13C, 1H), эмиссия в триплетной химической поляризации электронов приводит к эмиссии в химической поляризации ядер, что характерно для бензохинонов, кетонов и, вероятно, тионов. В данном случае механизм химической поляризации ядер объединяет следующие явления: возникновение электронной поляризации в триплетных молекулах тиона, затем ее переход в радикалы при химической реакции триплетов, то есть возникновение КПЗ в рамках триплетного механизма, и явление динамической поляризации ядер, кросс-релаксация которой обусловлена анизотропной частью тензора СТВ с отрицательной поляризацией [47]. Знак ядерной поляризации в радикалах зависит от того, будет ли электрон-ядерная кросс-релаксация индуцироваться изотропным или анизотропным СТВ. Но механизм скалярной изотропной кросс-релаксации, связанный с модуляцией изотропной части СТВ, в рассмотренных радикалах, не может быть реализован.
Наблюдаемая авторами поляризация отвечает ожидаемому знаку эффекта. Скорость указанных релаксационных переходов зависит от модуляции вращательным движением аксиально-симметричного анизотропного сверхтонкого взаимодействия. Для такого механизма электрон-ядерной кросс-релаксации исследование химической поляризации ядер на ядрах 13С и 1Н совершенно идентичны (рис. 5).
Рис. 5. Сильнопольная часть спектра ЯМР 13С тиона 1 после 60 с облучения в С6F6. Сигналы 13С растворителя накладываются на сигналы ароматических углеродов 13С. 1 – сигнал СН3 дибензила (19.0 м. д.); 2 – сигнал СН3 исходного тиона (22.6 м. д.); 3 – сигнал СН2 образовавшегося дибензила (37.9 м. д.); 4 – сигнал СН2 толилметильной группы (47.2 м. д.); 5 – сигнал СН2 бензильной группы тиона (48.5 м. д.).
Эффективность триплетного механизма обусловлена рядом факторов. Во-первых, при формировании триплетного состояния хинонов возникает значительная электронная поляризация, превышающая равновесную поляризацию на два порядка. Во-вторых, в изученных фотореакциях триплеты тионов достаточно быстро реагируют в клетке растворителя, поэтому электронная поляризация успевает перейти к радикалам. Действительно, скорость тушения триплета лимитируется диффузией, она превосходит скорость релаксации в триплете: (3Т1)–1 ≈ 108–109 с–1. Наконец, в связи с достаточно продолжительным временем жизни ион-радикалов в паре (~10–7 с) создаются благоприятные условия участия электрон-ядерной кросс-релаксации в триплет-синглетном переходе пары, так как скорость реакции не намного больше скорости соответствующих кросс-релаксационных переходов (W0, W2 ≈ 105–106 с–1). Кроме того, при таком соотношении скоростей электрон-ядерной релаксации и реакции обеспечивается «своевременное замораживание» ядерной поляризации в диамагнитных продуктах.
Следует отметить преимущества спектроскопии 13С в исследованиях химической поляризации ядер. Электронная поляризация в радикалах пропорциональна равновесной поляризации, отношение электронного и ядерного в 13С больцмановских факторов порядка 2∙103. В исследуемых реакциях к диамагнитным продуктам переходит незначительная часть электронной поляризации, которой соответствует значительная ядерная поляризация, т. е. очевидно преимущество спектроскопии ЯМР 13С при идентификации триплетного механизма по сравнению с ЯМР 1Н и 19F.
Исследования тиосоединений с помощью эффектов химической поляризации ядер предложены нам академиком В. В. Луниным. Его идеи и полезные советы во многом помогли в написании настоящей работы и работ [33–35].
Выводы
В случае фотолиза тиона 1 в полярном растворителе СD3СN химическая поляризация ядер формируется по традиционному механизму при S–Т0 переходах в радикальных парах. В пользу триплетного механизма при фотолизе в неполярном растворителе свидетельствуют следующие выводы. Правило Каптейна не объясняет знаки химической поляризации ядер в этом случае. В модели радикальных пар характерно строгое взаимное соответствие знаков химической поляризации ядер и знаков констант СТВ на соответствующих ядрах в радикале (S–Т0 переходы). Наблюдаемые только отрицательные знаки эффекта на ядрах диамагнитных молекул, не связанные взаимно однозначным соответствием со знаками констант СТВ, свидетельствуют о механизме химической поляризации ядер, отличном от модели радикальных пар. Логично предположить, что наблюдаемую в неполярном растворителе С6F6 отрицательную ядерную поляризацию на протонах и углероде молекул исходного тиона индуцируют электрон-ядерные релаксационные переходы в тионном ион-радикале, обусловленные модуляцией молекулярным вращением анизотропного сверхтонкого взаимодействия. В результате создаются необходимые условия для перехода электронной поляризации к ядерным спинам и ядерной поляризации тионных радикалов к диамагнитным молекулам тиона. Таким образом, полярность растворителя кардинально влияет на формирование поляризации ядер по совершенно различным физическим принципам.
Экспериментальная часть
Исследования химической поляризации ядер проводили на серийных спектрометрах ЯМР высокого разрешения Tesla-567A и Bruker НХ-90 с приспособленными авторами приставками для облучения исследуемых растворов в их датчиках на ядрах Н1 и С13. Свет от ламп ДРШ 1000 или ДКсШ-1000 подавали непосредственно к кварцевой ампуле с раствором с регистрацией спектра в непрерывном или импульсном режиме. Ксеноновая лампа высокого давления ДКсШ-1000 работает в импульсном режиме. Энергия электрического разряда в импульсе 400 Дж, длительность импульса 1 мс.
Световой поток канализировался через боковую стенку модернизированного датчика спектрометра. На этих спектрометрах для облучения образца высокочастотным полем и приема отклика применяется однокатушечная система с временным разделением облучения и приема сигналов. Для этого была сконструирована оригинальная установка для синхронизации поджига лампы и подачи импульса спектрометра [36], при этом генератор парных импульсов Г5-26 запускался от ЭВМ спектрометра через блок импульсов модулятора. Выходные импульсы генератора подаются на схему поджига лампы и, кроме того, используются для блокировки спектрометра от воздействия помех при вспышке лампы. Напряжение поджига ~20 кВ, ток разряда через лампу – 800 А. Число фотонов при вспышке порядка 1016. Свет от осветителя проходит через коллиматор с ИК фильтром (дистиллированная вода), фокусируется короткофокусной линзой на переднюю грань кварцевого цилиндрического световода, второй конец которого входит в отверстие датчика и отстоит от оси ампулы на расстоянии 10 мм. При размере рабочего тела ламп 3.5–4 мм и фокусном расстоянии линзы конденсора F = 3 см размер светового пятна в фокальной плоскости выходной линзы при ее фокусном расстоянии 6 см равен 7–8 мм. Диаметр световода выбран равным 10 мм, поэтому практически весь световой поток, падавший от осветителя, сфокусирован на вход световода. Для оптической системы выполняется условие канализации светового потока световодом с минимальными потерями, так как угол падения световых лучей на боковую грань световода больше угла полного отражения. Электронная и блок-схема представлены в работе [36].
Меняя время задержки радиочастотного импульса спектрометра относительно вспышки лампы и регистрируя спектр ЯМР, можно получить зависимость амплитуды сигналов отдельных линий спектра от времени задержки. При данном способе облучения отсутствует и ограничение круга исследуемых реакций, связанное с высокой оптической плотностью растворов, так как их облучение происходит непосредственно в рабочем объеме.
При получении спектров в импульсном режиме возможна потеря информации. Так, при использовании 90° высокочастотных импульсов в спектрах исчезает гомоядерный мультиплетный эффект, поэтому в исследованиях химической поляризации ядер авторы использовали 20° высокочастотные импульсы. При регистрации химической поляризации ядер при импульсном фотоинициировании световой импульс значительно короче времени тепловой ядерной релаксации в продукте Т1 > 10 с. Этот прием позволяет исключить влияние релаксации на интенсивность химической поляризации ядер при стационарном методе регистрации эффекта.
При фотолизе тионов использовали набор фильтров БС с полосой пропускания 460–480 нм, т. е. в полосе n–π* возбуждения тиокетона. Температуру при получении спектров с эффектом химической поляризации ядер поддерживали в пределах 25–28°С. Для подавления тушения триплетных состояний кислородом воздуха, ампулы с реакционной смесью перед помещением в датчик спектрометра барботировали продувкой аргона.
Реактивы фирмы «Merk» сертифицированы. Реакции проводили в химически чистых дейтерированных растворителях и гексафторбензоле. Дейтерированные растворители отвечали эталонным требованиям и не подвергались дополнительной очистке. Продукты фотореакции идентифицировали по спектрам ЯМР 1Н и 13С. Концентрации тиокетона в эксперименте составила 10–1–10–3 М.
Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
About the authors
V. I. Porkhun
Volgograd State Technical University
Email: arisjulia@yandex.ru
Russian Federation, 400005, Volgograd
D. V. Zavyalov
Volgograd State Technical University
Email: arisjulia@yandex.ru
Russian Federation, 400005, Volgograd
Е. N. Savelyev
Volgograd State Technical University
Email: arisjulia@yandex.ru
Russian Federation, 400005, Volgograd
Yu. V. Bogdanova
Volgograd State Technical University
Author for correspondence.
Email: arisjulia@yandex.ru
Russian Federation, 400005, Volgograd
N. A. Kuznetsova
Volgograd State Technical University
Email: arisjulia@yandex.ru
Russian Federation, 400005, Volgograd
References
- Бучаченко А.Л., Сагдеев Р.З., Салихов К.М. Магнитные и спиновые эффекты в химических реакциях. Новосибирск: Наука, 1978. С. 296.
- Химия органических соединений серы. Общие вопросы / Под ред. Л.И. Беленького. М.: Химия, 1988. 329 с.
- Кондрор И.И. Автореф. дис. … докт. хим. наук. М., 1985. 303 с.
- Degl’Innocenti A., Capperucci A., Mordini A., Reginata G., Ricci F., Cerreta F. // Tetrahedron Lett. 1993. Vol. 34. Р. 873. doi: 10.1016/0040-4039(93)89036-P
- Ishii A., Hoshimo M., Nakayama K. // Pure Appl. Chem. 1996. Vol. 68. Р. 869. doi: 10.1351/pac199668040869
- Block E., Bayer T., Naganathan S., Zhao S. // J. Am. Chem. Soc. 1996. Vol. 118. Р. 2799. doi: 10.1021/ja953444h.
- Фролов Ю.Л., Синеговская Л.М., Кейко В.В., Гусарова Н.К., Ефремова Г.Г., Турчанинова Л.П., Трофимов Б.А. // Изв. АН СССР. Сер. хим. 1986. № 9. С. 1992.
- Фролов Ю.Л., Синеговская Л.М., Гусарова Н.К., Потапов В.А., Трофимов Б.А. // Изв. АН СССР. Сер. хим. 1985. № 8. С. 1780.
- Liu Z.-Y., Hu J.-W., Huang C.-H., Huang T.-H., Chen D.-G., Ho S.-Y., Chen K.-Y., Li E.Y., Chou P.-T. // J. Am. Chem. Soc. 2019. Vol. 141. Р. 9885. doi: 10.1021/jacs.9b02765
- Lévesque S., Gendron D., Bérubé N., Grenier F., Leclerc M., COté M. // J. Phys. Chem. (C). 2014. Vol. 118. Р. 3953. doi: 10.1021/jp411300h
- Jayaraj N., Murthy V.S.N., Maddipatla, Rajeev P., Jockusch S., Turro N. J., Ramamurthy V. // J. Phys. Chem. (B). 2010. Vol. 114. P. 14320. doi: 10.1021/jp911698s
- Szymanski M. // J. Phys. Chem. (A). 1998. Vol. 102. P. 677. doi: 10.1021/jp9723978
- Newman A.K., Henry A.M., Madriaga J.P., Sieffert J.M., Heinrich S.E., Jarboe J.T., Swift V.M., Cheong A.Y.Y., Haynes M.T., Zigler D.F. // Photochem. Photobiol. Sci. 2022. Vol. 21. P. 303. doi: 10.1007/s43630-021-00144-5
- Coyle J.D. // Tetrahedron. 1985. Vol. 41. P. 5393. doi: 10.1016/s0040-4020(01)91341-9
- Morozova O.B., Yurkovskaya A.V., Tsentalovich Yu.P., Forbes M.D., Khor P.J., Sagdeev R.Z. // Mol. Phys. 2002. Vol. 100. P. 1187. doi: 10.1080/00268970110109970
- Grosse S., Yurkovskaya A.V., Lopez J., Viet H.M. // J. Phys. Chem. (А). 2001. Vol. 105. P. 6311. doi: 10.1021/jp004582i
- Morozova O.B., Korchak S.E., Viet H.M., Yurkovskaya A.V. // J. Phys. Chem. (B). 2009. Vol. 113. P. 7398. doi: 10.1021/jp8112182
- Morozova O.B., Korchak S.E., Sagdeev R.Z. Yurkovskaya A.V. // J. Phys. Chem. (А). 2005. Vol. 109. P. 10459. doi: 10.1021/jp053394v
- Morozova O.B., Ivanov K.L., Kiryutin A.S., Sagdeev R.Z., Kehling T., Viet H.M., Yurkovskaya A.V. // Chem. Phys. 2011. Vol. 13. P. 6619. doi: 10.1039/C0CP02449J
- Polyakov N.E., Taraban M.B., Leshina T.V. // J. Photochem. Photobiol. (A). 2004. Vol. 80. P. 565. doi: 10.1111/j.1751-1097.2004.tb00130.x
- Polyakov N.E., Khan V.K., Taraban M.B., Leshina T.V., Luzina O.A., Salakhutdinov N.F., Tolstikov G.A. // Org. Biomol. Chem. 2005. Vol. 3. P. 881. doi: 10.1039/B416133E
- Ageeva A.A., Kruppa A.I., Magin M., Babеnko S.V., Leshina T.V., Polyakov N.E. // Antioxidants. 2022. Vol. 11. P. 1591. doi: 10.3390/antiox11081591
- Leshina T.V., Polyakov N.E. // J. Phys. Chem. 1990. Vol. 94. Р. 4379. doi: 10.1021/j100374a001
- Юрковская А.В. Автореф. дис. … докт. физ.-мат. наук. Казань, 1997. 241 с.
- Порхун В.И., Аристова Ю.В. // Изв. АН. Сер. хим. 2019. Т. 3. С. 565; Porkhun V.I., Aristova Yu.V. // Russ. Chem. Bull. 2019. Vol. 68. N 3. P. 565. doi: 10.1007/s11172-019-2455-x
- Leshina T.V., Polyakov N.E. // J. Phys. Chem. 1990. Vol. 94. Р. 4379. doi: 10.1021/j100374a001
- Порхун В.И., Аристова Ю.В., Шаркевич И.В. // ЖФХ. 2017. Т. 91. № 6. С. 1001; Porkhun V.I., Aristova Yu.V., Sharkevich I.V. // Russ. J. Phys. Chem. (A). 2017. Vol. 91. N 7. P. 1358. doi: 10.1134/S003602441707024X
- Grampp G., Landgraf S., Fasmussen K. // Chem. Soc. Perkin Trans. 2. 1999. Vol. 9. P. 1897. doi: 10.1039/A903394G
- Johson J., Inbaraj R.J. // Photochem. Photobiol. (A). 1999. Vol. 124. P. 95. doi: 10.1016/S1010-6030(99)00040-4
- Порхун В.И., Аристова Ю.В., Гоник И.Л. // ЖФХ. 2018. Т. 92. С. 1663; Porkhun V.I., Aristova Yu.V., Gonik I.L. // Russ. J. Phys. Chem. (A). 2018. Vol. 92. P. 2092. doi: 10.1134/S0036024418100242
- Ivanov K.L., Pravdivtsev A.N., Yurkovskaya A.V., Kaptein R. // Progr. Nucl. Magn. Reson. Spectrosc. 2014. Vol. 81. P. 1.
- Porkhun V.I., Rakhimov A.I. // J. Phys. Chem. 2012. Vol. 86. N 11. P. 1915. doi: 10.1134/S0036024412120242
- Порхун В.И., Кузнецова Н.А., Подопригора А.Г., Гоник И.Л. // ЖФХ. 2022. Т. 96. № 11 С. 1679; Porkhun V.I., Kuznetsova N.A., Podoprigora A.G., Gonik I.L. // Russ. J. Phys. Chem. (A). 2022. Vol. 96. N 11. P. 2547. doi: 10.1134/S0036024422110243
- Порхун В.И., Кузнецова Н.А., Савельев Е.Н. // ЖФХ. 2023. Т. 97. № 3. С. 434. doi: 10.31857/S0044453723030226.
- Порхун В.И., Аристова Ю.В., Гоник И.Л. // Изв. АН. Сер. хим. 2018. № 8. С. 1364; Porkhun V.I., Aristova Yu.V., Gonik I.L. // Russ. Chem. Bull. 2018. Vol. 67. N 8. P. 1364. doi: 10.1007/s11172-018-2225-1
- Порхун В.И. // Изв. вузов. Приборостроение. 2010. Т. 53. № 10. С. 27.
- Калверт Дж., Питтс Дж. Фотохимия. М.: Мир, 1968. 672 с.
- Бучаченко А.Л., Вассерман А.М. Стабильные радикалы. М.: Химия, 1973. 408 c.
- Электронный ресурс: https://www.msg.chem.iastate.edu
- Электронный ресурс: http://avogadro.cc
- Tomasi J., Mennucci B., Cammi R. // Chem. Rev. 2005. Vol. 105. N 8. P. 2999. doi: 10.1021/cr9904009
- Laali K.K., Sarca V.D., Okazaki T., Brocka A., Der P. // Org. Biomol. Chem. 2005. N 3. P. 1034. doi: 10.1039/B416997B
- van den Ende C.A.M., Nyikos L., Sowada U., Warman J.M., Hummel A. // J. Electrostatics.1982. Vol. 12. Р. 97.
- Cox J.M., Bain M., Kellogg M., Bradforth S.E., Lopez S.A. // J. Am. Chem. Soc. 2021. Vol. 143. P. 7002. doi: 10.1021/jacs.1c01506
- Vyaz H.M., Wan J.K.S. // Chem. Phys. Lett. 1975. Vol. 34. N 3. Р. 470. doi: 10.1016/0009-2614(75)85541-2
- Hutton R.S., Roth H.D. // J. Chem. Phys. 1980. Vol. 72. P. 4368. doi: 10.1063/1.439727
- Adrian F.J., Vyaz H.M., Wan J.K.S. // J. Chem. Phys. 1976. Vol. 65. P. 1454. doi: 10.1063/1.433199
Supplementary files