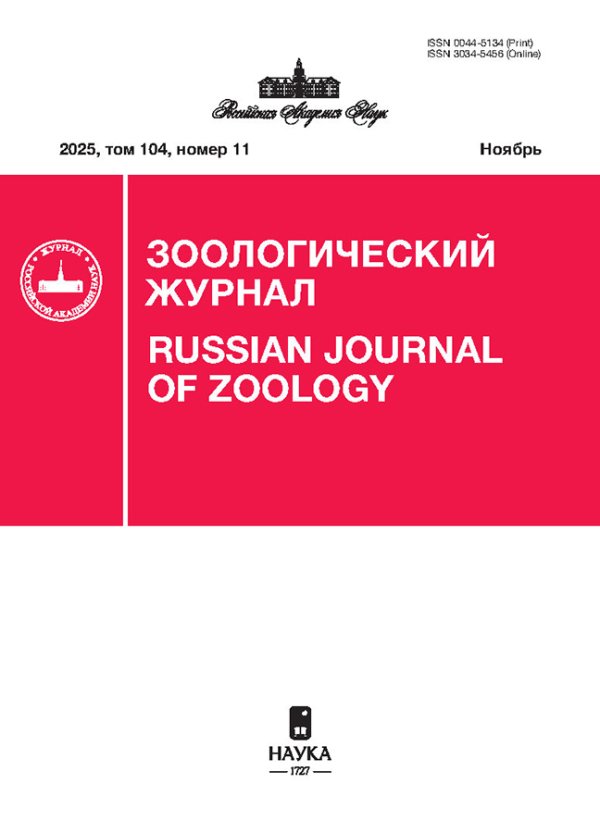Skull variability and taxonomic issues of the brown bear (Ursus arctos) IN the Qinghai-Tibetan Plateau
- Authors: Orlov V.N.1, Baryshnikov G.F.2, Krivonogov D.M.3, Shchegol’kov A.V.3
-
Affiliations:
- Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences
- Zoological Institute, Russian Academy of Sciences
- Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Arzamas Branch
- Issue: Vol 103, No 3 (2024)
- Pages: 77-88
- Section: ARTICLES
- URL: https://journal-vniispk.ru/0044-5134/article/view/264974
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044513424030095
- EDN: https://elibrary.ru/VBXKZW
- ID: 264974
Cite item
Full Text
Abstract
Morphometric analysis of skulls of the brown bear (Ursus arctos L.) showed the existence of two populations of this species in Tibet in the 19th century. The distribution of the northern population-I included the Qilian Shan and Kunlun mountain ranges bordering the Tibetan plateau from the north and pe- netrated into the northern part of the plateau, northwestern Qinghai Province, PRC. The distribution of the southern population-II included the upstream reaches of the main rivers of Tibet, viz, Huang He, Yangtze and Mekong on the plateau, southeastern Qinghai Province and, most likely, the whole of southern Tibet, including the Himalayas of Nepal. The diagnostic features of the two populations are choanae parameters, choanae width in males and choanae depth in females. The noted peculiarities of Tibetan brown bears may be related to the anatomical structure of the nasopharynx, an organ of the respiratory system that ensures the air to be warmed to an optimal temperature before it reaches the bronchopulmonary tissues. The divergence of Tibetan brown bear populations may be related to the settlement of the high plateau from both southern and northern refugia of the last glaciation. The currently accepted name of the subspecies of the Tibetan bear, U. a. pruinosus Blyth 1854, is suggested to be retained for the southern population-II, and that its junior synonym, U. lagomyiarius Przewalski 1883, be restored to designate the northern population-I. Clarification of the taxonomic status of the different bear populations in Qinghai Province, PRC, the most human-exploited part of Tibet, could affect the assessment of their conservation status, which is currently defined by IUCN for all bears in Tibet as LC (“Least Concern”).
Keywords
Full Text
На самом обширном в мире Тибетском плато, со средней высотой 4877 м над ур. м., сохранилась особая фауна позвоночных с высоким уровнем эндемизма. Эта фауна формировалась с раннего плиоцена в процессах вселения видов из соседних областей, их последующих изменений под влиянием географической изоляции, горных поднятий и климатических изменений в плейстоценовых ледниковых циклах (Zhang, Zheng, 1981; Yang et al., 2009).
Исследование фауны Тибета научными экспедициями началось в XIX веке, и одними из первых были экспедиции Императорского Русского Географического Общества (ИРГО) (Пржевальский, 1875, 1883, 1888; Роборовский, Козлов, 1896; Роборовский, 1900–1901; Козлов, 1906; Грум-Гржимайло, 1907). Участники ИРГО доставили в музеи С.-Петербурга богатейшие коллекционные материалы, а в отчетах руководителей экспедиций сохранились уникальные сведения по географии, флоре и фауне, геологии, климатологии и этнографии Тибета. Среди зоологических коллекций, привезенных участниками ИРГО, выделяется коллекция черепов разного возраста (49 экз.) и шкур (31 экз.) бурого медведя (Ursus arctos L.) в Зоологическом институте РАН (ЗИН РАН). Эта коллекция служила важным материалом для описания изменчивости и систематики рода Ursus (Огнев, 1931; Флеров, 1935; Chestin, 1996; Барышников, 2007), так же как и отдельные черепа и шкуры медведей из Тибета, которые поступили в различные музеи мира.
На Тибетском плато и хребтах, расположенных севернее (Куньлунь, Алтынтаг и Наньшань), обитает только бурый медведь (McLellan et al., 2017) (рис. 1).
Рис. 1. Исторический ареал бурого медведя (Ursus arctos L.) в Центральной Азии (McLellan et al., 2017). 1 – Местонахождения типовых экземпляров подвидов (I – U. a. isabellinus Horsfield 1826, II – U. a. pruinosus Blyth 1854, III – U. a. lagomyiarius Przewalski 1883, IV – U. a. leuconyx Severtzov 1873, V – U. a. gobiensis Sokolov et Orlov 1992); 2 – местонахождения коллекционных экземпляров популяции-I; 3 – местонахождения коллекционных экземпляров популяции-II; 4 – крайние западные и южные места встреч бурых медведей, отмеченные в работах русских исследователей Тибета (Пржевальский, 1883, 1888; Козлов, 1906); 5 – места сбора исследованных молекулярных образцов бурых медведей (Lan et al., 2017).
Из Тибетского автономного округа КНР бурые медведи заходят в высокогорную часть Гималаев в двух районах Непала (Верхний Мустанг и Манасалу) и до 1950 г. заходили в Бутан (Aryal et al., 2010). Ареал гималайского, или белогрудого, медведя (U. thibetanus G. Cuv.) огибает Тибетское плато по западным и южным макросклонам Гималаев на высотах от 1200 до 3300 м (Abbas et al., 2015) и горным хребтам, расположенным восточнее плато.
Уточнение таксономического статуса различных популяций медведей Тибета представляет интерес не только как исследование биоразнообразия этого региона, но способно повлиять и на оценку охранного статуса популяций. Изменчивости черепов бурого медведя Тибета, кроме возрастной и половой, в работах с использованием коллекции ЗИН РАН исследователи не отмечали (Флеров, 1935; Chestin, 1996). Целью данного исследования стал анализ популяционной и таксономической дифференциации бурого медведя Тибета с использованием морфометрических данных.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В анализе использованы 11 черепов взрослых самцов и 9 взрослых самок из коллекции Зоологического института РАН (ЗИН). Возраст зверей оценивали по зарастанию базиокципитально-алисфеноидного шва (отмечающего окончание активного роста черепа). Для оценки межпопуляционных различий на карту Тибета были нанесены места происхождения коллекционных экземпляров. Топонимия географических названий в Тибете XIX века и современная топонимия значительно различаются, и нанести на карту точки добычи медведей согласно музейной этикетке стало возможным только после анализа маршрутов русских путешественников (Пржевальский, 1875, 1883, 1888; Роборовский, Козлов, 1896; Роборовский, 1900–1901; Козлов, 1906; Грум-Гржимайло, 1907).
Схема измерений черепа показана на рис. 2.
Рис. 2. Схема промеров черепа бурого медведя. Описания промеров даны в тексте. Отсутствующие на рисунке промеры длины и ширины зубов 18–21 взяты с буккальной стороны (длина) и в самой широкой части зуба (ширина). Схема промеров щечных зубов медведей приведена в монографии Барышникова (2007, рис. 3).
В работе использованы 21 промер и один индекс: 1) Cbl – кондилобазилярная длина, от заднего края средних резцов у альвеол (точка henselion) до заднего края затылочных мыщелков (condylion), 2) Lpal – длина костного нёба, от заднего края средних резцов до заднего выступа костного нёба, 3) Lfac – длина лицевого отдела черепа, от переднего края альвеол средних резцов до переднего края глазницы, 4) Lncra – длина мозгового отдела черепа (neurocranium), от переднего края глазницы до заднего края сагиттального гребня (crista sagittalis), 5) Hncra – высота мозгового отдела черепа (neurocranium) измерена от высшей точки сагиттального гребня до парокципитального отростка (proc. paroccipitalis), 6) Bros – ширина черепа в клыках, 7) Bior – межглазничная ширина черепа, 8) Bfac – ширина черепа на уровне переднего края верхнего моляра M2, 9) Zyg – скуловая ширина черепа, 10) Bcra – мастоидная ширина черепа, 11) Hhoany – глубина хоан (foramen nasale posterior) взята в самой широкой части хоан до верхней поверхности птеригоидных отростков, 12) Bhoany – ширина хоан, максимальное расстояние между птеригоидными отростками (proc. pterygoideum), ограничивающими хоаны (рис. 4), 13) Lman – длина нижнечелюстной кости, от альвеол резцов до конца сочлененного отростка, 14) Hman – высота нижнечелюстной кости в венечном отростке, 15) LC-M2 – длина верхнего зубного ряда, от переднего края клыков до заднего края M2 (у альвеол), 16) LP4-M2 – длина верхнего ряда щечных зубов от премоляра P4 до моляра M2, 17) Lm1-m3 – длина нижних моляров, 18) LM2 – длина второго верхнего моляра, 19) BM2 – ширина второго верхнего моляра, 20) Lm2 – длина второго нижнего молярa, 21) Bm2 – ширина второго нижнего моляра, 22) Hhoany х Bhoany – индекс площади поперечного сечения хоан (мм2).
Таксономический анализ, во многих случаях необходимый для оценки как биоразнообразия, так и связанных с ней задач охраны зверей разных внутривидовых таксонов, во многом отличается по своим целям и методам от общепринятой одномерной и многомерной статистической обработки морфометрических данных.
При выделении внутривидовых таксонов на сплошном ареале вида ставится конкретная задача – оценить, по какой доле особей различаются две контактирующие популяции. Например, для выделения подвида Эрнст Майр предложил “правило 75%” (75% одной популяции отличается от 100% другой), при этом точка пересечения двух кривых распределения диагностических признаков отделяет не менее 90% особей одной популяции от 90% особей другой. Для расчетов доли различающихся особей контактирующих популяций разработаны методы статистического анализа (Mayr, 1969). Но для малых выборок (например, в работах с редкими видами) использование таких методов невозможно и достоверность выделения таксонов повышают привлечением других данных: этологических, экологических или молекулярных особенностей.
В работе использован дискриминантный анализ с пошаговым включением переменных. Для таксономического анализа внутривидовой изменчивости дискриминантный анализ оказывается удобным инструментом, позволяющим выяснить, в первом приближении, подразделенность исследуемой выборки. Кроме того, выделение переменных, вносящих наибольший вклад в изменчивость подразделенной выборки, облегчает поиск диагностических признаков выделенных групп. Но в целом выделение географических популяций бурого медведя в этом исследовании не основано на методах статистического анализа.
Статистическую обработку данных по краниометрической изменчивости черепа проводили с использованием программных пакетов Statistica 13.0 и электронных таблиц Excel.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Дискриминантный анализ с пошаговым включением переменных позволил сократить число использованных переменных. Корреляции между переменными и полученными факторами приведены в табл. 1.
Таблица 1. Корреляции метрических признаков и полученных факторов (стандартизованные коэффициенты дискриминантных функций)
Переменная | Фактор 1 | Фактор 2 | Фактор 3 |
Cbl | –0.399 | –0.598 | 0.003 |
Lpal | –0.055 | 0.383 | –0.562 |
LC-M2 | 0.058 | 0.524 | –0.418 |
Lfac | 0.340 | –0.249 | –0.411 |
Lncra | 0.625 | 0.088 | –0.287 |
Hncra | 0.047 | 0.402 | 0.550 |
Bros | –0.235 | –0.505 | 0.261 |
Bior | –0.520 | –0.088 | –0.391 |
BrosM2 | –0.444 | –0.240 | –0.316 |
Zyg | 0.318 | 0.325 | 0.358 |
Hhoany | –0.059 | 0.157 | 0.783 |
Bhoany | –0.491 | 0.175 | 0.335 |
Lp4-m2 | 0.454 | –0.445 | 0.101 |
Lm1-m3 | 0.541 | –0.027 | –0.432 |
Lm2 | –0.583 | –0.039 | –0.377 |
Примечание. Жирным шрифтом выделены дискриминантные функции, имеющие наиболее высокие факторные нагрузки по переменным.
Из нее видно, что фактор 1 имеет высокие факторные нагрузки по переменным: Lncra, Bior, Bhoany, Lm1-m3, Lm2; фактор 2 – по переменным: Cbl, LC-M2, Bros и фактор 3 – по переменным Lpal, Hncra, Hhoany. Столь высокие факторные нагрузки по многим переменным объясняются значительными различиями между самцами и самками. Полученные стандартизированные коэффициенты дискриминантных функций были использованы, прежде всего, для выбора диагностических признаков популяционных и половых различий.
В результате дискриминации общая выборка черепов взрослых бурых медведей Тибета разделилась на четыре группы, две группы самцов и две группы самок (рис. 3).
Рис. 3. Распределение черепов бурых медведей Тибета в пространстве первой и второй канонической осей: 1, 2 – самцы группы I-♂ ♂и самки группы I-♀; 3, 4 – самцы группы II-♂ и самки группы II-♀.
Вдоль первой канонической оси (LD1) обособилась группа самцов, которую мы обозначили как I-♂. Вдоль второй канонической оси (LD2) обособились три группы: группа самцов (II-♂) и две группы самок (I-♀ и II-♀), при этом эффективность дискриминации составила 100%.
Ниже приведены места добычи коллекционных экземпляров медведей. Номера местонахождений соответствуют номерам на рис. 1.
Северная популяция-I
- III. Хр. Думбуре (примыкающий к хр. Куку- Шили (Koko-Shili),череп ЗИН 1458, ad ♂, лектотип U. lagomyiarius Przewalski; хр. Куку-Шили, 1538 ♀, колл. Н.М. Пржевальский, X–XI, 1879.
- 1. Наньшань (Qilian Shan), истоки р. Сулейхе, 6210 ♂, 6214 ♂, 6212 ♀, 6213 ♀, колл. В.И. Роборовский, 1894; верховья р. Хый-хо (Эцзин-гол) 6225 ♂, колл. Г.Е. Грум-Гржимайло, VIII.1890.
- 2. Хр. Южно-Кукунорский в системе Куньлуня, 7812 ♂, колл. П.К. Козлов, IV.1900.
- 3. Котловина Цайдам, 3211 ♂, 3212 ♂, 3213 ♂, 3214 ♂, 6211 ♀, колл. Н.М. Пржевальский, V.1884.
- 4. Хр. Бурхан-Будда (Buerhan Buda) в системе Куньлуня, 7804 ♂, колл. П.К. Козлов, IV.1900.
Южная популяция-II
- Верховья р. Хуанхэ, оз. Джарин-нур, 7816 ♂♂, колл. П.К. Козлов, VI.1900.
- Верховья р. Хуанхэ, оз. Орин-нур, 7684 ♀, 7801 ♀, колл. П.К. Козлов, VI.1900.
- Верховья р. Хуанхэ, р. Джагын-гол, 7808 ♂, колл. П.К. Козлов, VII.1900.
- Верховья р. Хуанхэ, р. Сэрг-чю, 7830 ♂, 7832 ♀, колл. П.К. Козлов, V.1901.
- Верховья р. Хуанхэ, р. Толи-чю, 7818♂ ♂, колл. П.К. Козлов, V.1901.
- Верховья р. Янцзы (Chag Jiang), пер. Ламлунг-ла, 7814 ♀, колл. П.К. Козлов, V.1901.
- Верховья р. Меконг, р. Дза-чю, 7813 ♀, колл. П.К. Козлов, IX.1900.
Самцы группы I-♂ (n = 7) добыты севернее Тибетского плато, в горах Наньшаня (Qilian Shan) и в системе Куньлуня (Kunlun Mountains), включая хребты Южно-Кукунорский и Бурхан-Будда (Buerhan Buda), за которым начинается подъем на плато Тибета (рис. 1, местонахождения 1–4), и на самом плато – хребты Куку-Шили (Koko-Shili) и Думбуре (рис. 1, местонахождение III). В трех из этих местонахождений (1, 3, III) отмечены самки группы I-♀ (n = 4).
Самцы группы II-♂ (n = 4) происходят из четырех близко расположенных местонахождений (5, 7–9) в верховьях р. Хуанхэ. В этой же группе местонахождений (6 и 8) отмечены три самки группы II-♀ и две самки из этой группы добыты южнее, в местонахождениях 10 и 11 (рис. 1).
Совпадение распространения самцов группы I-♂ и самок группы I-♀ с высокой вероятностью указывают на их принадлежность к одной географической популяции, которую мы обозначили как “северная популяция-I”. Также с высокой вероятностью можно предположить, что самцы группы II-♂ и самки группы II-♀ образуют вторую популяцию, которую мы назвали “южной популяцией-II”. Результаты промеров черепов бурых медведей этих двух популяций приведены в табл. 2.
Таблица 2. Изменчивость промеров черепа (lim, M±m, мм) бурых медведей Тибета
№ | Признак | Северная популяция-I | Южная популяция-II | ||
Самцы (n = 7) | Самки (n = 4) | Самцы (n = 4) | Самки (n = 5) | ||
1 | Cbl | 337–356 342.1±2.6 | 290–310 298.3±4.3 | 351–356 353.3±1.3 | 302–317 307.4±2.8 |
2 | Lpal | 170–189 178.3±2.3 | 149–167 156.5±3.9 | 179–189 182.8±2.3 | 159–167 162.8±1.4 |
3 | Lfac | 134–144 139.4±1.4 | 120–130 124.5±2.2 | 139–152 144.5±2.8 | 127–130 128.4±0.7 |
4 | Lncra | 227–244 237.1±2.3 | 199–211 203.3±2.8 | 228–239 234.3±2.3 | 201–212 206.6±1.7 |
5 | Hncra | 122–141 129.3±2.5 | 102–114 109.3±2.6 | 120–130 126.3±2.3 | 107–112 109.0±0.8 |
6 | Bros | 73–85 79.5±1.8 | 68–72 69.3±0.9 | 79–85 81.5±1.3 | 68–2 70.4±0.8 |
7 | Bior | 77–85 81.3±1.5 | 64–73 68.5±1.9 | 75–86 80.3±2.3 | 70–74 72.2±0.8 |
8 | Bfac | 90–106 97.9±2.1 | 85–89 87.5±1.0 | 95–101 98.9±1.3 | 82–92 87.8±1.7 |
9 | Zyg | 203–236 218.7±3.9 | 167–186 178.3±4.2 | 203–230 218.0±6.8 | 174–195 186.0±3.5 |
10 | Bcra | 159–179 168.9±2.6 | 134–144 138.8±2.1 | 159–178 168.5±4.1 | 135–145 141.2±1.7 |
11 | Hhoany | 17.0–24.9 20.5±1.0 | 11.5–14.0 13.1±0.6 | 14.8–18.8 16.7±0.8 | 14.5–17.0 15.8±0.5 |
12 | Bhoany | 27.0–32.5 30.2±0.9 | 28.0– 32.0 29.6±0.9 | 35.0–40.8 36.5±0.4 | 28.1–31.6 29.5±0.7 |
13 | Lman | 244–260 249.0±2.4 | 217–227 221.2±2.9 | 251–269 258.0±2.5 | 219–227 222.4±1.9 |
14 | Hman | 96–107 100.6±2.1 | 82–91 86.0±1.0 | 96–100 98.7±1.3 | 83–88 85.8±1.7 |
15 | LC–M2 | 149–158 154.0±1.3 | 137–147 140.5±2.3 | 154–163 160.3±2.1 | 137–149 142.6±1.9 |
16 | LP4–M2 | 78.5–84.0 81.2±0.8 | 72.0–75.5 74.0±0.7 | 76.5–83.0 80.1±1.5 | 70.3–79.5 75.6±1.6 |
17 | Lm1–m3 | 72.0–79.0 76.4±0.9 | 57.0–70.5 67.1±3.4 | 74.5–78.5 76.1±0.9 | 66.0–72.0 69.4±1.2 |
18 | LM2 | 38.5–42.0 40.0±0.5 | 35.6–37.0 36.5±0.3 | 39.0–45.0 40.9±1.4 | 33.8–39.2 37.2±1.0 |
19 | BM2 | 27.0–29.0 27.6±0.3 | 24.5–26.0 25.4±0.3 | 26.5–28.0 27.4±0.3 | 23.8–26.1 25.0±0.4 |
20 | Lm2 | 19.3–24.0 21.8±0.6 | 19.1–21.3 20.1±0.5 | 20.0–22.0 20.9±0.4 | 18.3–21.0 19.8±0.5 |
21 | Bm2 | 16.0–18.6 17.7±0.4 | 14.1–15.9 15.2±0.4 | 16.0–17.5 16.8±0.3 | 15.1–17.0 16.4±0.3 |
22 | Индекс (мм2) Hhoany х Bhoany | 501–699 516 | 345–422 387 | 518–677 612 | 434–484 462 |
Основным диагностическим признаком двух групп самцов выбрана ширина хоан (промер Bhoany), узкая в популяции-I (рис. 4Б) и более широкая в популяции-II (рис. 4В), причем крайние значения ширины хоан не перекрываются на небольшом исследованном материале (табл. 2, рис. 5).
Рис. 4. Форма задних хоан у бурых медведей (Ursus arctos L.). A – Тянь-Шань, ЗИН 1235 ♂, колл. Н.М. Пржевальский; Б – Северный Тибет, Цайдам (рис. 1, 3 ), ЗИН 3214 ♂, колл. Н.М. Пржевальский (популяция-I); В – верховья р. Хуанхэ, р. Толи-чю (рис. 1, 9 ), ЗИН 7818 ♂, колл. П.К. Козлов (популяция-II ).
Рис. 5. Различия самцов бурого медведя Тибета по ширине (Вhoany) и глубине (Hhoany) хоан: черные кружки – популяция-I, белые кружки – популя- ция-II. Цифрами обозначены местонахождения коллекционных экземпляров (соответствуют рис. 1).
Глубина хоан самцов в среднем больше в популяции-I по сравнению с аналогичным показателем в популяции-II, но индексы площади поперечного сечения хоан (произведение промеров Bhoany х Hhoany) у самцов обеих популяций не различаются по крайним значениям, а по средним значениям больше в популяции-II.
Основным диагностическим признаком двух выделенных дискриминантным анализом групп самок была выбрана глубина хоан (Hhoany). В популяции-I хоаны самок мелкие, причем крайние значения глубины хоан не перекрываются при одинаковой ширине хоан (табл. 2, рис. 6). Индекс площади поперечного сечения хоан больше в популяции-II по крайним и средним значениям.
Рис. 6. Различия самок бурого медведя Тибета по ширине (Bhoany) и глубине (Hhoany) хоан: черные кружки – популяция-I, белые кружки – популя- ция-II. Цифрами обозначены местонахождения коллекционных экземпляров (соответствуют рис. 1).
Следовательно, на нашем материале диагностическими признаками северной популяции-I можно считать узкие хоаны самцов (27.0–32.5 мм, M = 30.2 мм), мелкие хоаны самок (11.5–14.0 мм, M = 13.1 мм) и низкий индекс площади поперечного сечения хоан (345–422 мм2, M = 387 мм2). В качестве диагностических признаков южной популяции-II можно рассматривать широкие хоаны самцов (35.0–40.8 мм, M = 36.5 мм), глубокие хоаны самок (14.5–17.0 мм, M = 15.8 мм) и больший индекс площади поперечного сечения хоан (434–484 мм2, M = 462 мм2) (табл. 2). Диагностические признаки популяций не перекрываются.
С формой задних хоан у самцов коррелирует ширина нёба на уровне переднего края задних хоан. У самцов популяции-I нёбо более узкое (43.5–53.7 мм, M= 47.9 мм, n = 7) и у самцов популяции-II шире (51.9–55.6 мм, M = 53.6 мм, n = 4). Выборка самцов популяции-II из верховий Хуанхэ отличается большими размерами черепа, в частности, по средним значениям кондилобазилярной длины черепа (Сbl), длины нижней челюсти (Lman) и длины верхнего зубного ряда (LC–M2), но из-за малых выборок невозможно оценить достоверность различия средних значений (табл. 2).
ОБСУЖДЕНИЕ
Местонахождения типовых экземпляров пяти описанных подвидов в Центральной Азии показаны на рис. 1. Для бурого медведя Тибета в настоящее время применяют название U. a. pruinosus Blyth 1854, тип из Лхасы, КНР (включая U. a. lagomyia- rius Przewalski 1883, тип из хр. Думбуре, северный Тибет), а для популяций бурого медведя Гималаев и Тянь-Шаня используют старший синоним U. a. isabellinus Horsf. 1827, тип из Непала, но последние молекулярные исследования показали идентичность бурых медведей Непала и юга Тибетского плато. Поэтому для названия подвида из Гималаев и Тянь-Шаня должен быть выбран другой старший синоним (см. ниже). Выделяют также подвид из пустыни Гоби, U. a. gobiensis Sok. et Orl. 1992, тип из Заалтайской Гоби, Монголия, и подвид U. a. collaris Geof. et F. Cuv. 1824 из Южной Сибири, тип из Восточных Саян.
Кратко охарактеризуем диагностические признаки бурых медведей Тибета по данным, приведенным в монографии Барышникова (2007). Черепа бурого медведя Тибета (U. a. pruinosus) по средним значениям основной длины (промер 3) (318 мм, n = 21) не отличаются от черепов медведей из Южной Сибири (U. a. collaris) (316 мм, n = 41). В обеих выборках черепа (по основной длине) крупнее, чем выборки из Гималаев и Тянь-Шаня (U. a. isabellinus) (287 мм, n = 9). От U. a. collaris тибетские медведи отличаются по ширине нёба на уровне М2 (промер 16), высоте черепа в области затылка (промер 20) и высоте нижней челюсти на уровне диастемы (промер 27), а от U. a. isabellinus, кроме того, длиной ряда верхних зубов Р4-М2 (промер 9), длиной ряда нижних зубов I-m3 (промер 23) и p4–m3 (промер 24) [значения промеров и их обозначения даны по: Барышников (2007), табл. 98, 100, промеры рис. 2, 3, 4].
Особенно интересны крупные размеры щечных зубов медведей Тибета. У бурого медведя размеры зубов географически варьируют в соответствии с характером поедаемого корма. Наиболее мелкозубые звери (относительно общих размеров) встречаются в Евразии на Дальнем Востоке России – Камчатке, Сахалине (Барышников, 2007, с. 370), где они осенью кормятся лососем, идущим в реки на нерест. Медведи Тибета, питающиеся жесткими растительными кормами и выкапывающие из подземных убежищ пищух и сурков, напротив, относительно крупнозубые (Барышников, 2007, с. 372). Свидетельством потребления ими пищи с высоким абразивным эффектом служит повышенная стертость жевательной поверхности, поэтому почти вся изученная тибетская выборка взрослых животных имеет сильно стертые коренные зубы.
В названии pruinosus бурого медведя Тибета отражен блеск меха с сединой (Blyth, 1854), известный, но редкий тип окраски бурых медведей. Из-за крайне выраженного полиморфизма окраски медведей Тибета невозможно заметить каких-либо межпопуляционных различий. В коллекции медведей из Тибета (ЗИН РАН) окраска шкур варьирует от золотисто-беловатой до черно-бурой (Флеров, 1935). “Цвет шерсти весьма изменчив. Преобладает темно-бурый у самца и более светлый белесый у самки. Видел совсем черного самца и сивую самку” (Пржевальский, 1883, с. 168). В качестве бросающейся в глаза характерной особенности отмечается неравномерность осветления волосяного покрова, при которой более темными остаются конечности и задняя часть туловища (Пржевальский, 1883; Lydekker, 1897; Флеров, 1935). Такая неравномерность осветления создает пестроту окраски, заметную даже у медвежат (“пестрые медведи” по: Козлов, 1906). Возможно, столь значительный полиморфизм окраски бурых медведей Тибета указывает на инбридинг в малых популяциях этого вида, проходивших “бутылочное горлышко”.
К.К. Флеров (1935) отметил диагностическую особенность черепов тибетских медведей – расходящиеся концы птеригоидных отростков, ограничивающих хоаны (рис. 4). По этому признаку тибетские медведи сходны только с гобийским медведем из Монголии (U. a. gobiensis Sok. et Orl.) (Cоколов, Орлов, 1996, рис. 69).
Морфометрический анализ черепов бурого медведя показал существование в XIX веке двух популяций этого вида в Тибете. Ареал северной популяции-I охватывал хребты Наньшаня и Куньлуня, окаймляющие с севера высокогорное плато Тибета, и, насколько известно, заходил в северную часть плато до хр. Куку-Шили включительно (северо-запад провинции Цинхай, КНР). Известный ареал южной популяции-II ограничен в провинции Цинхай верховьями главных рек Тибета – Хуанхэ, Янцзы (Chag Jiang) и Меконга (юго-восток провинции) (рис. 1). В литературе мы не нашли изображений черепов (вид снизу) бурых медведей из южной части Тибетского плато, но в Непале, судя по фотографии черепа самца (Aryal et al., 2010), встречается фенотип популяции-II с широкими хоанами. Поэтому можно предположить, что ареал популяции-II охватывает весь Южный Тибет, включая Гималаи Непала.
В северной популяции-I, при одинаковой ширине хоан (Bhoany) у самцов и самок, самцы отлича- ются большей глубиной хоан (Hhoany) и бóльшим индексом площади поперечного сечения хоан. В популяции-II при одинаковой глубине хоан самцы отличаются большей шириной хоан и также большим индексом хоан, причем различия самцов обеих популяций по ширине хоан и самок по глубине хоан не перекрываются (табл. 2). Отмеченные особенности бурых медведей Тибета могут быть связаны с анатомическим строением носоглотки, органа дыхательной системы, который обеспечивает прогрев воздуха до оптимальной температуры, прежде чем воздух попадет к бронхолегочным тканям.
В эволюции бурого медведя Тибета исходным мог быть тип хоан северной популяции-I, в то время как популяция-II эволюционировала в условиях крайне холодного и разреженного воздуха высокогорного плато. Климат и разреженность воздуха резко отличаются в местообитаниях медведей популяции-I в горах севернее плато и на самом плато. Лишь отдельные вершины хр. Наньшань и восточной части системы Куньлунь достигают высоты 5000–6000 м, а перевалы находятся на высотах 3000 м и ниже. Напротив, средняя высота плато Тибета близка к 5000 м. Русские путешественники XIX века сравнительно легко и без акклиматизации работали в хребтах севернее плато и испытывали огромные трудности при работе на плато. Вагоны современной Цинхай-Тибетской железной дороги (открыта в 2006 г.) оборудованы подкачкой кислорода и кислородными масками.
Индекс хоан приблизительно одинаков у самцов в обеих популяциях, судя по изменчивости крайних значений (табл. 2). Но у самцов популяции-II более широкие и уплощенные хоаны могут коррелировать с широкой и уплощенной носоглоткой, которая, при сохранении объема, обеспечивает лучший прогрев воздуха за счет соотношения объема и площади слизистой поверхности. У самок популяции-II индекс площади поперечного сечения хоан увеличен по крайним значениям, поскольку увеличена глубина хоан (табл. 2). Следовательно, адаптация к условиям плато Тибета у самцов и самок шла разными путями.
Две выделенные популяции бурых медведей Тибета могут рассматриваться как подвиды, географически обособленные, адаптированные к разным условиям местообитаний и контактирующие в райо- не верховий Хуанхэ и Янцзы. За южной популяцией-II может быть оставлено принятое в настоящее время название подвида тибетского медведя, U. a. pruinosus Blyth 1854 или U. a. isabellinus Horsf. 1827. Тогда северная популяция-I получает название U. a. lagomyiarius Przewalski 1883, предложенное Пржевальским (1883) как видовое для медведя “любителя пищух” из Северного Тибета. В последующих работах это название рассматривалось в качестве младшего синонима pruinosus (Lydekker, 1897; Огнев, 1931; Ellerman, MorrisonScott, 1951).
Возникновение различающихся географических рас одного вида на обширном Тибетском нагорье вполне вероятно. Примером могут служить два экологических типа дикого яка (Bos mutus Prz.), которые обитают на хребтах Куньлунь и Наньшань. Эти дикие яки различаются телосложением, размерами и поведением (Leslie, Schaller, 2009; Васильев, 2021).
Ursus arctos L. 1758
Ursus arctos lagomyiarius Przewalski 1883
Диагноз. Бурый медведь с крупными (по сравнению с размерами черепа) щечными зубами; от U. a. pruinosus отличается узкими хоанами самцов (промер Bhoany), 27.0–32.5 мм, и глубокими хоанами самок (промер Hhoany), 11.5–14.0 (рис. 4В, табл. 2).
Лектотип (Абрамов, Барышников, 1990, с. 9): ЗИН О.1458, череп, ЗИН С.1655, шкура, ♂ ad., Сев. Тибет, сев. склон хр. Думбуре, примыкающего с востока к хребту Куку-Шили [пров. Цинхай, КНР], добыт X–XI, 1879 г., Н.М. Пржевальский.
Распространение. Центральная Азия, хребты Наньшаня и системы Куньлуня, окаймляющие с севера плато Тибета, а также север Тибетского плато до верховий рек Хуанхэ и Янцзы (северо-запад провинции Цинхай, КНР).
В качестве местонахождения типа U. a. lagomyiarius Przewalski указывали горы Куку-Шили (35о с.ш., 96о в.д.), поскольку описание нового вида Н.М. Пржевальский поместил в раздел с описанием этого горного хребта (Гептнер и др., 1961). Но в работе Н.М. Пржевальского более точно указано место добычи самца и самки медведя: “На северном склоне Думбуре… великолепный самец был убит казаком Калмыниным. Вновь добытый экземпляр медведя красуется ныне в музее С.-Петербургской Академии Наук, вместе с самкою, убитою ранее того в горах Куку-Шили препаратором Коломейцовым” (Пржевальский, 1883, с. 223).
Безусловно, не следует ожидать морфологического хиатуса между двумя подвидами. У подвидов, не изолированными географически, всегда обнаруживается переходная зона, большей или меньшей ширины. Часто ее рассматривают как следствие вторичного контакта ранее изолированных популяций (Mayr, 1969). Отсутствие такой зоны вторичной интерградации между двумя популяциями бурого медведя Северного Тибета может быть следствием малых выборок, а также относительно небольшого перекрывания ареалов в прошлом.
Численность бурых медведей Тибета оценивается в 6300 особей на площади 2 400 000 км2, т.е. на всей территории Тибета, поэтому охранный статус зверей определен МСОП как LC (“вызывающий наименьшие опасения”) (McLellan et al., 2017). Но очевидно, что численность медведей в разных регионах Тибета различается. Северо-восточная часть Тибета, провинция Цинхай, КНР, была раньше освоена человеком, и популяция медведей в ней пострадала сильнее, по сравнению с южным Тибетом (Тибетским автономным округом, КНР), или, возможно, даже вымерла. Уже во второй половине XIX века, когда у местных жителей еще не было нарезного оружия, медведи в этой части Тибета были редки. За все время своей первой трехлетней экспедиции в провинции Цинхай Н.М. Пржевальский лишь один раз видел медведя (Пржевальский, 1875). И только целенаправленные поиски последующих экспедиций в трудно доступных участках гор позволили собрать коллекционные материалы по этому виду. Уточнение таксономического статуса популяций бурого медведя в северной части провинции Цинхай может повлиять и на оценку их охранного статуса в соответствии с современной численностью. Описание популяции-I Северного Тибета как самостоятельного подвида стимулирует принятие более жестких мер по ее охране, а в худшем случае эта популяция останется в памяти как вымерший подвид.
Очевидно, что таксономические исследования медведей Тибета в настоящее время не завершены и нуждаются в продолжении с использованием молекулярных методов. В филогеографических исследованиях медведей Тибета были использованы образцы из Южного Тибета (200 км севернее Лхасы) и двух районов Непала (Lan et al., 2017) (рис. 1). Гаплотипы медведей из Тибета и Гималаев Непала группируются в кладу 5, сестринскую по отношению клады 6 медведей Западных Гималаев (Индия, Пакистан) и гобийского медведя Монголии (Lan et al., 2017; нумерация клад по: Hirata et al., 2013). Бурых медведей клады 5 можно рассматривать как реликтовую группу, рано отделившуюся от других популяций евразийского бурого медведя (Galbreath et al., 2007; Lan et al., 2017; Segawa et al., 2021; Tumendemberel et al., 2023).
Четвертый исследованный генетический образец медведей Тибета получен из костного материала медведя, завезенного в зоопарк Нью-Йорка с неизвестным местом отлова в Тибете. По молекулярным данным (Lan et al., 2017) этот образец вместе с образцами из Сирии и Турции оказался относящимся к другой кладе. Вероятно, этот медведь был отловлен в наиболее доступных горах провинции Цинхай, в области распространения подвида U. a. lagomyiarius, потому что перевозка живого медведя с высокогорного плато Тибета крайне сложна.
Уже полученные последние молекулярные данные по медведям Тибета и Гималаев в будущем неизбежно приведут к изменению подвидовой таксономии медведей Центральной Азии. Места обитания бурых медведей клады 6 в Гималаях Индии и клады 5 в Непале и Тибете географически близки, но изолированы высокими пиками Гималайских гор и сохранились как генетически различные линии (Lan et al., 2017). Поэтому в будущем название U. a. isabellinus Horsfield 1826 станет старшим синонимом U. a. pruinosus Blyth 1854, а за медведями Западных Гималаев, Памиро-Алая и Тянь-Шаня может быть закреплено название U. a. leuconyx Severtzov 1873, тип из Тянь-Шаня.
Разнообразие генетической структуры популяций бурых медведей Центральной Азии формировалось под влиянием изменения экосистем и динамики ареалов в плейстоцене. Среднее время изоляции бурых медведей южного Тибета митохондриальной клады 5 было оценено в 340 тыс. л. н. (Hirata et al., 2013; Lan et al., 2017). Причины накопления внутривидовых различий часто связаны с фрагментацией ареалов в ледниковые эпохи плейстоцена, показанной, например, для видов умеренных областей Европы (Hewitt, 1999). В Центральной Азии известно четыре ледниковых цикла плейстоцена, сопровождавшихся значительными изменениями климата и экосистем (Zheng et al., 2002). По молекулярным датам времени изоляции медведей Тибета можно предположить, что изоляция этой группы медведей началась в рефугиумах длительного ледниковья Гусянг (Guxiang) в среднем плейстоцене, 300–130 тыс. л. н. После относительно короткого межледниковья фрагментация ареала медведей Тибета продолжалась в ледниковье Байю (Baiyu) в позднем плейстоцене, 70–10 тыс. л. н.
Последнее ледниковье Байю стало периодом обводнения пустынь Центральной Азии. На месте современных пустынь в то время существовали разнообразные эфедровые степи с обилием озер и рек, берущих начало в ледниках Наньшаня и Монгольского Алтая (Мурзаев, 1966). Фауна “озерной стадии” плейстоценовых степей современной пустыни Гоби могла быть разнообразной и богатой, включающей копытных и крупных хищных млекопитающих, таких как тигр (Panthera tigris L.). Практически полное сходство митохондриальных последовательностей двух географически удаленных подвидов тигра, вымершего туранского (P. t. virgata Illiger) и современного амурского (P. t. altaica Temm.) (Driscoll et al., 2009), можно объяснить только существованием единого ареала вида от Каспия до бассейна Амура в верхнем плейстоцене, включавшего территории современной пустыни Гоби. Изоляция этих подвидов 10 тыс. л. н. по митохондриальным данным (Driscoll et al., 2009) совпадает с опустыниванием экосистем Центральной Азии при переходе от плейстоцена к голоцену. Реликтом “озерной стадии” плейстоцена указывают и современного гобийского медведя (Cоколов, Орлов, 1996), выжившего в низкогорьях крайне аридной, но с оазисами и родниками, Заалтайской Гоби в Монголии (рис. 1, V), и генетически сходного с бурым медведем Гималаев (Tumendemberel et al., 2023).
Восстановленный ареал бурого медведя Тибета севернее Наньшаня включает значительную область стока рек на север (McLellan et al., 2017) и почти доходит до исторического ареала гобийского медведя (рис. 1). Медведей Северного Тибета и гобийского медведя Монголии сближают некоторые общие особенности пищевого поведения, которые впервые отметил Банников (1954). Гобийские медведи в осенние месяцы кормятся преимущественно ягодами селитрянки, так же как и медведи Куньлуня, которые специально спускаются осенью с гор в пустынную котловину Цайдам (Прже- вальский, 1883).
Современная структура популяций бурого медведя Тибета могла формироваться в процессе заселения высокогорного плато в голоцене, как из южных, так и северных рефугиумов. Южными убежищами для фауны Тибетского плато в ледниковые периоды считают горы Хэндуаньшань юго-восточнее плато и южные склоны Гималаев юго-западнее (Zhang, Zheng, 1981). Популяции, расселявшиеся из южных горных рефугиумов, длительное время эволюционировали в условиях высокогорного плато Тибета, и в таких популяциях отбор мог сформировать отличающийся тип хоан южной популяции-II, описанный для медведей из верховий главных рек Тибета. Северным рефугиумом медведей Тибета в последнее ледниковье стали межгорные котловины хребтов, окаймляющих с севера высокогорное плато Тибета и плейстоценовые эфедровые степи севернее Наньшаня, в области рек, бравших начало в ледниках (современная пустыня Гоби).
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке по теме государственного задания ЗИН РАН “Филогения, морфология, экология и систематика наземных позвоночных”, номер темы 122031100282-2 (ГФБ).
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
В данной работе отсутствуют исследования человека или животных, соответствующих критериям Директивы 2010/63/EU.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы данной работы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
About the authors
V. N. Orlov
Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences
Email: deniskrivonogov@mail.ru
Russian Federation, Moscow, 119071
G. F. Baryshnikov
Zoological Institute, Russian Academy of Sciences
Email: deniskrivonogov@mail.ru
Russian Federation, St. Petersburg, 199034
D. M. Krivonogov
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Arzamas Branch
Author for correspondence.
Email: deniskrivonogov@mail.ru
Russian Federation, Arzamas, 607220
A. V. Shchegol’kov
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Arzamas Branch
Email: deniskrivonogov@mail.ru
Russian Federation, Arzamas, 607220
References
- Абрамов А.В., Барышников Г.Ф., 1990. Каталог типовых экземпляров коллекции Зоологического института СССР. Млекопитающие. Вып. 2. Хищные (Carnivora), хоботные (Proboscidea), десмостилии (Desmostylia). Л.: ЗИН РАН. 23 с.
- Банников А.Г., 1954. Млекопитающие Монгольской Народной Республики. М.: Наука. 669 с.
- Барышников Г.Ф., 2007. Медвежьи (Carnivora, Ursidae). СПб.: Наука. 541 с. (Фауна России и сопредельных стран. Млекопитающие. Т. 1. Вып. 5).
- Васильев С.К., 2021. Остатки байкальского яка (Poehpagus mutus baikalensis N. Verestchagin, 1954) из позднеплейстоценовых местонахождений Южной Сибири. Труды Зоологического института РАН. Т. 325. № 4. С. 384–408.
- Гептнер В.Г., Насимович А.А., Банников А.Г., 1961. Млекопитающие Советского Союза. Парнокопытные и непарнокопытные. М.: Высшая школа. Т. 1. 776 с.
- Грум-Гржимайло Г.Е., 1907. Описание путешествия в Западный Китай. Т. 3. СПб.: Изд. Импер. Русск. Геогр. Об-ва. 531 с.
- Козлов П.К., 1906. Монголия и Кам. Труды экс. Имп. Русск. Геогр. Об-ва, совершенной в 1899-1901 гг. Т. 1, ч. 2. СПб.: С. 257–734.
- Мурзаев Э.М., 1966. Природа Синьцзяна и формирование пустынь Центральной Азии. М.: ГИГЛ. 382 с.
- Огнев С.И., 1931. Звери Восточной Европы и Северной Азии. 2. Хищные млекопитающие. М.–Л.: Госиздат. 776 с.
- Пржевальский Н.М., 1875. Монголия и страна тангутов. Трехлетнее путешествие в восточной нагорной Азии. Второе путешествие по Центральной Азии. Т. 1. СПб.: Изд. Импер. Русск. Геогр. Об-ва. 330 с.
- Пржевальский Н.М., 1883. Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки. Третье путешествие по Центральной Азии. СПб.: Изд. Имп. Русск. Геогр. Об-ва. 473 с.
- Пржевальский Н.М., 1888. От Кяхты на истоки Желтой реки, исследование северной окраины Тибета и путь через Лоб-Нор по бассейну Тарима. Четвертое путешествие в Центральной Азии. СПб.: Изд. Имп. Русск. Геогр. Об-ва. 536 с.
- Роборовский В.И., 1900–1901. Труды экспедиции Императорского Русского Географического Общества по Центральной Азии, совершенной в1893–1895 гг. под начальством В.И. Роборовского. СПб.: Изд. Импер. Русск. Геогр. Об-ва. Части 1–3.
- Роборовский В.И., Козлов П.К., 1896. Экскурсии в сторону от путей Тибетской экспедиции. СПб.: Изд. Импер. Русск. Геогр. Об-ва. 128 с.
- Cоколов В.Е., Орлов В.Н., 1996. Гобийский медведь, мазаалай – Ursus gobiensis Sokolov et Orlov, 1992 // Редкие животные Монголии (позвоночные) / под ред. акад. В.Е. Соколова. М.: ИПЭЭ РАН. С. 136–141.
- Флеров К.К., 1935. Хищные звери (Fissipedia) Таджикистана // Виноградов Б.С. и др., Звери Таджикистана, их жизнь и значение для человека. С. 131–171.
- Abbas F., Bhatti Z.I., Haider J., Mian A., 2015. Bears in Pakistan: distribution, population biology and human conflicts // J. Biores. Manage. V. 2. Р. 1–13.
- Aryal A., Sathyakumar S., Schwartz C.C., 2010. Current status of the brown bear in Manasalu Conservation Area Nepal // Ursus. V. 21. P. 109–114.
- Blyth J., 1854. Report of zoological curator for September meeting // Proceedings of the Asiatic Society Bengal. V. 22. P. 589.
- Chestin I.E., 1996. Variability in skulls of Central Asian brown bears // Journal of Wildlife Research (Poland). V. 1. P. 70–75.
- Driscoll С.A., Yamaguchi N., Bar-Gal G.K. et al., 2009. Mitochondrial phylogeography illuminates the origin of the extinct Caspian tiger and its relationship to the Amur tiger // PLoS ONE 4(1): e4125.
- Ellerman J.R., Morrison-Scott T.C.S., 1951. Check-list of Palaearctic and Indian Mammals 1758 to 1946. London. 850 p.
- Galbreath G.J., Groves C.P., Waits L.P., 2007 Genetic resolution of composition and phylogenetic placement of the isabelline bear // Ursus. V. 18. P. 129–131.
- Hewitt G.M., 1999. Post-glacial recolonization of European biota // Biological Journal of the Linnean Society. V. 68. P. 87–112.
- Hirata D., Mano T., Abramov A.V. et al., 2013. Molecular phylogeography of the brown bear (Ursus arctos) in northeastern Asia based on analyses of complete mitochondrial DNA sequences // Mol. Biol. Evol. 30, P. 1644–1652.
- Lan T., Gill S., Bellemain E. et al., 2017. Evolutionary history of enigmatic bears in the Tibetan Plateau–Himalaya region and the identity of the yeti // Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. V. 284. № 1868. P. 20171804.
- Leslie D.M., Schaller G.B., 2009. Bos grunniens and Bos mutus (Artiodactyla: Bovidae) // Mammalian species, V. 836. P. 1–17.
- Lydekker R., 1897. The blue bear of Tibet, with notes on the members of the Ursus arctos group // Proceeding Zool. Soc. London. P. 412–426.
- Mayr E., 1969. Principles of systematic zoology. N.Y.: Mc-Grow Hill Bok Co. 428 p.
- McLellan B.N., Proctor M.F., Huber D., Michel S., 2017. Ursus arctos (amended version of 2017 assessment) // The IUCN Red List of Threatened Species. e.T41688A121229971.
- Segawa T., Yonezawa T., Mori H. et al., 2021. Ancient DNA reveals multiple origins and migration waves of extinct Japanese brown bear lineages // Royal Society Open Science. V. 8. № 8. P. 210518.
- Tumendemberel O., Hendricks S.A., Hohenlohe P.A. et al., 2023. Range-wide evolutionary relationships and historical demography of brown bears (Ursus arctos) revealed by whole-genome sequencing of isolated central Asian populations // Molecular Ecology.
- doi: 10.1111/mec.17091
- Yang S., Dong H., Lei F., 2009. Phylogeography of regio- nal fauna on the Tibetan Plateau: a review // Progress Nat. Sci. V. 19. P. 789–799.
- Zhang R., Zheng C., 1981. The geographical distribution of mammals and the evolution of mammalian fauna in Qinghai–Xizang Plateau // Geological and ecological studies of Qinghai–Xizang Plateau. Beijing: Science Press. P. 1005–12.
- Zheng B., Xu Q., Shen Y., 2002. The relationship between climate change and Quaternary glacial cycles on the Qinghai-Tibetan Plateau: review and speculation // Quaternary Int. V. 97. P. 93–101.
Supplementary files