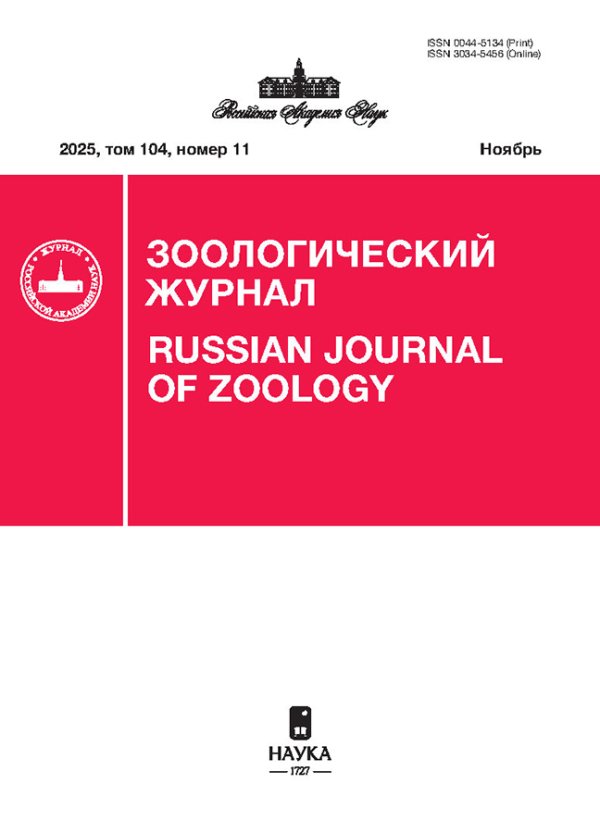I. S. Darevsky (1924–2009) and rock lizards of the Caucasus: from geographic parthenogenesis to reticulate (hybridogenous) speciation
- Authors: Borkin L.J.1
-
Affiliations:
- Zoological Institute, Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 103, No 11 (2024)
- Pages: 7-39
- Section: ARTICLES
- URL: https://journal-vniispk.ru/0044-5134/article/view/276353
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044513424110014
- EDN: https://elibrary.ru/tlwjah
- ID: 276353
Cite item
Full Text
Abstract
The path taken by I. S. Darevsky to the discovery of natural parthenogenesis in rock lizards of the Caucasus (1957, 1958) is tracked, as well as his further developments of the problem of parthenogenesis in lizards in his main papers (1962, 1966, 1967) and monograph (1967). The following issues are considered: geographic and hybrid parthenogenesis, subspecies and species in unisexual lizards, spontaneous males in parthenogenetic species, the essence of I. S. Darevsky’s discovery in the context of different categories of clonal reproduction in animals, the formation of the concept of reticular speciation, and the evolutionary age of clonal forms in various groups of animals.
Full Text
Данная статья посвящена 100-летнему юбилею известного советского и российского зоолога Ильи Сергеевича Даревского (18 декабря 1924 – 8 августа 2009), ставшего в 1970-е годы одним из лидеров отечественной герпетологии с широкой международной известностью. Отмечу несколько важных штрихов его биографии, полезных для понимания научного пути ученого (подробнее см. Боркин, 2011; Даревский, 2014; Ананьева, Доронин, 2014, 2015).
И. С. Даревский родился в Киеве, но детские годы провел в районном городке Рокитно, Белоцерковский район, Киевская область, Украинская ССР (СССР). Школу и университет окончил в Киеве. Уже подростком увлекся изучением амфибий и рептилий и стал вести переписку с известным советским герпетологом С. А. Черновым (1903–1964), который заведовал отделением герпетологии Зоологического института (ЗИН) АН СССР, Ленинград. В ходе Великой Отечественной войны в августе 1942 г. был мобилизован и отправлен на Западный фронт; дважды ранен, стал старшим лейтенантом (1944), награжден орденом и медалями. После демобилизации в марте 1946 г. приехал в Москву, где в возрасте 23 лет в 1948 г. сдал экстерном необходимые экзамены на аттестат зрелости и поступил на биолого-почвенный факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Под руководством Н. В. Шибанова (1903–1960) защитил дипломную работу «Эколого-фаунистический очерк пресмыкающихся Армении» (1953). В 1954 г. переехал в Ереван, где был зачислен сначала сотрудником в зоопарк, а затем в Институт зоологии АН Армянской ССР, параллельно устроившись в заочную аспирантуру ЗИН АН СССР.
В марте 1958 г. защитил в ЗИН АН СССР кандидатскую диссертацию по герпетофауне Армении; научным руководителем был С. А. Чернов. Младший научный сотрудник (1954), ученый секретарь (1960), исполняющий обязанности заведующего сектором позвоночных (1962) в Институте зоологии АН АрмССР. 27 марта 1962 г. И. С. Даревский перешел на работу в ЗИН АН СССР на должность младшего научного сотрудника, став заведующим отделением герпетологии. Таким образом, он продолжил научную преемственность по линии А. М. Никольский (Санкт-Петербург, Харьков) – С. А. Чернов (Харьков, Ленинград) – И. С. Даревский (Киев, Москва, Ереван, Ленинград). В мае 1967 г. защитил докторскую диссертацию «Скальные ящерицы Кавказа». Старший научный сотрудник (1967), председатель Всесоюзного герпетологического комитета (1973), профессор (1978), член-корреспондент АН СССР (1987), президент Герпетологического общества имени А. М. Никольского (1989)1, член, в том числе почетный, многих отечественных и зарубежных научных обществ.
Данная статья написана для специального выпуска «Зоологического журнала» памяти И. С. Даревского и состоит из двух частей, которые взаимосвязаны и переходят одна в другую. В первой части кратко описывается непростой путь к открытию естественного партеногенеза у скальных ящериц Кавказа. Во второй части рассматривается начало формирования концепции сетчатой эволюции у животных, которая сочетает гибридизацию, клональное наследование и полиплоидию. В следующей статье, которая по факту составит третью часть, будет проанализирована сама концепция сетчатого видообразования, обязательность сочетания гибридизации, клональности и полиплоидии, а также возможные другие варианты сетчатой эволюции, в частности так называемое гомоплоидное видообразование.
При чтении многочисленных публикаций следует иметь в виду, что скальные ящерицы Кавказа фигурируют в них под различными названиями родовой группы. Во второй половине XX столетия они считались частью Lacerta Linnaeus, 1758. Таксономическая структура этого обширного афро-евразиатского рода была сложной (группы видов, секции, подроды) и заметно различалась в представлениях разных авторов. И. С. Даревский (1967б), вслед за другими исследователями (Lantz, Cyrén, 1936: 160; Терентьев, Чернов, 1949: 176), относил скальных ящериц Кавказа к подроду Archaeolacerta, а позже к роду Archaeolacerta (Даревский и др., 1991). Авторство этого названия приписывают или Лайошу Мехели (Méhely, 1909), или гораздо чаще Роберту Мертенсу (Mertens, 1921: 239). Однако, на мой взгляд, оба варианта требуют тщательного анализа с точки зрения зоологической номенклатуры, что не является предметом данной статьи.
В XX в. скальных ящериц относили также к двум секциям: III. Zootoca с включением Lacerta derjugini Nikolsky, 1898 и IV. Podarcis с включением Lacerta chlorogaster Boulenger, 1908 и Lacerta muralis, Group V, т. е. saxicola и ряда других близких разновидностей (Boulenger, 1920: 126, 150 и 177; см. также Терентьев, 1961: 223 и 225), а позже к подроду Apathya s. l. (Bischoff, 1991: 8). В самом конце прошлого столетия скальные ящерицы были выделены независимо в особый подрод Caucasilacerta Harris, Arnold et Thomas, 1998 рода Lacerta (Harris et al., 1998: 1947) и в самостоятельный род Darevskia Arribas, 1999: 17. У обоих номинальных таксонов один и тот же типовой вид – Lacerta saxicola Eversmann, 1834. В результате обсуждения (см. Arribas, 2016; Busack et al., 2016; Arribas et al., 2017, 2018) Международная комиссия по зоологической номенклатуре приняла решение в пользу Darevskia, отвергнув Caucasilacerta как nomen nudum (см. International Commission on Zoological Nomenclature, 2020).
Название Archaeolacerta также сохранилось, хотя объем этого рода был уменьшен до трех видов ящериц, обитающих на Балканах и островах Корсика и Сардиния (Arribas, 1999: 11). Позднее на основании сочетанной дендрограммы с учетом митохондриальных и ядерных генов было показано (см. Mendes et al., 2016: 263, Fig. 4), что Archaeolacerta – это монотипический род, включающий лишь островную ящерицу Бедряги, Archaeolacerta bedriagae (Camerano, 1885) и кладистически близкий также к монотипическому роду Zootoca Wagler, 1830, но далекий от скальных ящериц (Darevskia), что было подтверждено (Garcia-Porta et al., 2019: 3, Fig. 1).
Статья написана в историко-аналитическом ключе, с учетом хронологии научных трудов И. С. Даревского. Латинские названия приведены в соответствии с их написанием в публикациях. Открытие партеногенеза у ящериц рассматривается на фоне достижений в изучении клонального размножения у позвоночных животных в целом.
Открытие природного партеногенеза у скальных ящериц Кавказа
1 октября 1958 г. в “Докладах АН СССР” (рис. 1) была опубликована небольшая статья тогда еще не очень известного 33-летнего герпетолога из Еревана, всего лишь немногим больше года назад окончившего заочную аспирантуру в ЗИН АН СССР. В статье И. С. Даревского были приведены доказательства наличия партеногенеза в природной популяции скальной ящерицы Lacerta saxicola armeniaca Méhely, 1909; сейчас эта ящерица считается самостоятельным видом Darevskia armeniaca (Méhely, 1909); см. рис. 2. Доказательство столь серьезного утверждения строилось на отсутствии самцов в природе и на получении только самочного потомства от неоплодотворенных самок. Это была смелая заявка на важное открытие в области герпетологии (и, добавлю, зоологии позвоночных в целом).
Рис. 1. Статья И. С. Даревского (1958) об открытии партеногенеза у скальных ящериц Кавказа.
Статья была представлена в “Доклады” 16 мая того же года директором ЗИН АН СССР академиком Е. Н. Павловским (1884–1965). Это означало, что рукопись была сначала одобрена в институте, в том числе С. А. Черновым, который опекал И. С. Даревского в течение многих лет (см. выше).
Особенность ситуации заключалась в том, что С. А. Чернов (1939) в 1924 и 1936 годах сам проводил полевые исследования в Армении. На основании своих данных, а также литературных и музейных сведений он (1939: 115) пришел к выводу о численном преобладании самок у “армянской скалистой ящерицы”, поскольку среди обследованных им 180 особей, собранных в разное время, оказалось всего лишь семь самцов2. Однако С. А. Чернов был далек от мыслей о возможном однополом размножении у подвида. Редкость самцов у этой формы, а также у “L. s. bythinica” отмечалась и ранее (Lantz, Cyrén, 1936: 167).
Важно заметить, что в своей предыдущей статье, посвященной систематике и экологии скальных ящериц Армении, И. С. Даревский (1957) описал в качестве новых подвидов Lacerta saxicola dahli и Lacerta saxicola rostombekowi3, которые потом будут признаны самостоятельными партеногенетическими видами. Ныне это – ящерица Даля, Darevskia dahli (Darevsky, 1957) и ящерица Ростомбекова, Darevskia rostombekowi (Darevsky, 1957). Тогда в своей статье И. С. Даревский лишь указал, что самцы у этих обеих форм неизвестны (с. 35 и 54), а у Lacerta saxicola armeniaca редки (на рис. 8 была приведена фотография самца). Однако у Lacerta saxicola portschinskii Kessler, 1878, наоборот, самцы численно заметно преобладают над самками (Даревский, 1957: 55).
Таким образом, кроме публикации любопытных фактов о различном соотношении полов у разных подвидов скальных ящериц в Армении, никакие соображения об облигатной однополости или партеногенезе им еще не высказывались. Отмечу, что сборник со статьей был подписан к печати 26 июля 1957 г.
Рис. 2. Партеногенетическая армянская ящерица, Darevskia armeniaca (Méhely, 1909), ранее относимая к роду Lacerta; окрестности села Артаваз, марз Котайк, Армения, 1830 м над ур. м. Фото М.С. Аракелян, 01.07.2017.
Недавно было опубликовано любопытное письмо И. С. Даревского С. А. Чернову от 4 октября 1955 г. (Доронин, 2021: 126–127). В нем он извещал своего учителя, что послал ему посылку с живыми скальными ящерицами, для обозначения которых в письме уже использовал латинское название “L. sax. dahli”. И. С. Даревский сообщал также о том, что пока не закончил свою работу о подвидах и опоздал сдать ее в очередной сборник. Таким образом, эту статью по систематике он готовил не менее двух лет. О партеногенезе в письме не было ни слова (И. В. Доронин, in litt., 27.08.2024).
Однако И. С. Даревский рассматривал партеногенез у скальных ящериц в своей кандидатской диссертации по герпетофауне Армении, которую защитил в ЗИН АН СССР в марте 1958 г. (Ананьева, Доронин, 2015: 28). Действительно, в автореферате диссертации, которая по названию имела фаунистический характер, но по содержанию была гораздо шире, сказано, что в главах по экологии рассматривался вопрос: “Естественный партеногенез у некоторых подвидов скальной ящерицы (Lacerta saxicola) (10 стр.)” (Даревский, 1957а: 4). К сожалению, в самом автореферате не указана дата сдачи его в печать, а в экземпляре, которым я пользовался, нет также даты его рассылки, что было бы важно для точной датировки этого важного открытия. Тем не менее ясно, что таковым следует считать 1957, а не 1958 год.
Собственно партеногенезу у трех подвидов скальной ящерицы (“L. sax. armeniaca”, “L. sax. dahli” и “L. sax. rostombekowi”) в автореферате посвящены страницы 16–18. В качестве доказательств партеногенетического размножения у этих подвидов было указано отсутствие у них самцов и отсутствие спермиев в половых путях самок, что отличало от самок обоеполых видов, а также получение
“<…> потомства от заведомо не оплодотворенных молодых самок, отловленных осенью до наступления половозрелости, и содержащихся затем в условиях, исключающих возможность их встречи с самцами” (Даревский, 1957а: 17).
Идея о возможности гиногенеза, которая первоначально, по-видимому, не исключалась, таким образом, была отвергнута. Процитированная выше фраза явно относилась к готовящейся статье об открытии естественного партеногенеза у скальных ящериц (Даревский, 1958). Было отмечено, что большой материал был собран автором в Армении в 1957 г. совместно с цитологом В. Н. Куликовой. Сообщалось также, что изучение естественного партеногенеза будет продолжено совместно с нею (Даревский, 1957а: 18).
Действительно, затем с небольшим перерывом последовала серия важных статей И. С. Даревского, в том числе выполненных совместно с В. Н. Куликовой, сотрудницей Института цитологии АН СССР (Ленинград). В них концепция партеногенеза у скальных ящериц Кавказа развивалась дальше. Следует отметить, что В. Н. Куликова внесла значительный вклад как в доказательство наличия естественного партеногенеза у скальных ящериц, так и в развитие важных исследований на их начальном этапе, работая не только в лаборатории, но и в поле (взятие мазков у одно- и обоеполых ящериц и др.). К сожалению, ее роль в открытии явно не оценена в достаточной мере.
Итоги их совместных почти четырехлетних исследований были обобщены в солидной статье на немецком языке (Darewski, Kulikowa, 1961), опубликованной в престижном тогда журнале “Zoologische Jahrbücher” (Йена). Судя по указанной аффилиации, она была написана, когда И. С. Даревский еще работал в Ереване. Ее быстрому опубликованию содействовал известный немецкий зоолог-орнитолог проф. Эрвин Штреземанн (Erwin Stresemann, 1889–1972) в Берлине, одним из учеников которого был знаменитый зоолог-эволюционист Эрнст Майр (см. ниже). Наряду с полевыми исследованиями, были привлечены гистологические и цитологические методы.
В этой статье, состоявшей из восьми частей, были убедительно представлены различные доказательства существования партеногенеза, включая перечисленные выше, полученные как в природе, так и в экспериментах. Подробно описана цитология оогенеза у дву- и однополых форм скальных ящериц. Были обнаружены триплоидные гибридные самки, образующиеся от скрещивания диплоидных самок партеногенетических видов с самцами соседних двуполых видов. Стерильность этих самок была выявлена методом вскрытия, а также с помощью анализа половых клеток (Darewski, Kulikowa, 1961: 137).
Этой теме потом были посвящены и другие публикации (Даревский, Куликова, 1962: 169, 1964: 203–204; Даревский, 1964: 50–52; Darevsky, 1966: 135–140; см. также Darevsky, Danielyan, 1968: 66–67; Боркин, Даревский, 1980: 496, Табл. 1; Darevskiĭ, Kupriyanova, 1982: 72, Table 1; Darevsky et al., 1985: 464–465). Позже в Армении (Курчак) были найдены и фертильные триплоидные гибридные самки (Danielyan et al., 2008: 498).
Более того, помимо триплоидных самок, в разных популяциях партеногенетических скальных ящериц были выявлены также триплоидные интерсексы и самцы, в том числе фертильные (Даревский и др., 1973: 51–53; Боркин, Даревский, 1980: 496, Табл. 1; Darevsky et al., 1985: 456, Table VII, 466–467; Danielyan et al., 2008: 500; см. также с. 17). В Кучаке был идентифицирован даже тетраплоидный самец (Danielyan et al., 2008: 500).
В статье на немецком языке были также описаны различные уродства у самцов партеногенетических форм, погибавших на эмбриональной стадии развития (Darewski, Kulikowa, 1961: 156). Были рассмотрены возможные причины возникновения партеногенеза и его биологическое значение для скальных ящериц как фактора видообразования (Darewski, Kulikowa, 1961: 162). Хотя было высказано предположение о том, что однополое размножение было следствием неких межвидовых скрещиваний в лесных рефугиумах Армении в конце вюрмского оледенения (Darewski, Kulikowa, 1961: 164, 166 и 172), тем не менее “гибридная теория” была отвергнута, и ей предпочли гипотезу “географического партеногенеза” (Darewski, Kulikowa, 1961: 172; см. ниже). Все эти вопросы были потом детально изложены и развиты в серии статей и в монографии И. С. Даревского на русском языке.
Географический партеногенез
В 1962 г. И. С. Даревский опубликовал в «Зоологическом журнале» статью, в которой попытался дать объяснение происхождению партеногенеза у скальных ящериц Кавказа. Она также была написана, когда он еще работал в Ереване. Ссылаясь на различных авторов, которые указывали на связь между гибридизацией и партеногенезом, он, тем не менее, отказался от гибридной концепции, согласно которой именно гибридизация видов является основной, если не единственной, причиной возникновения партеногенеза. На такое мнение повлияли также работы известного генетика Б. Л. Астаурова (1940: 191, 195 4, 1960: 38), который на основании опытов с тутовым шелкопрядом полагал, что гибридизация непосредственно не порождает партеногенез, а лишь благоприятствует ему, хотя тесная связь между гибридизацией и партеногенезом, несомненно, существует (Даревский, 1962: 398).
Обращаясь к публикациям по облигатному естественному партеногенезу у насекомых, в частности у жуков-слоников (семейство Curculionidae) и бабочек рода Solenobia Duponchel in Godart, 1842 (семейство Psychidae), И. С. Даревский все же предпочел следовать гипотезе так называемого географического партеногенеза. Этот термин впервые появился в его статье с В. Н. Куликовой (Darewski, Kulikowa, 1961: 172).
Первоначально исчезновение самцов у двуполых видов или их исключительную редкость было предложено называть спанандрией (Marchal, 1913: 268, “spanandrie”). Термин был введен для обозначения циклической смены партеногенетических и обоеполых поколений у хермесов (семейство Adelgidae, Hemiptera). Французский зоолог Альбер Вандель (Albert Vandel, 1894–1980) обратил внимание на существование спанандрии не только во времени, но и в пространстве, приведя многочисленные примеры. В связи с этим он (Vandel, 1929: 207) стал различать два ее варианта: временну́ю, или сезонную и географическую спанандрию (“Spanandrie géographique”).
Однако впоследствии последний термин был заменен им на географический партеногенез (“Parthénogenèse géographique”), под которым понималось существование в рамках одного вида обоеполой и однополой рас (Vandel, 1929: 211). Партеногенетические расы в редких случаях скрещиваний дают уродливое потомство, могут быть представлены полиплоидами, обычно распространены севернее обоеполых (p. 211–212), возникают от них внезапно, путем мутации (p. 214) и имеют недавнее происхождение, связанное с миграциями в ходе четвертичных оледенений (Vandel, 1929: 218).
Эта идея была использована И. С. Даревским (Darewski, Kulikowa, 1961: 165–167) для объяснения перехода от обоеполых популяций скальных ящериц к однополым с потерей самцов в районах с более суровым климатом. Примеры с партеногенетическими беспозвоночными в Европе убедили его, что однополое размножение возникает в популяциях двуполого вида на периферии ареала или в горах при резких изменениях среды (Даревский, 1962: 400).
Соответственно переход к партеногенезу у скальных ящериц произошел, по его мнению, в реликтовых популяциях обоеполых видов, переживших в горных рефугиумах Армении суровые условия четвертичных оледенений, в частности воздействие вюрмского оледенения. На основе этих популяций сформировались партеногенетические расы обоеполых видов (см. также Даревский, 1962а: 52).
Тем не менее И. С. Даревский (1962: 398, 1962а: 52) все же оставил место и для гибридизации. Во-первых, он старался доказать гибридное происхождение обоеполой аджарской ящерицы, Lacerta mixta Méhely, 1909, якобы возникшей от скрещивания Lacerta saxicola Eversmann, 1834 и Lacerta derjugini Nikolsky, 1898, о чем, впрочем, подозревал и сам Л. Мехели, прямо предложивший название mixta (Méhely, 1909: 581).
Во-вторых, И. С. Даревский (1962: 398) полагал, что в результате межвидовой гибридизации обоеполых видов возникает потенциальная склонность к однополому размножению, которая реализуется при резких изменениях среды. Именно так он пытался объяснить “ненормальное соотношение полов у L. s. mixta”, которое было обнаружено в популяции, обитающей на Аджаро-Ахалцихском хребте на высоте около 2100 м над уровнем моря: среди 63 пойманных им в 1959 г. ящериц оказались всего два самца (Даревский, 1962: 397).
Что это за склонность к партеногенезу, которая “первоначально” возникает “как следствие естественной межвидовой гибридизации” (с. 398), он не пояснил. Само предположение выглядит довольно туманным, если учесть, что партеногенетические формы появлялись “географически” без всякой гибридизации, а их предполагаемые родительские обоеполые подвиды Lacerta saxicola, внутри которых они якобы возникли, также не имели гибридного происхождения и практически репродуктивно изолированы друг от друга.
Приведя примеры гибридного происхождения партеногенеза у насекомых (палочники и бабочки), а также эксперименты Б. Л. Астаурова по гибридизации разных пород и видов тутового шелкопряда с домашним, приводящие к партеногенезу, И. С. Даревский (1962: 398) все же пришел к следующему выводу:
“Однако при всей неоспоримости этих и подобных им фактов «гибридная» теория возникновения партеногенеза не пользуется окончательным признанием, и, как замечает подробно разбирающий данный вопрос Б. Л. Астауров (1940), вряд ли возможно расценивать гибридизацию в качестве универсальной и основной причины партеногенетического размножения”.
Помимо трех явных однополых подвидов, Lacerta saxicola armeniaca и Lacerta saxicola dahli и Lacerta saxicola rostombekowi, И. С. Даревский (1962: 400, 402, 405) указал также на существование однополой расы в пределах Lacerta saxicola defilippii Camerano, 1877. В ряде мест она обитала совместно с обычными обоеполыми популяциями этого же подвида (см. с. 405, карта на рис. 4). Это, по его мнению, подтверждало “явление географического партеногенеза” (с. 402). Раса проявляла некоторые стойкие отличия в фолидозе и окраске тела, а также в “биологии размножения”, достаточные “при формальном подходе” для признания подвида (Даревский, 1962: 403–404, 1962а: 53). Тем не менее он посчитал это мало оправданным, поскольку данная партеногенетическая раса существует наряду с исходной обоеполой, занимающей бо́льшую часть ареала. Однако вскоре данная точка зрения была им изменена, а сама однополая раса будет описана в качестве нового вида Lacerta unisexualis Darevsky, 1966 (см. ниже).
Через четыре года в США была опубликована первая англоязычная статья И. С. Даревского о скальных ящерицах Кавказа (Darevsky, 1966)5, в которой он подвел итоги своих исследований. По нынешним понятиям, когда всем командует порочная бюрократическая наукометрия (см. Боркин, Сайфитдинова, 2024), это был не очень престижный провинциальный журнал (издание Герпетологического общества штата Огайо6) без всяких квартилей. Тем не менее, во многом именно благодаря этой обзорной статье, начался триумфальный путь к широкому международному, особенно в США, признанию приоритета И. С. Даревского в открытии партеногенеза у пресмыкающихся. Правда, некоторую известность он уже получил благодаря переводу своей статьи (Даревский, 1958) на английский, а также подробному описанию открытия на немецком языке (Darewski, Kulikowa, 1961).
Даже сейчас статья 1966 г. производит неплохое впечатление. Она заметно выделяется своей проработанностью и тщательным подходом к зарубежной литературе. Рассматривая проблему отсутствия самцов в популяциях скальных ящериц, И. С. Даревский (Darevsky, 1966: 118) справедливо заметил, что существование однополых (самочных) форм теоретически можно было бы объяснить, привлекая три варианта размножения: гермафродитизм, гиногенез и естественный партеногенез (телитокия, т. е. когда неоплодотворенные самки рождают только самок). Однако обследование большого числа особей показало очень редкую встречаемость интерсексов. Гиногенез был отвергнут, поскольку самки, как правило, не контактируют с самцами обоеполых видов.
В поддержку гипотезы именно партеногенеза И. С. Даревский (Darevsky, 1966: 119) не только сослался на свои прежние опыты с изолированными самками Lacerta saxicola armeniaca, давшими самочное потомство (см. Даревский, 1958), но также привел еще два доказательства. Оказывается, в 1960 г. два немецких зоолога (Freise, Müller, 1962) также провели схожие опыты с армянской ящерицей и показали наличие у нее партеногенеза.
Кроме того, летом 1963 г. И. С. Даревский вместе с украинским герпетологом Н. Н. Щербаком перевез 120 половозрелых самок “Lacerta saxicola armeniaca” (= Darevskia armeniaca) за 1200 км в каньон реки Тетерев Житомирской области Украины. Интродукция прошла успешно, поскольку эти самки в итоге дали два поколения. Подробнее это было описано в заметке И. С. Даревского и Н. Н. Щербака (1967), где сообщалось о 129 завезенных самках. За 35 лет ареал украинской популяции увеличился в 10 раз, а плотность популяции даже превысила таковую в Армении. Любопытно, что была обнаружена вариабельность по одному из локусов (Даревский и др., 1998: 846–847).
В 1968 г. сюда же были подселены и 11 самцов обоеполой Darevskia mixta из Грузии с целью получения гибридов с партеногенетиками. Однако опыт оказался неудачным, так как эти ящерицы не выжили (Даревский, 2006: 370). Впоследствии выяснилось, что вместе с армянской ящерицей на Украину случайно попала и, вероятно, одна самка партеногенетического вида Darevskia dahli, которая также успешно выжила и размножилась. Хотя первоначальное место интродукции потом оказалось затопленным, партеногенетические ящерицы обоих видов сумели адаптироваться и расселиться и благополучно живут в этом районе более 50 лет (Доценко и др., 2016). Таким образом, этот полевой эксперимент по удаленному переселению скальных ящериц можно рассматривать как хорошее доказательство жизнеспособности партеногенетических видов.
В статье на английском языке (Darevsky, 1966: 118–119, 127–128) в качестве косвенного доказательства возможности естественного партеногенеза у скальных ящериц Кавказа были приведены также ссылки на публикации о развитии неоплодотворенных яиц у некоторых рыб, о случаях спонтанного партеногенетического развития у домашних индеек, в ряде случаев дающих жизнеспособное потомство, а также об искусственном партеногенезе у млекопитающих.
Подвиды или виды?
В самом конце 1965 г. И. С. Даревский (1966: 14)7 все еще считал партеногенетических ящериц Кавказа подвидами Lacerta saxicola. Однако вскоре, рассматривая их таксономический статус, он (Darevsky, 1966: 124–127) использовал морфологический, географический и “физиологический” (“генетический”) критерии вида, а также понятие агамного вида, которые детально обсудит в своей статье на русском языке (см. ниже). В итоге статус партеногенетических подвидов был поднят до видового: Lacerta armeniaca, Lacerta dahli и Lacerta rostombekowi (p. 127), а также был описан новый вид Lacerta unisexualis Darevsky, 1966: 148, ныне белобрюхая ящерица Darevskia unisexualis (Darevsky, 1966). Статус обоеполых форм (многочисленные подвиды Lacerta saxicola) не обсуждался.
Объясняя происхождение партеногенетических видов, И. С. Даревский (Darevsky, 1966: 142) остался в рамках гипотезы географического партеногенеза, предполагая переход от обоеполых к однополым популяциям с потерей самцов в районах с более суровым климатом. По его мнению, хотя механизмы такого перехода неясны, но, вероятно, именно так в условиях вюрмского оледенения в реликтовых популяциях двуполых форм скальных ящериц комплекса Lacerta saxicola могли возникнуть партеногенетические расы, которые потом при потеплении климата в голоцене быстро расширили свои ареалы благодаря высоким темпам размножения (p. 147). В условиях же симпатрии при гибридизации с обоеполым видом образуются стерильные триплоидные особи. Каждый партеновид скальных ящериц образовывал пару с сестринским обоеполым видом, которая происходила от общего двуполого предка (Darevsky, 1966: 146, Fig. 23).
На следующий год в «Зоологическом журнале» вышла специальная статья И. С. Даревского (1967) о таксономическом ранге партеногенетических форм скальных ящериц Кавказа, которых ранее он называл формами или подвидами (Даревский, 1957, 1962). По его мнению, исходя из морфологического критерия, партеногенетические формы вполне можно считать самостоятельными видами, поскольку они отличаются по фолидозу, размерам и окраске тела (Даревский, 1967: 413).
Немногим ранее для Lacerta saxicola armeniaca это же предположила и польская исследовательница Ханна Добровольска (Варшава), статистически обработавшая 11 морфологических признаков (размеры и щиткование) у 475 особей “скалистых ящериц” из Армении, хранившихся в коллекциях ЗИН АН СССР. Она также подтвердила мнение И. С. Даревского о наличии в этой республике шести самостоятельных подвидов (Добровольская, 1964: 73). Любопытно, что термин “партеногенез” ею в статье не использовался, а “L. s. dahli” и “L. s. rostombekowi”, представленных, как и L. s. armeniaca, “одними самками” (с. 71) были оставлены в подвидах. Впоследствии И. С. Даревский (1967: 413, 1967а: 10, 12; и др.) не раз, правда, не всегда правильно, цитировал эту статью в подтверждение своих взглядов.
По его мнению, видовой статус однополых популяций скальных ящериц подтверждается также географическим критерием. Ареалы партеногенетических “подвидов” в значительной степени перекрываются, но, даже обитая в совершенно сходных экологических условиях и живя рядом, партеногенетики сохраняют свою обособленность, не образуя промежуточных форм (Даревский, 1967: 414).
Наконец, в пользу видового ранга говорит и “физиологический”, или генетический критерий, согласно которому “помеси между различными видами, как правило, бывают бесплодными” (там же). Отсутствие самцов препятствует гибридизации между симпатрическими партеногенетиками, а спаривание партеногенетических самок с самцами синтопичных обоеполых “подвидов” дает лишь стерильных триплоидов. На мой взгляд, аргументация с помощью двух последних критериев выглядит несколько логически странной в отношении однополых клональных форм, которые по своей сути генетически изолированы, что, впрочем, отметил и сам И. С. Даревский. Не меняет ситуацию и появление время от времени спонтанных фертильных самцов у партеновидов из-за их редкости (см. ниже).
Осознавая принципиальные отличия партеногенетических видов от обычных обоеполых, на что указывала так называемая биологическая концепция вида, И. С. Даревский (1967: 416; см. также 1962: 401) для подкрепления своей позиции обратился к понятию агамных видов, agamospecies (Кэйн, 1958: 129), которые следует признавать при наличии их явной морфологической обособленности.
Удивительно, но, обосновывая видовой статус трех бывших партеногенетических “подвидов”, И. С. Даревский (1967) обошел вниманием эту же не менее насущную проблему в отношении более многочисленных обоеполых подвидов Lacerta saxicola Кавказа. Это тем более странно, что еще десятью годами ранее он (Даревский, 1957: 47–48) привел факты перекрывания ареалов у этих подвидов и отсутствие, за немногим исключением, гибридов между ними в условиях обитания в одних и тех же биотопах. Сохранение морфологической обособленности между подвидами даже в “смешанных популяциях” было объяснено действием экологических изолирующих механизмов, в частности различиями в брачной окраске тела.
Справедливо отметив, что, по крайней мере, некоторые обоеполые “подвиды” скальных ящериц ведут себя вполне как самостоятельные виды, тем не менее тогда И. С. Даревский (1957: 48) не решился оформить этот вопрос таксономически и оставил его открытым “для дальнейшего изучения”. Следует, однако, учесть, что приведенные им факты сосуществования разных подвидов по большей части включали пары (или тройки), состоящие из обоеполой и однополой форм ящериц, что, конечно, несколько меняет общую картину. Напомню, что термин “партеногенез” в этой статье еще не прозвучал.
Ранее в автореферате кандидатской диссертации также было сказано, что дальнейшее изучение всех членов полиморфной группы скальной ящерицы (Lacerta saxicola), “<…> покажет, по-видимому, что многие из них являются вполне самостоятельными видами” (Даревский, 1957а: 5 и 7). Позже к такому же выводу пришел его ученик Ф. Д. Даниелян (1965, см. ниже), работавший в Армении. В другой статье о скальных ящерицах Грузии отмечалось, что в ряде мест подвиды обитают совместно, как-то: Lacerta saxicola rudis и Lacerta saxicola caucasica, Lacerta saxicola obscura и Lacerta saxicola rudis, Lacerta saxicola obscura и Lacerta saxicola parvula, а также Lacerta mixta. Указанное перекрывание ареалов подвидов одного и того же вида противоречит принятым критериям подвида и ставит вопрос об их пересмотре. Поэтому Lacerta caucasica и Lacerta rudis следует считать самостоятельными видами (Даревский, Мусхелишвили, 1966: 478). Это, в отличие от статьи Ф. Д. Даниеляна (1965), нашло отражение в монографии И. С. Даревского (1967а).
В автореферате кандидатской диссертации обсуждался также вопрос о гибридизации “подвидов” скальных ящериц в зонах широкого перекрывания их ареалов. Утверждалось, что гибридные зоны между ними выявлены не были, а сами гибриды составляли “<…> довольно редкие исключения”. Анализ особей из смешанных популяций в зонах перекрывания показал, что переходные формы между соседними подвидами отсутствуют (Даревский, 1957а: 6). Однако через 10 лет И. С. Даревский коренным образом изменит свою точку зрения о наличии гибридизации и гибридных зон у скальных ящериц Кавказа (см. следующий раздел).
Opus magnum
В мае 1967 г. И. С. Даревский защитил в ЗИН АН СССР докторскую диссертацию, по итогам которой в конце того же года была опубликована монография “Скальные ящерицы Кавказа”, которую по праву можно считать его главным трудом (opus magnum) по данной теме. Рукопись была сдана в набор 29.VI и подписана к печати 27.XI.1967 г. В книге были приведены сведения по систематике, распространению, закономерностям изменчивости и экологии 25 подвидов, отнесенных автором к 8 обоеполым и партеногенетическим видам этой полиморфной группы ящериц (Даревский, 1967а: 2 и 10–11). Она получила высокую оценку у известных немецких герпетологов, знавших русский язык (Mertens, 1968; Петерс, 1970).
И. С. Даревский всех скальных ящериц Кавказа, которых он тогда относил к подроду Archaeolacerta, поделил на три категории.
- Обычные бисексуальные виды. Среди таковых в его монографии детально рассмотрены лишь три вида: Lacerta saxicola с 15 подвидами, включая номинативный (группа saxicola); Lacerta rudis Bedriaga, 1886 с тремя подвидами, в том числе номинативный (группа rudis) и Lacerta caucasica Méhely, 1909 с двумя подвидами, включая номинативный (группа caucasica). Кроме того, в определительную таблицу были внесены также двуполые виды Lacerta (Archaeolacerta) derjugini и Lacerta (Archaeolacerta) chlorogaster (Даревский, 1967а: 31).
- Агамные виды. В то время были известны четыре однополых партеногенетических вида: Lacerta armeniaca, Lacerta dahli, Lacerta rostombekowi и Lacerta unisexualis. Их видовой статус обосновывался применением морфологического, географического и физиологического критериев (Даревский, 1967а: 15–18), а также применением концепции агамных видов А. Кэйна. Все это было подробно изложено ранее (Darevsky, 1966; Даревский, 1967).
Кроме этих видов, партеногенетическое размножение предполагалось у части двуполой Lacerta saxicola bithynica Méhely, 1909 (Даревский, 1967а: 51).
Удивительно, но в предыдущих статьях И. С. Даревского (1958: 1062, 1967; Darevsky, 1966) нигде прямо не сказано, в рамках какого именно обоеполого подвида Lacerta saxicola возник тот или иной партеногенетический вид (кроме Lacerta unisexualis). В монографии этот важный вопрос практически в тексте тоже не обсуждался (см. с. 125 и 135). Однако найти такие сведения можно на “схеме филогенетических отношений скальных ящериц” (Даревский, 1967а: 199, Рис. 84). Переход от обоеполых подвидов из группы Lacerta saxicola к соответствующим партеногенетическим видам представлен там следующим образом (слева направо):L. s. raddei → L. dahliL. s. nairensis (ранее часть L. s. defilippi) → L. unisexualisL. s. portschinskii → L. rostombekowiL. s. valentini → L. armeniaca - Виды вероятного гибридного происхождения. К таковым была отнесена обоеполая аджарская ящерица, Lacerta mixta, якобы возникшая от скрещивания Lacerta derjugini и Lacerta saxicola. Таким образом, И. С. Даревский (1967: 413, 1967а: 140, 190, 192) активно поддержал мнение автора названия вида Л. Мехели (Méhely, 1909: 581), который первым предположил его гибридное происхождение.
В монографии, помимо большого таксономического и экологического разделов, насыщенных интересными данными, имеется также несколько глав общего характера. Первая из них была посвящена таксономии бисексуальных и партеногенетических видов скальных ящериц (Даревский, 1967а: 12–19). Она, в основном, содержала доказательства видового статуса партеногенетических форм, ранее считавшихся подвидами, тогда как рассуждения об этой же важной проблеме (подвид – вид) у обоеполых форм, увы, были менее содержательны, как и в предыдущих публикациях. Автор придерживался так называемого морфолого-географического метода, предполагавшего несовместимость в общем ареале (т. е. в зоне симпатрии) двух или нескольких подвидов одного и того же вида. На этом основании он признал видовой ранг только трех обоеполых форм скальных ящериц (см. выше).
В особой главе большое внимание И. С. Даревский (1967а: 186–190) уделил гибридизации ящериц подрода “Archaeolacerta” sensu lato. По его мнению, гибридность особей “легко” устанавливалась “по совокупности ряда морфологических признаков” (с. 187). На основании обсуждаемых им данных можно выделить три варианта гибридизации.
В-третьих, спонтанная гибридизация якобы происходит также и между “полусимпатричными” (“пограничными”) видами. В результате образуются “широкая зона вторичной интерградации, обусловленная практически неограниченной гибридизацией” (Даревский, 1967а: 189). В качестве примера была приведена зона контакта высокогорной Lacerta caucasica caucasica Méhely, 1909 и предгорной Lacerta saxicola daghestanica Darevsky, 1967, ареалы которых частично перекрываются в Дагестане и Азербайджане. Замечу, что термин “вторичная интерградация” обычно применяется к подвидам, а не видам. В причерноморской Турции, по мнению И. С. Даревского (1967а: 103 и 189), обитает смешанная гибридная популяция между Lacerta rudis rudis Bedriaga, 1886 и Lacerta saxicola lantzcyreni Darevsky et Eiselt, 19678.
Более того, скрещиваются даже симпатрические, но экологически (биотопически) разобщенные виды, которые нередко обитают в смежных местах, что может приводить к возникновению более или менее обширных гибридных зон. В качестве примера таких экологически разных видов с гибридизацией в зонах контакта были указаны скальные подвиды Lacerta saxicola и лесная Lacerta derjugini (с. 189). В результате это может приводить даже к образованию гибридных обоеполых видов: Lacerta mixta как итог гибридизации данной пары видов (Даревский, 1967а: 189–190).
Однако при внимательном прочтении видно, что высказанные в этой главе монографии соображения противоречивы. Например, нет ничего удивительного в том, что подвиды, если это, действительно, подвиды одного и того же вида, скрещиваются между собою. Наоборот, было бы странно, если бы этого не было. Тем не менее именно такая ситуация (сезонная репродуктивная изоляция) была обнаружена Ф. Д. Даниеляном (1965; Даревский, 1967а: 178) для пары частично симпатрических (!) “подвидов” Lacerta saxicola nairensis (ранее этих ящериц относили к L. s. defilippii) и Lacerta saxicola valentini (ранее L. s. terentjevi Darevsky, 1957).
Поэтому мнение о том, что эти два “подвида” на самом деле являются самостоятельными видами, которые к тому же различаются морфологически (Даниелян, 1965: 78), было вполне справедливо. Не подтвердилась гибридизация между бывшими подвидами Lacerta portschinskii и Lacerta raddei (см. Uzzell, Darevsky, 1973: 5), которые якобы образовали хорошо выраженную гибридную зону (Даревский, 1967а: 188). Замечу, что целый ряд бывших “подвидов” в нынешнее время считается полноценными видами.
В отношении собственно видов И. С. Даревский (1967а: 144, 179 и 188) не раз сам отмечал, что между всеми тремя признаваемыми им тогда двуполыми видами (Lacerta caucasica, Lacerta rudis и Lacerta saxicola) гибридизация в разных их сочетаниях в природе не происходит и промежуточные особи между ними отсутствуют благодаря действию механизмов репродуктивной изоляции. В небольшом специальном разделе монографии (с. 178–179) он обсуждал сезонную изоляцию (различия в сроках размножения) и поведенческую изоляцию (разная брачная окраска тела).
На основании приведенных им данных, основанных на изучении внешних признаков, можно было бы прийти к предположению, что гибридизация между обоеполыми и партеногенетическими видами (см., например, Даревский, 1967а: 188, Табл. 39; Боркин, Даревский, 1980: 496, Табл. 1) случается чаще, чем между только обоеполыми таксонами. Действительно, спаривания между партеногенетическими и обоеполыми видами в смешанных поселениях являются довольно обычным событием (Carretero et al., 2018: 411). Однако интрогрессия генов между обоеполыми видами также распространена довольно широко (Freitas et al., 2022: 907–908).
Через 12 лет монография И. С. Даревского была опубликована на английском языке в Индии (Darevskii, 1978). Казалось бы, надо радоваться. Однако ее автор, насколько я помню, был огорчен. Во-первых, книгу переиздали, не поставив его в известность, и И. С. Даревский не мог внести в нее необходимые дополнения или хотя бы снабдить комментариями. Во-вторых, за прошедшие годы произошли серьезные изменения в таксономии скальных ящериц, в понимании происхождения партеногенетических видов и процессов гибридизации между обоеполыми видами (см. ниже). То, что англоязычный вариант книги не доставил особой радости И. С. Даревскому, отметили также Н. Б. Ананьева и И. В. Доронин (2015: 28). К тому же само издание было неважного полиграфического качества: мягкая обложка, серая бумага, скверные иллюстрации.
Самцы партеногенетических видов
Следует признать, что, несмотря на серию убедительных публикаций И. С. Даревского о партеногенезе у скальных ящериц Кавказа, некоторые советские зоологи проявляли осторожность в признании его столь серьезного открытия, для чего, насколько я знаю, имелись и субъективные причины, о которых публично не говорилось. Например, ни одна из известных публикаций И. С. Даревского (1958, 1962, 1967; Darewski, Kulikowa, 1961; Даревский, Куликова, 1962, 1964), опубликованных в весьма доступных центральных советских изданиях и за рубежом, включая его монографию (Даревский, 1967а), не была процитирована в передовой по тем временам сводке по эволюционной теории Н. В. Тимофеева-Ресовского, Н. Н. Воронцова и А. В. Яблокова (1969, сдана в набор 9/IX 1968 г.). При этом признавалось существование партеногенетических видов в других группах животных (с. 291).
Более того, эти авторитетные и явно хорошо знающие литературу авторы полагали, что “<…> вряд ли <…> существуют абсолютно и облигатно партеногенетические и апомиктические виды, у которых никогда не происходит полового процесса в той или иной форме” (Тимофеев-Ресовский и др., 1969: 198). Самим И. С. Даревским такие “априорные высказывания некоторых авторов” воспринимались как прямая критика именно его открытия партеногенеза у скальных ящериц Кавказа (см. Аззелл, Даревский, 1974: 561).
Скепсис усилился, когда у партеногенетических Lacerta dahli и Lacerta armeniaca удалось обнаружить трех половозрелых самцов с хорошо выраженными семенниками, но с признаками гермафродитизма в виде недоразвитых яйцеводов, которые, возможно, были фертильными и происхождение которых не связано с гибридизацией c двуполыми видами (Dobrowolska, 1964: 10, “Lacerta saxicola dahli”; Darevsky, 1966: 133).
Эти сведения потом подтвердились, и диплоидные самцы были обнаружены даже в аллопатрических популяциях Lacerta armeniaca, что исключало гибридизацию. Само явление было квалифицировано как “остаточная бисексуальность у партеногенетических видов” с встречаемостью у Lacerta armeniaca и Lacerta dahli не более 0.1% у каждой из них (Даревский и др., 1977: 772), а редких самцов и интерсексов, попадавшихся среди самок партеновидов, стали называть случайными (Darevsky et al., 1978). Предполагалось, что такие единичные диплоидные самцы возникали внутри партеногенетических видов (у Lacerta armeniaca) спонтанно вследствие гормонального переопределения пола (Darevsky et al., 1978; Darevskiĭ, Kupriyanova, 1982: 72).
Как справедливо было замечено (Даревский и др., 1977: 779), эти редкие диплоидные самцы в случае их плодовитости при скрещивании с партеногенетическими самками могут создавать “<…>триплоидных особей с переходом на следующем этапе к тетраплоидии, т. е. с возвращением к обоеполости на полиплоидном уровне”.
Действительно, впоследствии в популяции “Archaeolacerta unisexualis” (ныне Darevskia) в ущелье реки Мармарик в Армении, изолированной от двуполых видов, были обнаружены редкие триплоидные плодовитые самцы и стерильные интерсексы (в сумме 11 из более чем тысячи особей), скорее всего, являющиеся результатом “внутриклональных” скрещиваний фертильных диплоидных самцов с партеногенетическими диплоидными самками данного вида (Darevsky et al., 1989: 229; Kupriyanova, 1989: 239; Даревский и др., 1991: 63). Более того, в зоне симпатрии была даже найдена диплоидная самка, оказавшаяся гибридом между самкой “Archaeolacerta armeniaca” и самцом “Archaeolacerta unisexualis” (Даревский и др., 1991: 69). Полученные данные были подтверждены методами проточной ДНК-цитометрии и электрофоретического анализа белков.
Таким образом, триплоидные самцы у скальных ящериц Кавказа могут образовываться двояким образом: за счет скрещивания спонтанных диплоидных самцов и партеногенетических самок внутри популяций самих партеногенетических видов или же путем скрещивания диплоидных партеногенетических самок с “чужими” самцами обоеполых видов.
Признание и суть открытия
Как известно, нет пророка в своем отечестве. Некоторый скепсис ряда советских зоологов пошел на убыль, когда открытие партеногенеза у скальных ящериц Кавказа было признано за рубежом, в первую очередь среди герпетологов США. По воспоминаниям самого И. С. Даревского (2014: 311), его статья в “Докладах АН СССР” (1958) вскоре была переведена на английский язык. Он получил письменные поздравления от некоторых американских коллег, которые также обнаружили отсутствие самцов в популяциях хлыстохвостых ящериц рода Cnemidophorus Wagler, 1830 (sensu lato), но не решались опубликовать свои данные. В настоящее время эти ящерицы, обитающие в США и Мексике, перенесены в род Aspidoscelis Fitzinger, 1843, семейство Teiidae (см. Reeder et al., 2002), тогда как название Cnemidophorus (sensu stricto) сохранилось за видами, распространенными в Центральной и Южной Америке, а также на островах Карибского моря (см. Harvey et al., 2012: 99 и 102).
Действительно, статья о партеногенезе в природных популяциях сразу шести видов хлыстохвостых ящериц появилась лишь через четыре года после первой публикации И. С. Даревского (Maslin, 1962: 212). Вскоре образовался целый поток работ на эту тему. Любопытно, что первоначально ход американских исследований в целом был параллелен советским. Сначала появились полевые данные об отсутствии самцов в ряде популяций ящериц. Затем не без влияния статьи И. С. Даревского (1958) эти популяции были признаны партеногенетическими. На основе, главным образом, морфологических данных их статус был поднят до подвидов и видов.
Как и И. С. Даревский, Пол Маслин (Maslin, 1968) посвятил вопросу о таксономии однополых позвоночных специальную довольно обстоятельную статью, в которой (p. 223) рассмотрел и взгляды И. С. Даревского (1967; Darevsky, 1966). Сам П. Маслин, как и ряд других зоологов, признал неприменимость критериев биологической концепции (внешняя репродуктивная изоляция и скрещиваемость внутри популяций) к однополым видам, сослался на агамные виды А. Кэйна (1954, см. русское издание 1958) и в итоге примкнул к эволюционной концепции вида Меглича–Симпсона (p. 230). Важно, что П. Маслин также указал на необходимость учитывать экологические особенности (своя экологическая ниша) и географию однополых видов (свой ареал).
Признанию открытия партеногенеза у скальных ящериц Кавказа среди советских зоологов содействовала и ссылка на статью И. С. Даревского и В. Н. Куликовой (Darewski, Kulikowa, 1961) в выдающейся книге американского зоолога-орнитолога Эрнста Майра (1968: 329 и 531) о виде и видообразованию у животных, которая стала руководством для всех, кто интересовался этой важнейшей темой. Сам Майр считался почти непререкаемым авторитетом среди отечественных эволюционистов, живым классиком, “современным Дарвином” (Колчинский, 2006: 7 и 130).
В июне 1972 г. Э. Майр (1904–2005) посетил Ленинград, где 2-го числа выступил в ЗИН АН СССР. К сожалению, я в это время находился в экспедиции на Южных Курильских островах и поэтому не знаю, было ли непосредственное личное общение между знаменитым американским эволюционистом и И. С. Даревским. Сам я встретился с Э. Майром через шесть лет в Берлине (июнь 1978 г.) после международного симпозиума по эволюционной генетике и экологии европейских зеленых лягушек. Тот приехал в Музей естественной истории (Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin), где в 1920-х годах изучал птиц под руководством известного немецкого орнитолога Эрвина Штреземанна; в США Майр уехал в 1931 г.
Э. Майру выделили кабинет куратора орнитологии, где он проводил беседы с коллегами, приходившими поговорить с ним. При нашей встрече присутствовали мой приятель сотрудник музея герпетолог Райнер Гюнтер (Rainer Günther), организовавший ее и знавший русский, а также моя жена, энтомолог по образованию, Е. И. Васьковская, свободно владевшая немецким языком, на котором и проходила наша беседа (я тогда говорил по-немецки, но хуже). Обсуждали проблему вида и видообразования, в том числе вопрос о клональных видах, гибридизации и полиплоидии. Я обратил внимание на то, что сведений о таких видах становится все больше даже в таких хорошо изученных регионах, как Европа и Кавказ, приведя в качестве примеров гибридогенный комплекс зеленых лягушек и партеногенетических скальных ящериц. Упомянул И. С. Даревского, напомнив Э. Майру, что тот процитировал его статью в своей знаменитой книге. Мы с Райнером Гюнтером отметили, что ныне изучение клональных видов проходит не только на основе морфологических признаков, как ранее, но и с использованием более надежных, адекватных молекулярно-генетических методов, а также данных по экологии. Видообразование на основе сочетания разных вариантов клонального наследования, гибридизации и полиплоидии, выявленное у многих групп животных, противоречит некоторым ключевым положениям биологической концепции вида (репродуктивная изоляция, якобы редкость гибридизации в природе и т. д.).
Естественно, нас интересовало мнение Э. Майра в свете появления многочисленных новых фактов. Тот все внимательно выслушал, согласился, что новые данные очень интересны и кое-что в концепции надо бы уточнить, но сказал, что ему некогда писать об этом, так как он занят подготовкой большой книги по истории биологии (1982). На наше пожелание увидеть его статью с обсуждением клонального видообразования Э. Майр ответил, что поток публикаций стал очень большим и ему уже трудно отслеживать их. Затем пошутил, что если он такую статью напечатает, то его критики скажут, что старый Майр (ему тогда было почти 74 года) отстал от науки и пишет глупости. В заключение посоветовал Райнеру Гюнтеру и мне дальше развивать наши исследования и самим публиковать статьи о необычных вариантах видообразования. Этому совету мы и следовали в течение многих последующих лет. Надо заметить, что почтенный ученый, несмотря на свою мировую славу, высокий научный статус (помимо прочего, член Национальной академии наук США, 1954) и большую с нами разницу в возрасте, держался очень демократично, и беседовать с ним было очень приятно.
По-видимому, среди советских зоологов первым, кто частично признал открытие И. С. Даревского, был П. В. Терентьев (1961: 219), который написал в своем руководстве по герпетологии, что у “группы скалистых ящериц Кавказа возможен партеногенез”. Со временем признание получило международный характер. И. С. Даревский был избран в различные научные общества, получил множество научных наград в виде медалей, премий и почетных званий как в нашей стране, так и далеко за ее пределами. Однако мнения о сути его открытия довольно сильно различались от явной недооценки до преувеличения. Одни сводили открытие лишь к интересному, но частному случаю, другие же придавали ему крупное общебиологическое значение. Истинное значение, как обычно, находится где-то посередине.
Сам И. С. Даревский, насколько я могу судить по разговорам с ним, не претендовал на выход обнаружения им партеногенеза у ящериц за рамки герпетологии, хотя позднее не сопротивлялся явно завышенным хвалебным оценкам. Действительно, природный партеногенез был уже давно хорошо известен во многих группах беспозвоночных, особенно у насекомых (например, Арнольди, 1953; Бей-Биенко, 1954: 24 и 304; Суомалайнен, 1956). Различные случаи так называемого зачаточного партеногенеза были известны также и среди позвоночных, в том числе у рыб (Астауров, 1951: 173; Крыжановский, 1957: 86, Табл. 1), домашних индеек (Olsen, Marsden, 1954: 545) и даже некоторых млекопитающих (Beatty, 1957). Однако развитие неоплодотворенных яиц, как правило, заканчивалось на ранних стадиях или же происходило не в природе.
Среди позвоночных однополые (самочные) виды также были обнаружены задолго до 1958 г. Первым стала амазонская моллинезия9, североамериканская рыбка гибридного происхождения Poecilia formosa (Girard, 1859) из семейства Poeciliidae (Hubbs, Hubbs, 1932; Hubbs, 1955: 2–4), которую в то время относили к роду “Mollienisia” (= Mollienesia Lesueur, 1821).
В своих статьях на ряд предшествующих публикаций других авторов, включая некоторые из перечисленных выше, ссылался и сам И. С. Даревский (Darewski, Kulikowa, 1961: 123; Даревский, 1962: 398– 399 и 401–402, 1964: 45–47; Darevsky, 1966: 118– 119 и 127–128), отметивший “рудиментарный” (зачаточный)10 характер партеногенеза у ранее изученных животных и проявление его в искусственных условиях (кроме амазонской моллинезии). Однако есть основания полагать, что упоминаемые им факты стали ему известны уже после опубликования его первой статьи 1958 г.
Полезно также напомнить, что в 1940-е годы в СССР проводились исследования по естественному и экспериментальному гиногенезу у серебряного карася, ныне Carassius gibelio (Bloch, 1782), ранее подвид Carassius auratus (Linnaeus, 1758). Любопытно, что существование однополых (только самки) популяций у этого вида на Северном Кавказе было установлено еще в предвоенные годы, которые интерпретировались тогда как гибриды (карасекарпы). Однако в апреле 1945 г. генетик Д. Д. Ромашов (1899–1963), ученик С. С. Четверикова, вместо этого выдвинул идею гиногенеза и предложил программу исследований, которые широко развернулись в последующие годы и положили начало новому направлению в отечественной генетике рыб (Головинская, 1975: 93–94). Гиногенез у серебряного карася был подтвержден экспериментами. Это было охарактеризовано крупнейшим советским ихтиологом и историком науки Л. С. Бергом (1947: 55) как “<…> сделанное в самое последнее время русскими учеными открытие своеобразного типа размножения у карася”, которое занимает “не последнее место среди чудес рыбьей природы”.
В свете всех этих и других многочисленных данных возникает вопрос, а что́ собственно открыл сам И. С. Даревский? Для ответа на него следует иметь в виду, что партеногенез у животных понимался тогда, а подчас и сейчас, очень широко. В это понятие включали все явления клонального размножения (наследования). Однако на самом деле существуют различные категории этого явления. Следует различать собственно партеногенез в различных его вариантах, гиногенез, или псевдогамия, клептогенез, так называемый гибридогенез, иначе называемый кредитогенез, а также мейотический гибридогенез (Wilson, 1925, Chapter V; Schultz, 1969: 605 и 617; Боркин, Даревский, 1980: 492; Dawley, 1989: 2; Dubois, 1990; Stöck, Lamatsch, 2002; Stöck et al., 2002; Гребельный, 2008, глава 3; Vershinina, Kuznetsova, 2016: 258; Aguín-Pombo, Kuznetsova, 2023, Table 1). Выделяют даже до семи вариантов клонального размножения (Stöck et al., 2021: 5–6, Fig. 1).
Тем не менее иногда к партеногенезу относят как гиногенез, так и гибридогенез (Мэйнард-Смит, 1981: 68; Lampert, Schartl, 2010: 2). Гиногенез называют также псевдогамным партеногенезом, pseudogamous parthenogenesis, а также, как и гибридогенез, спермо-зависимым партеногенезом, sperm-dependent parthenogenesis (Beukeboom, Vrijenhoek, 1998: 756; Lamatsch, Stöck, 2009). В целом, если не пояснять, это может создать путаницу в терминах.
Полагают, что гибридогенез может вести к гиногенезу, а тот к партеногенезу, но, возможно, каждый их этих модусов клонального размножения возникает как прямой результат гибридизации. Все три модуса могут дать начало триплоидии (Schultz, 1969: 614).
Помимо самочных (all-female) видов, среди позвоночных животных известны клональные виды, в норме представленные обоими полами (самками и самцами). При размножении они образуют зиготу, содержащую хромосомы матери и отца. В итоге вырастает соматически гибридная половозрелая особь (самка или самец), но с необычными процессами избирательной элиминации одного из родительских геномов в ходе гаметогенеза. Такими обоеполыми клональными видами являются гибридогенные европейские зеленые лягушки рода Pelophylax Fitzinger, 1843, ранее относимые к роду Rana Linnaeus, 1758 (Боркин и др., 1987; Vinogradov et al., 1990; Plötner, 2005; Biriuk et al., 2016; Dedukh et al., 2019), а также триплоидные зеленые жабы рода Bufotes Rafinesque, 1815 (ранее Bufo Laurenti, 1768), обитающие в высокогорье Памира, Каракорума и Западных Гималаев (Stöck et al., 2002, 2012; Litvinchuk et al., 2011; Боркин и др., 2012). К ним можно добавить некоторых рыб, например, часть популяций серебряного карася (Lamatsch, Stöck, 2009).
Более того, у некоторых позвоночных, точнее у рыб из семейства Cyprinidae, встречается спонтанный андрогенез, при котором клональные самцы при скрещивании с самками давали в потомстве только самцов, так как материнский геном элиминировался (Wang et al., 2011; Morgado-Santos et al., 2017). Это довольно редкое явление в своей спонтанной или облигатной форме ранее было известно в природе только у двустворчатых моллюсков и насекомых (Mantovani, Scali, 1992; Гребельный, 2008: 84–95; Hedtke, Hillis, 2011).
Поэтому в работах общего или сравнительного характера лучше использовать термин клональные виды, а не однополые или “однородительские” (unisexual species, uniparental species).
С учетом выше сказанного о разных категориях клонального наследования, а также классификации животных вклад И. С. Даревского в изучение клональных видов можно оценить следующим образом.
- Пресмыкающиеся (Reptilia). И. С. Даревский (1958) первым в мире открыл существование клональных видов (естественный партеногенез в форме телитокии) в этом классе наземных позвоночных на примере скальных ящериц Кавказа. Вслед за ним партеногенетические ящерицы из семейства Teiidae были описаны в Северной Америке (Maslin, 1962; см. также Reeder et al., 2002), а затем и в других регионах. Ныне насчитываются десятки облигатно партеногенетических видов ящериц и змей из 8 семейств в разных частях мира (Darevsky et al., 1985; Vrijenhoek et al., 1989: 20–21; Kearney et al., 2009: 448). Любопытно, что облигатный партеногенез пока обнаружен только среди чешуйчатых рептилий (Squamata), но неизвестен у черепах и крокодилов (у последних найден факультативный партеногенез).
- Низшие наземные (холоднокровные, эктотермные) позвоночные (амфибии и рептилии). И. С. Даревский (1958) также может считаться первым, кто открыл полноценное клональное (в форме партеногенеза) размножение в природе в этой группе позвоночных, рассматривая оба класса в целом. Хотя в эксперименте клональное развитие у амфибий было известно задолго до его публикаций, но оно заканчивалось на эмбриональной или личиночной стадии развития (см., например, Delage, Goldsmith, 1913: 328–335; Wilson, 1925, Chapter V). Природный же гиногенез впервые для амфибий был обнаружен у однополых гибридных форм североамериканских амбистом лишь в начале 1960-х годов (MacGregor, Uzzell, 1964; Uzzell, 1964).
- Амниоты (Amniota). Поскольку пресмыкающиеся вместе с птицами и млекопитающими относятся к данной группе позвоночных, характеризующихся наличием зародышевых оболочек, то автоматически И. С. Даревский (1958) может считаться первым, кто доказал существование в природе клональных видов (в форме перманентного партеногенеза) у Amniota. Ранее были известны лишь случаи спонтанного проявления партеногенеза у птиц (домашние индейки) и у млекопитающих, включая человека (см. выше), которые упоминал и сам И. С. Даревский (Darevsky, 1966).
- Наземные позвоночные. Из пунктов 3 и 4 автоматически вытекает, что И. С. Даревский (1958) также может считаться первым, кто доказал существование в природе клональных (партеногенетических) видов у наземных позвоночных.
- Позвоночные (Vertebrata). Первый клональный (гиногенетический) вид позвоночных впервые был обнаружен среди рыб Северной Америки (Hubbs, Hubbs, 1932; Hubbs, 1955: 2–4). Естественный гиногенез был также выявлен в СССР в однополых популяциях серебряного карася в 1940-е годы (Берг, 1947; Головинская, 1975). Следовательно, применительно к позвоночным животным в целом И. С. Даревский (1958) не был первооткрывателем клонального (однополого) размножения как такового. Однако ему повезло первому доказать существование у Vertebrata одного из вариантов клональности в форме естественного диплоидного телитокического партеногенеза, т. е. когда самка в природе откладывает неоплодотворенные яйца, из которых появляются только самки, которые в свою очередь порождают тоже самок и т. д.
Ранее уже отмечали (Darevsky et al., 1985: 414) разницу в проявлении категорий клонального размножения между анамниями (Anamnia), не имеющими зародышевых оболочек, и амниотами. Среди первых (рыбы и амфибии) в природе известны гиногенез, гибридогенез, мейотический гибридогенез и андрогенез (Hubbs, Hubbs, 1932; Hubbs, 1955: 2–4; MacGregor, Uzzell, 1964; Uzzell, 1964; Schultz, 1967, 1969; Tunner, 1974; Beukeboom, Vrijenhoek, 1998; Stöck, Lamatsch, 2002; Stöck et al., 2002, 2012; Schlupp, 2005; Lamatsch, Stöck, 2009; Morgado-Santos et al., 2017).
По мнению канадского герпетолога Джеймса Богарта с соавторами (Bogart et al., 2007: 134; Bogart, 2019: 264–265), размножение у однополых (самочных) североамериканских амбистом (Ambystoma) не соответствует критериям партеногенеза, гиногенеза и гибридогенеза, а представляет собой новый вариант клональности, который они назвали клептогенез в соответствии с ранее предложенной терминологией (Dubois, Günther, 1982).
В противоположность анамниям, среди амниот однополые виды проявляют только облигатный естественный диплоидный партеногенез в форме телитокии, который, однако, выражен лишь у рептилий. Клональные виды у птиц и млекопитающих в природе пока не обнаружены. - Многоклеточные животные (Animalia). Клональность, включая телитокический партеногенез, была известна у многих беспозвоночных животных, особенно у различных насекомых, уже довольно давно (например, Delage, Goldsmith, 1913; Wilson, 1925; Арнольди, 1953; Суомалайнен, 1956), что, собственно говоря, знал и сам И. С. Даревский (1962: 398–399 и 401–402; Darevsky, 1966: 142 и 145). Следовательно, его нельзя считать открывателем партеногенеза у животных в целом.
Подводя итоги, следует сказать, что И. С. Даревский, как минимум, первым открыл и доказал наличие партеногенеза у ящериц в природе, что само по себе немало, а как максимум, вполне может считаться открывателем естественного диплоидного телитокического партеногенеза у позвоночных животных.
По какой бы шкале не оценивать открытие И. С. Даревского (от герпетологии до зоологии в целом), ясно, что его статья (1958) стимулировала выявление однополых видов ящериц в Северной Америке, а также, как и более поздние работы, цитировалась не только герпетологами. Пионерные публикации о природной клональности у рыбок Poecilia formosa (Hubbs, Hubbs, 1932) и у скальных ящериц Кавказа (Даревский, 1958) породили огромный поток литературы и фактически стали триггером в появлении нового направления по изучению клонального видообразования у позвоночных, что повлияло на дискуссии по проблеме вида у животных в целом.
Действительно, в 1962 г. в США была издана первая статья о партеногенетических видах ящериц рода Cnemidophorus sensu lato, ныне Aspidoscelis (Maslin, 1962, 1968, 1971; Darevsky et al., 1985; Reeder et al., 2002).
В 1964 – доказан гиногенез у североамериканских амбистом (MacGregor, Uzzell, 1964; Uzzell, 1964; см. также Bogart et al., 2007) и гибридогенез у рыб рода Poeciliopsis Reagan, 1913 также в США (Schultz, 1967, 1969: 605).
В 1974 гибридогенез был идентифицирован у европейских зеленых лягушек (Tunner, 1974; Боркин и др., 1987; Vinogradov et al., 1990; Plötner, 2005; Biriuk et al., 2016; Dedukh et al., 2019).
В 2002 в высокогорье Каракорума и Западных Гималаев были найдены популяции, целиком состоящие из клональных триплоидных зеленых жаб обоего пола c мейотическим гибридогенезом (Stöck et al., 2002, 2012; Litvinchuk et al., 2011; Боркин и др., 2012).
В 2017 г. было заявлено о первом среди позвоночных природном случае спонтанного андрогенеза у рыб Squalius alburnoides (Steindachner, 1866), семейство Cyprinidae (Morgado-Santos et al., 2017). Этих пресноводных рыб, обитающих в реках Пиренейского полуострова, прежде относили к родам Leuciscus Cuvier, 1816, Rutilus Rafinesque, 1820, Tropidophoxinellus Stephanidis, 1974 и Iberocypris Doadrio, 1980. Ранее андрогенез был показан в экспериментах с серебряным карасем (Wang et al., 2011).
К этому можно было бы добавить и другие случаи клональных форм в природе у позвоночных. Например, большое число публикаций посвящено щиповкам, небольшим пресноводным рыбам рода Cobitis Linnaeus, 1758 из семейства вьюновых, Cobitidae, обитающим в Европе и на Дальнем Востоке (Васильев, Васильева, 1982; Васильев и др., 1983, 2005, 2007, 2010; Majtánová et al., 2016; Marta et al., 2023; Dedukh et al., 2024).
К настоящему времени обнаружено не менее 80 клональных видов рыб, амфибий и рептилий из 14 семейств, живущих на всех материках, кроме Антарктиды (Vrijenhoek et al., 1989: 20–21; Alves et al., 2001: 375; Kearney et al., 2009: 448). По другим оценкам, облигатный партеногенез характерен примерно для 100 видов позвоночных и 1000 видов беспозвоночных животных (Esposito et al., 2024: 1) или, возможно, даже 2000 видов (Milius, 2003). Сравните с 20 однополыми видами позвоночных, известными 55 лет назад (Schultz, 1969: 614). Как прозорливо писал И. С. Даревский (1974: 335), упомянувший всего 24 партеногенетических вида ящериц, “<…> нетрудно предсказать, что это число будет непрерывно увеличиваться и далее”.
Формирование концепции сетчатого видообразования у животных
В развитии любой науки важны не только сами идеи, но и адекватные методы, позволяющие их подтвердить или опровергнуть. Это произошло и в эволюционной зоологии в 1960-е годы, когда морфологические признаки стали активно вытесняться цитогенетическими и молекулярно-генетическими данными. Сначала это был электрофорез белков (см. Аронштам и др., 1977; Айала, 1984), который затем уступил место секвенированию, микросателлитам и другим методикам. Стало возможным оценивать многолокусную генетическую изменчивость в популяциях, генетическую структуру видов (филогеография), скорость видообразования и многое другое. Выяснилось, что гибридизация между видами в природе довольно обычна (см. Боркин, Литвинчук, 2013), а рассуждения о ее редкости или о чуть ли не полной зависимости от антропогенного нарушения среды, развиваемые в рамках биологической концепции вида (например, Майр, 1968, 1974), ошибочны.
Гибридная природа партеногенетических скальных ящериц Кавказа
Концепция географического партеногенеза, т. е. исчезновение самцов и переход к однополому размножению в популяциях обоеполого вида, обитающих на периферии ареала и/или в суровых условиях (см. раздел Opus magnum), продержалась в работах И. С. Даревского достоверно до 1972 г. (Darewski, 1972: 349). Однако уже двумя годами ранее эта идея потеряла смысл. В 1970-м году он начал сотрудничество с американским герпетологом Томасом Аззеллом (Филадельфия), который ранее доказал гиногенез у амбистом (см. выше). Т. Аззелл применил к изучению скальных ящериц Кавказа метод электрофореза белков, который, в отличие от морфологических признаков, позволил с большой точностью определять гибридность особей. Полученные им результаты опровергли основные выводы, изложенные в монографии (Даревский, 1967а).
- Некоторые подвиды бывшей Lacerta saxicola были подняты до ранга вида или перемещены в другие виды (Uzzell, Darevsky, 1973: 5, 1975: 207–210).
- Четыре известных тогда агамных вида, оказалось, имели гибридное происхождение (Даревский, 1971: 16–17) от следующих пар родительских видов (Аззелл, Даревский, 1974: 558; Даревский, 1974: 343; Uzzell, Darevsky, 1975: 214–215):
На примере Lacerta armeniaca было отмечено, что ареалы родительских видов географически обособлены (аллопатричны), как и бо́льшая часть ареала партеновида, особи которого лишь местами соприкасаются с обоеполыми родительскими видами. При этом наблюдается относительная стабильность этой аллопатрии за счет адаптации видов к своим условиям обитания и успешной конкуренции партеногенетических видов с вторгающимися в их ареал обоеполыми видами (Аззелл, Даревский, 1974: 560).
- Аллозимный анализ также показал, что обоеполая аджарская ящерица (Lacerta mixta), для которой настойчиво утверждалось гибридное происхождение от скрещивания Lacerta derjugini и Lacerta saxicola parvula, такового не имеет и является обычным видом (Uzzell, Darevsky, 1973а: 14).
- Не подтвердилась частая гибридизация между другими обоеполыми видами скальных ящериц Кавказа, приводящая якобы к образованию широких гибридных зон и смешанных гибридных популяций. Биохимическое (аллозимы) изучение Lacerta portschinskii и Lacerta raddei в двух местах их совместного обитания показало их репродуктивную изоляцию. Четыре “гибрида”, первоначально идентифицированные так по внешним признакам, оказались принадлежащими к какому-либо из этих видов, без признаков гибридности по генетическим локусам (Uzzell, Darevsky, 1973: 4–5).
Современные наблюдения на примере этой пары двуполых видов в условиях синтопии (обитания в одном и том же месте) также выявили поведенческую репродуктивную изоляцию между ними (Galoyan et al., 2019, 2020). Тем не менее новые молекулярные методы позволили выявить интрогрессивную гибридизацию у 14 обоеполых видов скальных ящериц. Наибольшее число интрогрессий генов было связано с Darevskia raddei. Однако потока генов между бисексуальными видами, являющимися родительскими для партеногенетиков, обнаружить не удалось (Freitas et al., 2022: 906–907 и 909).
Многочисленные последующие молекулярные и цитогенетические исследования в целом поддержали выводы Томаса Аззелла о гибридном происхождении партеногенетических видов скальных ящериц Кавказа и смежных территорий (Kupriyanova, 1989: 236; Moritz et al., 1992: 58; Fu et al., 1998: 128, 2000: 436; Ryabinina et al., 1999: 59; Spangenberg et al., 2017: 2, 2020: 2, 3 и 7; Girnyk et al., 2018: 10; Tarkhnishvili et al., 2020: 14–15; см. рис. 3).
Рис. 3. Схема взаимоотношений между партеногенетическими и родительскими обоеполыми видами скальных ящериц (по: Боркин, Даревский, 1980).
Интересные данные были получены для обоеполой аджарской ящерицы, Darevskia (ранее Lacerta) mixta. Хотя ее гибридное происхождение по ядерным генам не подтвердилось, однако анализ митохондриальной ДНК позволил предположить относительно недавнюю гибридизацию этого вида с Lacerta alpina Darevsky, 1967 (!); следов же Lacerta derjugini не обнаружено (Fu et al., 1997: 473–474).
Повышенный интерес к необычной группе скальных ящериц позволил, начиная с конца 1970-х годов, выявить целый ряд новых для науки подвидов и видов. Это в совокупности с молекулярными данными заметно изменило понимание таксономической структуры рода Darevskia Arribas, 1999, в который были обособлены скальные ящерицы, распространенные от юго-востока Европы через Турцию, Крым, Кавказ и Иран до Туркмении. В настоящее время этот род в Reptile Database (см. Uetz, 2024) насчитывает 42 вида, а том числе 7 партеногенетических. В его рамках выделяют от трех до семи надвидовых комплексов или кладистических групп видов, не считая партеногенетические виды (Murphy et al., 1996: 20, Table 1; Arribas, 1999: 19; Доронин, 2015; Tarkhnishvili et al., 2020: 144, Fig. 1; Доронин и др., 2021: 60, рис. 5; Freitas et al., 2022: 905; Лищук и др., 2024: 248). Таким образом, единодушия по их числу и составу пока еще не достигнуто (см. разные варианты у Murtskhvaladze et al., 2020: 12, Fig. 5).
Помимо ранее широко известных четырех партеногенетических видов скальных ящериц Кавказа, гибридное происхождение было также показано для турецкой партеногенетической Lacerta uzzelli Darevsky et Danielyan, 1978; ныне Darevskia uzzelli (Darevsky et Danielyan, 1978). Ее родительскими видами, вероятно, стали Darevskia raddei и Darevskia valentini или Darevskia rudis; последние два вида образуют один общий кластер (Moritz et al., 1992: 58; Freitas et al., 2016: 124, 2019: 797 и 800; Fu et al., 2000: 436; Murphy et al., 2000: 529). Сами первооткрыватели ящерицы Аззелла ошибочно полагали, что родителями этого партеногенетического вида были Lacerta raddei nairensis Darevsky, 1967 и Lacerta parvula Lantz et Cyrén, 1913 (Даревский, Даниелян, 1978: 57–58).
В начале 1990-х годов на востоке Турции (севернее озера Ван) были обнаружены еще два новых партеногенетических вида: бендимахийская ящерица, Lacerta bendimahiensis J. F. Schmidtler, Eiselt et Darevsky, 1994, ныне Darevskia bendimahiensis (J. F. Schmidtler, Eiselt et Darevsky, 1994) и сапфировая ящерица, Lacerta sapphirinica J. F. Schmidtler, Eiselt et Darevsky, 1994, ныне Darevskia sapphirinica (J. F. Schmidtler, Eiselt et Darevsky, 1994).
Йозеф Шмидтлер с соавторами (Schmidtler et al., 1994: 66) предположили, что оба эти вида возникли в результате былой гибридизации между ванской ящерицей, Lacerta (= Darevskia) raddei vanensis Eiselt, J. F. Schmidtler et Darevsky, 1993 и некоего подвида ящерицы Валентина, Lacerta (= Darevskia) valentini (форма Caldıran или родственная). Эта идея в целом (♀ Lacerta raddei × ♂ Lacerta valentini) была подтверждена с помощью молекулярных методов другими авторами (Freitas et al., 2016: 124; Fu et al., 2000: 436; Tarkhnishvili et al., 2020: 15, D. raddei vanensis × D. valentini, Lake Van area; Erdolu et al., 2023: 8).
Таким образом, современная схема происхождения всех семи известных ныне партеногенетических видов скальных ящериц выглядит следующим образом (♀ × ♂):
Обращает на себя внимание, что в образовании этих видов участвовали всего лишь четыре обоеполых вида. Из них Darevskia raddei (разные подвиды) дала начало пяти партеногенетическим видам, Darevskia valentini – четырем, а Darevskia mixta и Darevskia portschinskii каждая лишь двум. Родительская пара Darevskia raddei и Darevskia valentini создала четыре партеногенетических вида.
В отношении Darevskia armeniaca было высказано и другое, весьма оригинальное предположение, отвергающее прямое участие в ее происхождении Darevskia mixta (Tarkhnishvili et al., 2017: 372–373, 2020: 14). На основании анализа микросателлитов указанные авторы полагали, что Darevskia armeniaca и Darevskia dahli появились путем очень немногих или, возможно, даже единственного события первоначальной гибридизации, наиболее вероятно, между Darevskia mixta и Darevskia portschinskii. Вселение возникшей партеногенетической гибридной формы в ареал Darevskia valentini привело к скрещиванию самцов последней с данной партеноформой, что в итоге породило Darevskia armeniaca. Однако эта двухступенчатая гипотеза с бэккроссингом ♂ Darevskia valentini × с первоначальной партеногенетической Darevskia dahli не получила поддержки (Girnyk et al., 2018: 2, 9 и 10).
Следует также заметить, что Darevskia bendimahiensis и Darevskia sapphirinica, по-видимому, произошли от одной и той же гибридной популяции, образованной родительскими видами, но не от одной пары особей. Кроме того, обе эти партеногенетические формы, по молекулярным данным, весьма близки друг к другу, и, возможно, их следует считать одним видом (Erdolu et al., 2023: 8).
Интересно, что в образовании каждого из семи известных партеногенетических видов участвовали пары обоеполых видов, относящиеся к разным видовым комплексам или группам, т. е. филогенетически не самые близкие друг к другу. Так, Darevskia mixta и Darevskia raddei относят к кладе caucasica, а Darevskia portschinskii и Darevskia valentini к кладе rudis. Время дивергенции между этими кладами (группами) оценивается, в зависимости от методики подсчета, между 10 и 25 млн лет (Murtskhvaladze et al., 2020: 14; Tarkhnishvili et al., 2020: 2).
Несколько иная картина наблюдается у ящериц родов Aspidoscelis (Северная Америка) и Cnemidophorus sensu stricto (Центральная и Южная Америка, Вест-Индия). У них однополые формы образовывались путем гибридизации как филогенетически удаленных родительских видов из разных видовых комплексов, так и близкородственных видов одного и того же комплекса (Dessauer, Cole, 1989: 67; Reeder et al., 2002: 26, Fig. 6). Кстати, это же наблюдается и в гибридном комплексе однополых амбистом Северной Америки (см. Bogart, 2003: 115, Fig. 2).
Партеногенетические виды в группе скальных ящериц, в свою очередь, также распадаются на несколько групп, которые, однако, не совпадают по своему составу у разных авторов (Moritz et al., 1992: 57; Fu et al., 2000: 435; Tarkhnishvili et al., 2020: 5; Yanchukov et al., 2022: 294, Fig. 1). Обособленное место занимает кластер с Darevskia armeniaca и Darevskia dahli, в образовании которых принимала участие Darevskia mixta. Далее идет большой кластер из трех групп, включающих: 1) Darevskia unisexualis и Darevskia uzzelli, 2) Darevskia bendimahiensis и Darevskia sapphirinica, а также 3) Darevskia rostombekowi. Одним из родителей партеновидов последних трех групп была Darevskia raddei, в четырех случаях вместе с Darevskia valentini (Tarkhnishvili et al., 2020: 5, Fig. 2). Ранее Darevskia unisexualis, Darevskia uzzelli и Darevskia bendimahiensis были помещены в один комплекс Darevskia raddei (Freitas et al., 2016: 125).
Любопытно, что ареалы партеногенетических видов в Закавказье или перекрываются (симпатрия), или соприкасаются (парапатрия), занимая территорию от центральной части Малого Кавказа до района озера Ван (Tarkhnishvili et al., 2020: 17–18).
Родственные взаимоотношения между партеногенетическими и их родительскими видами частично или полностью изображались разными авторами по-разному (см. Даревский, 1974: 344, рис. 2; Боркин, Даревский, 1980: 497, рис. 4; Даревский, 1982: 42; Moritz et al., 1992: 57; Fu et al., 2000: 433, Fig. 1; Murphy et al., 2000, Fig. 1 и 3; Tarkhnishvili et al., 2020: 15, Fig. 10; Yanchukov et al., 2022: 294, Fig. 1). Однако наиболее полная и наглядная схема в виде сетки была опубликована недавно (Arakelyan et al., 2023: 129, Fig. 1). Она отражает не только связи видов между собой, но и показывает происхождение полиплоидных (3n и 4n) гибридных особей (см. рис. 4).
Рис. 4. Схема взаимоотношений между партеногенетическими (названия красным цветом) и родительскими обоеполыми видами (названия черным цветом) скальных ящериц, а также образования полиплоидных особей (по: Arakelyan et al., 2023).
Биохимические (аллозимные) доказательства гибридного происхождения четырех партеногенетических видов скальных ящериц Кавказа, полученные Томасом Аззеллом, а также серия работ, показавших гибридную природу североамериканских партеновидов рода Cnemidophorus (ныне Aspidoscelis), привели И. С. Даревского к отказу от концепции негибридного географического партеногенеза, которой он придерживался ранее. По его мнению (Даревский, 1974: 345), если негибридный путь возникновения партеногенеза у ящериц и имел место, то его значение по сравнению с гибридными партеновидами, очень невелико.
Возраст партеногенетических видов
Замечательное открытие партеногенеза у скальных ящериц Кавказа неизбежно поставило вопрос не только о механизмах их происхождения, но и о возрасте однополых форм. По аналогии с партеногенетическими беспозвоночными, обнаруженными ранее, а также следуя концепции географического партеногенеза, И. С. Даревский (1962: 399–400) предположил, что переход к однополому размножению у скальных ящериц Армянского нагорья был обусловлен событиями четвертичного периода.
Согласно его гипотезе, предковые обоеполые формы существовали в Армении еще с конца третичного периода (с конца миоцена – Darevsky, 1966: 147). Поэтому возникшие от них партеногенетические “подвиды” Lacerta saxicola armeniaca, Lacerta saxicola dahli и Lacerta saxicola rostombekovi (sic!, виды c 1966; ныне род Darevskia) сравнительно древние. Однополые ящерицы пережили три четвертичных оледенения, хотя их первоначальные ареалы сильно сократились в период последнего (вюрмский максимум), сохранившись в лесных рефугиумах, которые сейчас маркируются реликтовыми рощами тиса Taxus baccata L. После отступления ледников в голоцене ареалы партеноформ расширились до современных пределов (Даревский, 1962: 399–400; см. также Darevsky, 1966: 146–147; Даревский, 1967: 201).
Таким образом, если исходить из изложенного выше, партеновиды возникли до или в четвертичный период, но перед последним, вюрмским оледенением. Однако позже, принимая концепцию видов-сорняков (Wright, Lowe, 1968), предложенную для североамериканских партеногенетических ящериц, И. С. Даревский (1974: 341–342, 1982: 42) заново интерпретировал свою прежнюю аргументацию. Он предположил, что
«<…> переход к однополому размножению произошел на Кавказе во время последнего четвертичного оледенения под воздействием жестких для пресмыкающихся климатических условий, связанных с общим изменением климата. В создавшихся экстремальных условиях действие стабилизирующего отбора (?! – Л.Б.) должно было привести к закреплению у скальных ящериц однополого размножения, обеспечивающего им определенные преимущества для сохранения вида» (Даревский, 1974: 341–342; курсив мой. – Л.Б.).
Быстрое нарастание численности позволило партеновидам, по аналогии с растительными видами-сорняками, занять освободившиеся разрушенные местообитания и затем быстро расселиться.
Исходя из палеогеографических данных, было высказано предположение о том, что Lacerta unisexualis существует в бассейне озера Севан несколько тысяч лет, самое меньшее 5000 лет, т. е. в рамках голоцена. “Lacerta rostombekovi”, возможно, заметно старше предыдущего вида. Она могла проникнуть на Севан также примерно 5000– 7000 лет назад. Однако не исключено, что другие популяции ящерицы Ростомбекова попали на Севан значительно раньше, максимум 100 000 лет. Тем не менее маловероятно, что им удалось бы пережить пониженные температуры вюрмского оледенения (Uzzell, Darevsky, 1975: 215). Минимальные датировки в 5000–7000 лет были повторены в обзоре партеногенеза у рептилий (Darevsky et al., 1985: 501). Следует заметить, что эти датировки попадают в два похолодания, установленные в период атлантической стадии (~ 7000–6000 лет назад) и ранней суббореальной стадии (5700–4200 лет назад) с более коротким потеплением между ними (~ 6000–5700 лет назад).
Молекулярные исследования подтвердили относительно недавнее происхождение партеновидов на Кавказе. Так, различия по митохондриальной ДНК между Lacerta valentini и Lacerta uzzelli, а также между Lacerta raddei и Lacerta rostombekowi оказались меньше, чем между популяциями Lacerta raddei и соответствуют времени дивергенции лишь в немногие тысячи лет (Moritz et al., 1992: 60).
Несколько другие датировки были получены по митохондриальной ДНК (Freitas et al., 2016: 121 и 125). Так, линия Darevskia raddei, ведущая к Darevskia unisexualis и Darevskia uzzelli, ответвилась около 170 (минимум 75 – максимум 290) тысяч лет назад, тогда как расхождение между самими однополыми видами оценивается в 2–61 тысячи лет. Однополая Darevskia bendimahiensis отошла от филогенетически ближайшей к ней линии Darevskia raddei максимум 204 тысяч лет назад, а минимум то ли 18 тысяч (p. 121), то ли 78 тысяч лет назад (p. 125). Отмечается частичное временно́е совпадение этих датировок с так называемым последним межледниковьем (LIG, Last Interglacial, 130–115 тысяч лет назад), т. е. микулинским межледниковьем, согласно российской терминологии.
Таким образом, оценки по митохондриальной ДНК дают «молодой» возраст партеногенетических видов скальных ящериц Кавказа, варьирующий от нескольких (5000 лет) до 290 тысяч лет. В недавнем обзоре М. Аракелян с соавторами (Arakelyan et al., 2023: 129) приведен диапазон от 22 до 140 тысяч лет назад. Однако изучение половых хромосом позволило отодвинуть возраст партеногенетических видов от 0.5 до 2 млн лет назад (Yanchukov et al., 2022: 293, 299, Fig. 3, Table 1). Эти авторы, используя несколько вариантов калибровки, предложили оценки возраста для всех семи однополых видов, которые распались на два периода: ~ 0.5–0.9 млн лет для Darevskia armeniaca, Darevskia dahli, Darevskia uzzelli и Darevskia rostombekowi, а также ~ 1–2 млн лет для Darevskia bendimahiensis, Darevskia sapphirinica и Darevskia unisexualis.
Многочисленные однополые виды хлыстохвостых ящериц Северной Америки, ранее относимые к роду Cnemidophorus sensu lato, а ныне к Aspidoscelis, по-видимому, также имеют относительно молодой возраст: “very recent origin” (Densmore et al., 1989: 952), “relatively recently”, но, вероятно, не ранее плейстоцена (Densmore et al., 1989a: 981, Moritz et al., 1989: 966, 1989a: 106; Reeder et al., 2002: 28). “Относительно недавнее происхождение” партеногенетического вида Aspidoscelis laredoensis McKinney, Kay et Anderson, 1973, обитающего на юге Техаса и прилегающей Мексики, было оценено “парой сотен тысяч лет” (Barley et al., 2022: 271 и 273), тогда как более южная партеногенетическая форма неотропического вида Cnemidophorus lemnisсatus (Linnaeus, 1758), по-видимому, появилась в результате гибридизации на переходе от плейстоцена к современности (Dessauer, Cole, 1989: 67).
Это же относится и к геккону Heteronotia binoei (Gray, 1845), семейство Gekkonidae, партеногенетические линии которого имеют широкое распространение в аридной зоне Австралии (Moritz et al., 1989а: 106). Возникновение партеноформы и начало последующей экспансии было отнесено к позднему плейстоцену. Возраст северо-западной линии, подсчитанный на основе секвенирования митохондриальной ДНК, оказался равным 240 тысяч лет, а другой западной – 70 тысячам лет (Strasburg et al., 2007: 1 и 9). Плейстоценовые колебания климата стимулировали появление партеногенетических линий (Fujita et al., 2010: 2307–2308).
Несмотря на это, с учетом встречаемости однополых видов во многих и довольно разных семействах чешуйчатых рептилий было высказано смелое предположение, что сама способность продуцировать партеногенетические гибриды могла возникнуть у Squamata более 200 млн лет назад (Reeder et al., 2002: 29). Недавно факультативный партеногенез был обнаружен у крокодилов, что отодвигает возраст некоего общего предка, возможного носителя механизма, ведущего к партеногенезу, до 267–313 млн лет назад, т. е. к позднему палеозою. Можно было бы выдвинуть альтернативное мнение: такая “способность” могла возникать у рептилий неоднократно и независимо в разных группах, т. е. иметь более молодой возраст, но это не находит поддержки (Booth et al., 2023: 2–3).
В сводках по эволюционной теории агамные (однополые) виды весьма часто характеризуются как эфемерные, молодые и быстро исчезающие виды, возникающие за единичное число поколений и в общем не имеющие большого эволюционного значения. Это, как нередко полагают, – тупик эволюции, поскольку партеногенез дает лишь кратковременное преимущество, и партеногенетические (клональные) формы эволюционно обречены на быстрое вымирание (например, Майр, 1968: 330, 1974: 269; Тимофеев-Ресовский и др., 1969: 198; Мэйнард-Смит, 1981: 74; Vrijenhoek, 1989: 28–29). Исключением считали только коловраток Bdelloidea (Rotifera) с облигатным партеногенезом (см. ниже).
Казалось бы, эта довольно обычная точка зрения подтверждается приведенными выше данными о недавнем (голоцен, поздний плейстоцен) происхождении партеногенетических видов у ящериц родов Darevskia (семейство Lacertidae), Aspidoscelis (семейство Teiidae) и Heteronotia (семейство Gekkonidae). К ним можно добавить однополых пресноводных гольянов комплекса Phoxinus eos-neogaeus (семейство Cyprinidae), широко распространенных в Северной Америке (Goddart et al., 1989: 274, “recent origin”).
Среди европейских зеленых лягушек гибридогенная съедобная лягушка, Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758) достоверно существовала на севере Германии, как минимум, 5000 лет назад, на что указывают палеонтологические данные (Böhme, 1983: 33, “Rana esculenta”). Минимальный возраст другой клональной формы Pelophylax hispanicus (Bonaparte, 1839) оценивается, исходя из палеогеографии, в 50 000 лет (Plötner, 2005: 108, “Rana hispanica”).
Возникновение наиболее древней однополой линии у рыбок Poeciliopsis (семейство Poeciliidae) был отнесено к позднему плейстоцену, т. е. примерно 150 тысяч лет назад. Таким образом, клональное размножение (гибридогенез) существует в этом комплексе в течение 120 000–150 000 поколений при условии двух поколений в год (Quattro et al., 1992: 351).
Сложность определения времени возможного появления клональных форм можно проиллюстрировать на примере однополых североамериканских амбистом. Первоначально опубликованные датировки вполне подтверждали их “молодость” с геологической точки зрения и укладывались, как и в случае партеногенетических ящериц, в голоцен–плейстоцен. Например, их эволюционный возраст оценивали уходом висконсинского ледника11, примерно в 10 тысяч лет назад (Uzzell, 1964: 290), т. е. границей плейстоцена и голоцена, диапазоном между 3500 и 10 000 годами (Kraus, 1989: 221), т. е. голоценом, или в 25 тысяч лет (Robertson et al., 2006: 3346), т. е. поздним плейстоценом.
Более того, было даже высказано предположение, что тригибридный самочный вид Ambystoma nothagenes Kraus, 1985, обитающий на острове Келлис озера Эри (одно из пяти Великих озер Северной Америки), возник путем гибридизации Ambystoma laterale Hallowell, 1856 × Ambystoma texanum (Matthes, 1855) × Ambystoma tigrinum (Green, 1825), не более чем 130–160 лет назад! (Kraus, 1985: 13, 1985а: 319). Однако вскоре эта дата была оспорена, как и реальность самого вида, по факту представленного смесью из не менее пяти ди-, три и тетраплоидных эфемерных клонов, имеющих множественное происхождение, которое отрицалось в указанных выше статьях (Bogart et al., 1987: 2200; Lowcock, 1989: 201). В итоге пришли к выводу, что заселение острова амбистомами могло произойти примерно 3500 лет назад, до затопления сухопутного моста с окружающей озеро сушей, а сами они возникли после окончания висконсинского оледенения, т. е. менее 10 000 лет назад (Kraus, 1989: 221).
Тем не менее у однополых форм амбистом были получены и более древние датировки. Так, их возраст оценили в 3.9±0.6 млн лет, т. е. поздним плиоценом (Hedges et al., 1992: 710), и даже в 5 млн лет (Spolsky et al., 1992: 708), т. е. ранним плиоценом, что было оспорено (Robertson et al., 2006: 3346). Затем фигурировали также цифры в 2.4–3.9 млн лет (Bogart et al., 2007: 124 и 134, 2009: 484). Новые данные, основанные на секвенировании гена цитохрома cyt-b, подтвердили появление однополых амбистом в раннем плиоцене, примерно 5.1–5.3 млн лет назад (Bi, Bogart, 2010: 6; Bogart, 2019: 264). Это дало повод авторам заявить, что изученные ими амбистомы являются самыми древними клональными видами среди позвоночных.
Среди клональных рыб также известны примеры, когда длительность их реального существования в природе превышает срок, ожидавшийся теоретически (Lampert, Schartl, 2010: 2). Так, анализ данных по секвенированию митохондриальных и ядерных генов у Poecilia formosa показал, что возраст этого самочного вида составляет около 280 тысяч лет, что соответствует примерно 840 000 поколений, если считать по три поколения в год (Lampert, Schartl, 2008: 2094).
Теоретические расчеты дают разные прогнозы времени вымирания Poecilia formosa в зависимости от скорости и вредности мутаций, а также силы отбора. Однако в большинстве таких расчетов ожидаемый срок вымирания из-за накопления мутаций, ведущего к геномному распаду (genomic decay), оказывается меньше, чем оценка возраста вида по секвенированным локусам, что было обозначено как парадокс геномного распада. При слегка вредных мутациях при скорости дивергенции 3.6±0.46% на сайт за 1 млн лет вычисленный возраст вида должен быть равен в среднем 81 тысяче лет (Loewe, Lamatsch, 2008: 15), что в несколько раз меньше, чем указанная выше калибровка по секвенированным генам.
Новые молекулярные данные понизили минимальный возраст Poecilia formosa до 100 тысяч лет или 500 000 поколений при продолжительности жизни поколения в 3–4 месяца. Тем не менее даже эти данные превышают теоретические расчеты о сроках вымирания. Важно, что сам гиногенетический вид не показывает заметных признаков эволюционной деградации или геномного распада, демонстрируя клональный полиморфизм и высокую гетерозиготность, в 10 раз выше, чем у родительских обоеполых видов (Warren et al., 2018: 672–673).
Было также высказано предположение, что относительно молодой возраст однополых видов ящериц связан с их возникновением и распространением в умеренных широтах, где в плейстоцене и голоцене происходили относительно быстрые изменения ландшафтов и периодические колебания климата. Возможно, что в тропиках было бы все иначе (Moritz et al., 1989a: 106). Отмечалось, в частности, что в образовании южноамериканских гибридных однополых видов рода Cnemidophorus принимали участие близкородственные обоеполые виды, в отличие от видов Северной Америки (Dessauer, Cole, 1989: 67), ныне относимых к роду Aspidoscelis.
Предположение в известной степени оказалось пророческим. Изучение амазонской ящерицы Loxopholis percarinatum (Müller, 1923) из семейства Gymnophthalmidae показало, что ее диплоидная партеногенетическая форма возникла как результат гибридизации, по-видимому, в позднем миоцене, примерно 7.1 млн лет назад. Как справедливо указали авторы, она оказалась самой древней однополой формой среди современных позвоночных (Brunes et al., 2019: 114). Триплоидная партеногенетическая форма этого вида гораздо моложе. Это справедливо и для других полиплоидных клональных комплексов, образованных с участием гибридизации, так как триплоидные особи (формы, виды) появляются позже диплоидных за счет возвратных скрещиваний последних.
Однако рекордсменами по долголетию все же являются беспозвоночные животные. Существуют предположения об исключительной продолжительности клональной эволюции в некоторых группах (см. Loewe, Lamatsch, 2008: 8–9). К ним относятся уже упоминавшиеся партеногенетические бделлоидные коловратки (класс Bdelloidea, Rotifera), существующие около 35–40 млн лет (Mark Welch, Meselson, 2000: 1211; Milius, 2003; Mark Welch et al., 2004: 1620). Наличие у них дивергентных копий (от двух и более) каждого гена, вероятно, унаследовано от общего полиплоидного далекого предка и не противоречит асексуальности, развитой в этой древней группе (Mark Welch et al., 2004а: 1620). Однако недавно некоторые признаки обмена генами и рекомбинации были обнаружены у коловратки Adineta vaga Davis, 1873, что не совсем соответствует предполагавшейся строгой клональности, но механизм этого обмена между особями остается пока неясным (Vakhrusheva et al., 2020: 7 и 11). Было также высказано предположение о факультативном половом размножении у партеногенетической Macrotrachella quadricornifera Milne, 1886 (Laine et al., 2022: 7).
Следует назвать также удивительных панцирных клещей (Oribatida, Acari), многие из которых партеногенетики, включая монофилетические семейства Nanhermanniidae (56 видов), Malaconothridae (104) и Camisiidae (92), а также род Tectocepheus Berlese, 1895 (3 вида) из семейства Tectocepheidae (Maraun et al., 2004: 198). Молекулярное изучение методом секвенирования митохондриального гена цитохромоксидазы (COI) Platynothrus peltifer (C. L. Koch, 1839), семейство Camisiidae, из Северной Америки, Европы и Азии, показало, что расселение этого однополого вида, по-видимому, было связано с дрейфом материков, и его предполагаемый возраст около 100 млн лет (Heethoff et al., 2007: 309).
Однако самым древним партеногенетическим видом среди ныне живущих многоклеточных животных, возможно, следует считать клеща Mucronothrus nasalis (Willmann, 1929) из семейства Trhypochthoniidae. Возраст этого вида, имеющего почти космополитическое распространение, оценивается минимум в 200 млн лет (Hammer, Wallwork, 1979: 8; Maraun et al., 2004: 183).
Следует заметить, что помимо древних полностью партеногенетических эволюционных линий панцирных клещей, известны также однополые виды недавнего (recent) происхождения, например, Atropacarus striculus (C. L. Koch, 1836) из семейства Phthiracaridae, Rhysotritia duplicata (Grandjean, 1953) и Microtritia minima (Berlese, 1904) из семейства Euphthiracaridae; оба эти семейства включают преимущественно виды, размножающие половым путем (Maraun et al., 2004: 198).
Однако наиболее впечатляют остракоды семейства Darwinulidae (Ostracoda, Crustacea), перешедшие к асексуальности, по-видимому, в конце пермского периода, примерно 245 млн лет, что подтверждается анализом палеонтологических данных на примере мезозойских остракод, начиная с триаса (Martens et al., 2003). Современная Darwinula stevensoni Brady et Robertson, 1870 не использует половое размножение порядка 20–25 млн лет. Она характеризуется низким уровнем генетического разнообразия, причем 50% мутаций у нее соматические (Schön, Martens, 2003: 827, 829–830).
Находка трех самцов (впервые более чем за сотню лет) у другого современного вида Vestalenula cornelia Smith, Kamiya et Horne, 2006 в Японии бросает некоторую тень на абсолютную достоверность древней асексуальности в этом семействе и призывает к большей тщательности при обработке ископаемого материала (Smith et al., 2006: 1575–1577). Однако вряд ли обнаружение трех самцов в выборках всего лишь одного вида, к тому же приходящихся на 683 самки, могут опровергнуть общее понимание партеногенеза в этой группе остракод. В качестве аналогии можно сослаться на случайных самцов разной природы, изредка спонтанно появляющихся у однополых скальных ящериц Кавказа и хлыстохвостых ящериц Северной Америки, что, однако, не портит картины в целом (см. выше раздел «Самцы партеногенетических видов»).
Таким образом, теоретические рассуждения об эфемерности клональных видов, короткого времени их существования и тупиковости эволюции не всегда соответствуют реальности. Однако, как было замечено, вопрос о времени и механизмах возникновения (числе “гибридизационных событий”) таких видов, поставленный более 60 лет назад работами И. С. Даревского, остается актуальным и наиболее дискуссионным даже в наши дни (Erdolu et al., 2023: 1).
БЛАГОДАРНОСТИ
Я признателен М. С. Аракелян (Ереван) за предоставление ряда публикаций и фотографию армянской ящерицы, а также И. В. Доронину (Санкт-Петербург) за консультации. Сделанные им и Э. А. Галояном (Москва) замечания позволили улучшить текст статьи.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Исследование выполнено в рамках темы ЗИН РАН № 122031100282–2.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Исследование основано на использовании литературных данных.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Автор данной работы заявляет, что у него нет конфликта интересов.
1 Первоначально И. С. Даревский был избран президентом Всесоюзного герпетологического общества (ВГО), созданного на Седьмой Всесоюзной герпетологической конференции в Киеве в 1989 г. В январе 1991 в Пущино (Московская область) состоялся так называемый Учредительный съезд ВГО, на котором были проведены довыборы руководства и принят устав. После распада СССР (1991) ВГО переименовали в Герпетологическое общество имени А. М. Никольского при РАН (см. Боркин, 2003: 27).
2 Потом выяснилось, что это были самцы другой, обоеполой скальной ящерицы Lacerta saxicola terentjevi Darevsky, 1957 = Lacerta saxicola valentini Boettger, 1892 (Darevsky, 1966: 116), ныне ящерица Валентина, Darevskia valentini (Boettger, 1892).
3 Часто встречающееся написание rostombekovi (см. Даревский, 1962а: 397, 1962б: 51, 1967а: 413, 1967б: 130; Darevsky, 1966: 115 и многие другие) неправильно, так как не соответствует названию, данному в первоописании ящерицы (Даревский, 1957: 35; см. Murphy, 1999).
4 Эта монография была переиздана в 1977 г. (см. Астауров, 1977: 206 и 210).
5 Номер 4 со статьей И. С. Даревского датирован 30 декабря 1966 г.
6 С 1 января 1967 г. это общество было переименовано в “Society for the Study of Amphibians and Reptiles”, вскоре ставшее одной из наиболее влиятельных в США организаций в области герпетологии.
7 Сборник тезисов был сдан в набор 21 января 1966 г
8 Название Lacerta saxicola lantzcyreni как nomen novum для преоккупированного Lacerta saxicola mehelyi Lantz et Cyrén, 1936 было опубликовано дважды: в монографии И. С. Даревского (1967а: 63) и в его заметке в соавторстве с австрийским герпетологом Йозефом Эйзельтом (Darevsky, Eiselt, 1967: 107). Однако монография была подписана к печати 27/XI и, следовательно, была напечатана не ранее декабря 1967 г., тогда как заметка была опубликована в октябре. Поэтому правильное авторство этого названия – Lacerta saxicola lantzcyreni Darevsky et Eiselt, 1967. В настоящее время (Arribas et al., 2022: 29) принят следующий таксономический статус этой ящерицы – Darevskia rudis lantzicyreni (Darevsky et Eiselt, 1967).
9 Этот вид небольших рыбок прозвали так (“Amazon molly”) явно по аналогии с мифическими амазонками, поскольку он существует только в виде самок (Hubbs, 1955: 3); к Амазонии название никакого отношения не имеет.
10 Рудиментарным неудачно назвали такой тип партеногенеза, когда спонтанное развитие неоплодотворенных яиц не идет далее ранних стадий и заканчивается гибелью эмбриона. Если все же в крайне редких случаях это развитие, например, у тутового шелкопряда приводит к появлению половозрелых партеногенетических особей, то говорят об исключительном или случайном (акцидентальном) партеногенезе. Таким образом, термин «рудиментарный» никакого эволюционного (филогенетического) значения не имеет (Астауров, 1940: 9; 1977: 13).
11 Висконсинское оледенение в Северной Америке примерно соответствует вюрмскому в Альпах и валдайскому на востоке Европы.
About the authors
L. J. Borkin
Zoological Institute, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: Leo.Borkin@zin.ru
Russian Federation, St. Petersburg, 199034
References
- Аззелл Т. М., Даревский И. С., 1974. Доказательства гибридного происхождения партеногенетических видов кавказских скальных ящериц рода Lacerta // Журнал общей биологии. Т. 35. № 4. С. 553–561.
- Айала Ф., 1984. Введение в популяционную и эволюционную генетику. М.: Мир. 230 с.
- Ананьева Н. Б., Доронин И. В., 2014. Илья Сергеевич Даревский: 90 лет со дня рождения // Труды Зоологического института РАН, СПб. Т. 318. № 4. С. 326–338.
- Ананьева Н. Б., Доронин И. В., 2015. Илья Сергеевич Даревский: портрет герпетолога. Фотоальбом. СПб.: Зоологический институт РАН. 102 с.
- Арнольди Л. В., 1953. Партеногенез у долгоносиков // Доклады на пятом ежегодном чтении памяти Н. А. Холодковского 9 апреля 1952 г. М. – Л.: Изд-во Акад. наук СССР. С. 3–11 (На обложке – Чтения памяти Николая Александровича Холодковского 1952г.)
- Аронштам А. А., Боркин Л. Я., Пудовкин А. М., 1977. Изоферменты в популяционной и эволюционной генетике // Генетика изоферментов. М.: Наука. С. 199–249.
- Астауров Б. Л., 1940. Искусственный партеногенез у тутового шелкопряда (экспериментальное исследование). М. – Л.: Изд-во Акад. наук СССР. 240 с.
- Астауров Б. Л., 1951. Зачаточный партеногенез у осетровых рыб (Acipenser stellatus, Ac. güldenstädti, Huso huso) // Доклады Акад. наук СССР, М. – Л. Новая серия. Т. 78. № 1. С. 173–176.
- Астауров Б. Л., 1960. Диплоидный и полиплоидный термический партеногенез у двух видов шелковичного червя и их гибридов // Вопросы эволюции, биогеографии, генетики и селекции. М. – Л.: Изд-во Акад. наук СССР. С. 32–42.
- Астауров Б. Л., 1977. Искусственный партеногенез у тутового шелкопряда (экспериментальное исследование) // Астауров Б. Л. Партеногенез, андрогенез и полиплоидия. М.: Наука. С. 7–248.
- Бей-Биенко Г.Я., 1954. Кузнечиковые. Подсем. Листовые кузнечики (Phaneropterinae). Фауна СССР. Новая серия. № 59. Прямокрылые. Т. 2. Вып. 2. М. – Л. Изд-во Акад. наук СССР. 385 с.
- Берг Л. С., 1947. Об “однополом” размножении у карасей // Вестник Ленинградского университета. № 7. С. 55–59.
- Боркин Л. Я., 2003. Краткий очерк развития герпетологии в России // Московские герпетологи. М.: изд-во КМК. С. 7–33.
- Боркин Л. Я., 2011. Даревский Илья Сергеевич // Научный Санкт-Петербург. Биология в Санкт-Петербурге. 1703–2008. Энциклопедический словарь. СПб.: Нестор-История. С. 164.
- Боркин Л. Я., Даревский И. С., 1980. Сетчатое (гибридогенное) видообразование у позвоночных // Журнал общей биологии. Т. 41. № 4. С. 485–506.
- Боркин Л. Я., Литвинчук С. Н., 2013. Гибридизация, видообразование и систематика животных // Современные проблемы биологической систематики. СПб. С. 83–139 (Труды Зоологического института РАН. Приложение № 2).
- Боркин Л. Я., Сайфитдинова А. Ф., 2024. Наукометрия, оценка научной деятельности ученых и научная политика в России // Биосфера, СПб. Т. 16. № 1. С. 103–143. doi: 10.24855/biosfera.v16i1.906
- Боркин Л. Я., Виноградов А. Е., Розанов Ю. М., Цауне И. А., 1987. Полуклональное наследование в гибридогенном комплексе Rana esculenta: доказательство методом проточной ДНК-цитометрии // Доклады Акад. наук СССР. Т. 295. № 5. С. 1261–1264.
- Боркин Л. Я., Литвинчук С. Н., Мазепа Г. А., Пасынкова Р. А., Розанов Ю. М., Скоринов Д. В., 2012. Западные Гималаи как арена необычного триплоидного видообразования у зеленых жаб группы Bufo viridis // Отчетная научная сессия по итогам работ 2011 г. Тезисы докладов. 3–5 апреля 2012 г. СПб.: Зоологический институт РАН. С. 10–12.
- Васильев В. П., Васильева Е. Д., 1982. Новый диплоидно-полиплоидный комплекс у рыб // Доклады Акад. наук СССР. Т. 266. № 1. С. 250–252.
- Васильев В. П., Васильева Е. Д., Осинов А. Г., 1983. Первое свидетельство в пользу основной гипотезы сетчатого видообразования у позвоночных // Доклады Акад. наук СССР. Т. 271. № 4. С. 1009–1012.
- Васильев В. П., Лебедева Е. Б., Васильева Е. Д., 2010. Сетчатое видообразование и полиплоидная эволюция у рыб // Актуальные проблемы современной ихтиологии (к 100-летию Г. В. Никольского). М.: Товарищество научных изданий КМК. С. 148–177.
- Васильев В. П., Лебедева Е. Б., Васильева Е. Д., Левенкова Е. С., Рысков А. П., 2005. Уникальный диплоидно-тетраплоидный однополо-двуполый комплекс рыб (Pisces, Cobitidae) // Доклады Академии наук, М. Т. 404. № 4 С. 559–561.
- Васильев В. П., Лебедева Е. Б., Васильева Е. Д., Рысков А. П., 2007. Моноклональные и возникающие de novo тетраплоидные формы рыб рода Cobitis (Cobitidae) из различных клонально-бисексуальных комплексов // Доклады Академии наук, М. Т. 416. № 4. С. 558–562.
- Головинская К. А., 1975. Гиногенез у рыб в исследованиях Д. Д. Ромашова // Из истории биологии. Выпуск 5. М.: Наука. С. 92–102.
- Гребельный С. Д., 2008. Клонирование в природе. Роль остановки генетической рекомбинации в формировании фауны и флоры. СПб.: Зоологический институт РАН, 287 с.
- Даниелян Ф. Д., 1965. Механизмы репродуктивной изоляции у некоторых подвидов скальных ящериц (Lacerta saxicola Eversmann) // Известия Академии наук Армянской ССР, Ереван. Биологические науки. Т. 18. № 10. С. 75–80.
- Даревский И. С., 1957. Систематика и экология скальных ящериц Lacerta saxicola Eversmann, распространенных в Армении // Материалы по изучению фауны Армянской ССР, Ереван. Т. 3. С. 27–57 (Зоологический сборник АН АрмССР. Вып. 10).
- Даревский И. С., 1957а. Фауна пресмыкающихся Армении и ее зоогеографический анализ. Автореф. дис. … канд. биол. наук. Ереван: Зоологический институт АН СССР. 28 с.
- Даревский И. С., 1958. Естественный партеногенез у некоторых подвидов скальной ящерицы Lacerta saxicola Eversmann // Доклады Акад. наук СССР. Т. 122. № 4. С. 730–732.
- Даревский И. С., 1962. О происхождении и биологической роли естественного партеногенеза в полиморфной группе кавказских скальных ящериц Lacerta saxicola Eversmann // Зоологический журнал. Т. 41. Вып. 3. С. 397–408.
- Даревский И. С., 1962а. О происхождении и биологической роли естественного партеногенеза в полиморфной группе кавказских скальных ящериц // Вопросы экологии. Т. VI. Вопросы экологии наземных позвоночных. По материалам четвертой экологической конференции. [М.]: Высшая школа. С. 51–53.
- Даревский И. С., 1964. Естественный партеногенез у позвоночных. Однополое размножение у пресмыкающихся // Природа. № 7. С. 45–58.
- Даревский И. С., 1966. Естественный партеногенез в полиморфной группе кавказских скальных ящериц // Отчетная научная сессия по итогам работ 1965 года (14–16 февраля 1966 г.). Тезисы докладов. Л.: Наука. С. 13–15.
- Даревский И. С., 1967. О таксономическом ранге партеногенетических форм скальной ящерицы (Lacerta saxicola Eversmann) в связи с вопросом о применении видовых критериев к агамным видам // Зоологический журнал. Т. 46. Вып. 3. С. 413–419.
- Даревский И. С., 1967а. Скальные ящерицы Кавказа (систематика, экология и филогения полиморфной группы кавказских ящериц подрода Archaeolacerta). Л.: Наука. 214 с.
- Даревский И. С., 1971. Гибридизация, партеногенез и полиплоидия – три последовательные этапа процесса формообразования у ящериц // Отчетная научная сессия [Зоологического института АН СССР] по итогам работ 1970 года. 15–17 марта 1971 г. Тезисы докладов. Л.: Наука. С. 16–17.
- Даревский И. С., 1974. Гибридизация и партеногенез как факторы видообразования у пресмыкающихся // Теоретические вопросы систематики и филогении животных. Л.: Наука. С. 335–348 (Труды Зоологического института АН СССР. Т. 53).
- Даревский И. С., 1982. Замечательные скальные ящерицы // Природа. № 3. С. 33–44.
- Даревский И. С., 2006. Последствия попытки интродукции двуполого вида скальной ящерицы, Darevskia mixta (Sauria, Lacertidae) из Грузии в Житомирскую область Украины // Вестник зоологии, Киев. Т. 40. № 4. С. 370.
- Даревский И. С., 2014. Моя биография (герпетология и жизнь) // Труды Зоологического института РАН, СПб. Т. 318. № 4. С. 292–325.
- Даревский И. С., Даниелян Ф. Д., 1978 («1977»). Lacerta uzzelli sp. n. (Sauria, Lacertidae) – новый партеногенетический вид скальной ящерицы из восточной Турции // Герпетологический сборник. Л. С. 55–59 (Труды Зоологического института АН СССР. Т. 74 за 1977).
- Даревский И. С., Куликова В. Н., 1962. Систематические признаки и некоторые особенности оогенеза гибридов между обоеполой и партеногенетической формами скальной ящерицы // Цитология. Т. 4. № 2. С. 160–170.
- Даревский И. С., Куликова В. Н., 1964. Естественная триплоидия в полиморфной группе кавказских скальных ящериц (Lacerta saxicola Eversmann), как следствие гибридизации между двуполыми и партеногенетическими формами этого вида // Доклады Акад. наук СССР. Т. 158. № 1. С. 202–205.
- Даревский И. С., Мусхелишвили Т. А., 1966. Ареалы различных подвидовых форм скальной ящерицы (Lacerta saxicola Eversmann) в восточной и южной Грузии // Сообщения Академии наук Грузинской ССР, Тбилиси. Т. 43. № 2. С. 473–480.
- Даревский И. С., Щербак Н. Н., 1967. Акклиматизация партеногенетических ящериц на Украине // Природа. № 3. С. 93.
- Даревский И. С., Куприянова Л. А., Бакрадзе М. А., 1977. Остаточная бисексуальность у партеногенетических видов скальных ящериц рода Lacerta // Журнал общей биологии. Т. 38. № 5. С. 772–780.
- Даревский И. С., Аззелл Т., Куприянова Л. А., Даниелян Ф. Д., 1973. Гибридные триплоидные самцы в симпатрических популяциях партеногенетических и обоеполых видов скальных ящериц рода Lacerta L. // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Новая серия. Отдел биологический. Т. 78. Вып. 1. С. 48–58.
- Даревский И. С., Даниелян Ф. Д., Розанов Ю. М., Соколова Т. М., 1991. Внутриклональное спаривание и его вероятное эволюционное значение в группе партеногенетических видов скальных ящериц рода Archaeolacerta // Зоологический журнал. Т. 70. Вып. 5. С. 63–74.
- Даревский И. С., Кан Н. Г., Рябинина Н. Л., Мартиросян И. А., Токарская О. Н., Гречко В. В. и др., 1998. Биологические и молекулярно-генетические характеристики партеногенетического вида ящериц Lacerta armenica (Mehely), интродуцированного из Армении на Украину // Доклады Академии наук, М. Т. 363. № 6. С. 846–848.
- Добровольская Г., 1964. Биометрический анализ подвидов скальных ящериц Армении // Применение математических методов в биологии. Сборник 3. [Л.]: изд-во Ленинградского университета. С. 70–74.
- Доронин И. В., 2015. Cистематика, филогения и распространение скальных ящериц надвидовых комплексов Darevskia (praticola), Darevskia (caucasica) и Darevskia (saxicola). Автореф. дис. … канд. биол. наук. СПб.: [Зоологический институт РАН]. 24 с.
- Доронин И. В., 2021. Новые данные о некоторых российских герпетологах. Сообщение 3 // Современная герпетология, Саратов. Т. 21. Вып. 3/4. С. 123–131. https:///doi.org/10.18500/1814-6090-202-2 -3-4-123-131
- Доронин И. В., Джелали П. А., Лотиев К. Ю., Мазанаева Л. Ф., Мустафаева Г. А., Буньятова С. Н., 2021. Филогеография скальных ящериц комплекса Darevskia (caucasica) (Lacertidae: Sauria) по результатам анализа митохондриального гена цитохрома b // Труды Зоологического института РАН, СПб. Т. 325. № 1. С. 49–66. https:///doi.org/10.31610/trudyzin/2021.325.1.49
- Доценко И. Б., Мельниченко Р. К., Демидова М. И., 2016. Особенности биологии и факторы расселения пapтeнoгeнeтических cкальних ящеpиц poда Darevskia (Reptilia, Lacertidae), интpoдуцированных в Житoмиpской области Украины // Збірник праць Зоологічного музею, Київ. № 47. С. 41–51.
- Колчинский Э. И., 2006. Эрнст Майр и современный эволюционный синтез. М.: Товарищество научных изданий КМК. 149 с.
- Крыжановский С. Г., 1957. О партеногенетическом развитии сахалинской сельди по материалам нерестового сезона 1955 г. // Вопросы ихтиологии, М. Вып. 8. С. 81–88.
- Кэйн А., 1958. Вид и его эволюция. М.: Изд-во иностранной литературы. 244 с.
- Лищук А. В., Доронин И. В., Кукушкин О. В., 2024. Сравнительная характеристика посткраниального скелета скальных ящериц комплексов Darevskia (caucasica) и Darevskia (saxicola) (Lacertidae: Sauria) // Труды Зоологического института РАН, СПб. Т. 328. № 2. С. 227–249.
- 31610/trudyzin/2024.328.2.227
- Майр Э., 1968. Зоологический вид и эволюция. М.: Мир. 597 с.
- Майр Э., 1974. Популяции, виды и эволюция. М.: Мир. 460 с.
- Мэйнард Смит Дж., 1981. Эволюция полового размножения. М.: Мир. 271 с.
- Петерс Г., 1970. [Рецензия] И. С. Даревский «Скальные ящерицы Кавказа», Изд-во «Наука», 1967, Л., 214 стр., 84 рис., 35 фотогр., 2 цветн. табл.; тираж 1000 экз., цена 1 р. 44 к. // Зоологический журнал. Т. 49. Вып. 2. С. 313–314.
- Суомалайнен Э., 1956. Полиплоидия у партеногенетических долгоносиков // Полиплоидия. М.: Изд-во иностранной литературы. С. 322–330.
- Терентьев П. В., 1961. Герпетология. Учение о земноводных и пресмыкающихся. М.: Высшая школа. 336 с.
- Терентьев П. В., Чернов С. А., 1949. Определитель пресмыкающихся и земноводных. 3-е доп. изд. М.: Советская наука. 340 с.
- Тимофеев-Ресовский Н.В., Воронцов Н. Н., Яблоков А. В., 1969. Краткий очерк теории эволюции. М.: Наука. 407 с.
- Чернов С. А., 1939. Герпетологическая фауна Армянской ССР и Нахичеванской АССР // Зоологический сборник, Ереван. Вып. 1. С. 77–194 (Труды Биологического института Армянского филиала АН СССР. Вып. 3).
- Aguín-Pombo D., Kuznetsova V. G., 2023. True parthenogenesis and female-biased sex ratios in Cicadomorpha and Fulgoromorpha (Hemiptera, Auchenorrhyncha) // Insects. V. 14. № 10. Article 820. P. 1–21. https://doi.org/10.3390/insects14100820
- Alves M. J., Coelho M. M., Collares-Pereira M.J., 2001. Evolution in action through hybridization and polyploidy in an Iberian fresh water fish: a genetic review // Genetica. V. 111. No. 1–3. P. 375–385.
- Arakelyan M., Spangenberg V., Petrosyan V., Ryskov A., Kolomiets O., Galoyan E., 2023. Evolution of parthenogenetic reproduction in Caucasian rock lizards: a review // Current Zoology, Oxford. V. 69. No. 2. P. 128–135. https:///doi.org/10.1093/cz/zoac036
- Arribas O. J., 1999. Phylogeny and relationships of the mountain lizards of Europe and Near East (Archaeolacerta Mertens, 1921, sensu lato) and their relationships among the Eurasian lacertid radiation // Russian Journal of Herpetology, Moscow. V. 6. No. 1. P. 1–22.
- Arribas O. J., 2016. Why Caucasilacerta Harris, Arnold & Thomas, 1998 is a nomen nudum? // Russian Journal of Herpetology, Moscow. V. 23. No. 4. P. 305–306.
- Arribas O. J., Ananjeva N. B., Carranza S., Doronin I. V., Harris D. J., Orlov N. L., Orlova V. F., 2017. The pernicious effect of retroactive changes in the Code: Darevskia and nomenclatorial stability, a reply to BUSACK et al. (2016) // Basic and Applied Herpetology, Madrid. V. 31. P. 125–129. https:///doi.org/10.11160/bah.75
- Arribas O. J., Ananjeva N. B., Carranza S., Doronin I. V., Orlov N. L., Orlova V. F., 2018. Case 3711 – Iberolacerta Arribas and Darevskia Arribas (Chordata, Squamata, Lacertidae): proposals to deem these names available either from Arribas (1997) or from Arribas (1999) // The Bulletin of Zoological Nomenclature, Singapore. V. 75. № 1. P. 122–129. https:///doi.org/10.21805/bzn.v75.a026
- Arribas O., Candan K., Kornilios P., Ayaz D., Kumlutaş Y., GüL S. et al., 2022. Revising the taxonomy of Darevskia valentini (Boettger, 1892) and Darevskia rudis (Bedriaga, 1886) (Squamata, Lacertidae): a morpho-phylogenetic integrated study in a complex Anatolian scenario // Zootaxa, Auckland (New Zealand). V. 5224. № 1. P. 1–68. doi: 10.11646/zootaxa.5224.1.1
- Barley A. J., Cordes J. E., Walker J. M., Thomson R. C., 2022. Genetic diversity and the origins of parthenogenesis in the teiid lizard Aspidoscelis laredoensis // Molecular Ecology. V. 31, № 1. P. 266–278. doi: 10.1111/mec.16213
- Beatty R. A., 1957. Parthenogenesis and polyploidy in mammalian development. New York: Cambridge University Press, XI+132 p. (Cambridge Monographs in Experimental Biology, № 7). – цит. по: Darevsky, 1966.
- Beukeboom L. W., Vrijenhoek R. C., 1998. Evolutionary genetics and ecology of sperm-dependent parthenogenesis // Journal of Evolutionary Biology, Basel (Switzerland). V. 11. № 6. P. 755–782. https:///doi.org/10.1046/j.1420-9101.1998.11060755.x
- Bi K., Bogart J. P., 2010. Time and time again: unisexual salamanders (genus Ambystoma) are the oldest unisexual vertebrates // BMC Evolutionary Biology, London. V. 10. Article 238. P. 1–14. https:///doi.org/10.1186/1471-2148-10-238
- Biriuk O. V., Shabanov D. A., Korshunov A. V., Borkin L. J., Lada G. A., Pasynkova R. A., et al., 2016. Gamete production patterns and mating systems in water frogs of the hybridogenetic Pelophylax esculentus complex in north-eastern Ukraine // Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research. V. 54. № 3. P. 215–225. doi: 10.1111/jzs.12132
- Bischoff W., 1991. Übersicht über die Arten und Unterarten der Familie Lacertidae 3. Die Gattung Lacerta // Die Eidechse, Bonn – Bremen. Jahrgang 2. H. 3. S. 5–16.
- Bogart J. P., 2003. Genetics and systematics of hybrid species // Sever D. M. (ed.). Reproductive Biology and Phylogeny of Urodela. Enfield (NH): Science Publishers. P. 109–134.
- Bogart J. P., 2019. Unisexual salamanders in the genus Ambystoma // Herpetologica. V. 75. № 4. P. 259–267. doi: 10.1655/Herpetologica-D-19-00043.1
- Bogart J. P., Lowcock L. A., Zeyl C. W., Mable B. K., 1987. Genome constitution and reproductive biology of hybrid salamanders, genus Ambystoma, on Kelleys Island in Lake Erie // Canadian Journal of Zoology, Ottawa. V. 65. № 9. P. 2188–2201. doi: 10.1139/z87–333
- Bogart J. P., Bi K., Fu J., Noble D. W.A., Niedzwiecki J., 2007. Unisexual salamanders (genus Ambystoma) present a new reproductive mode for eukaryotes // Genome, Ottawa. V. 50. № 2. P. 119–136. doi: 10.1139/g06-152
- Bogart J. P., Bartoszek J., Noble D. W., Bi K., 2009. Sex in unisexual salamanders: discovery of a new sperm donor with ancient affinities // Heredity. V. 103. № 6. P. 483–493. doi: 10.1038/hdy.2009.83
- Böhme G., 1983. Paläontologische Belege für die Bastardierung bei Raniden (Amphibia, Salientia) // Schriftenreihe für geologische Wissenschaften, Berlin. H. 19/20. S. 31–37.
- Booth W., Levine B. A., Corush J. B., Davis M. A., Dwyer Q., Plecker R. D. et al., 2023. Discovery of facultative parthenogenesis in a new world crocodile // Biology Letters, London. V. 19. Article 20230129. P. 1–6. https:///doi.org/10.1098/rsbl.2023.0129
- Boulenger G. A., 1920. Monograph of the Lacertidae. Volume I. London: printed by order of the Trustees, X+352 p.
- Brunes T. O., da Silva A. J., Marques-Souza S., Rodrigues M. T., Pellegrino K. C.M., 2019. Not always young: the first vertebrate ancient origin of true parthenogenesis found in an Amazon leaf litter lizard with evidence of mitochondrial haplotypes surfing on the wave of a range expansion // Molecular Phylogenetics & Evolution. V. 135. P. 105–122. https:///doi.org/10.1016/j.ympev.2019.01.023
- Busack S. D., Salvador A., Bauer A. M., Kaiser H., 2016. Darevskia and Iberolacerta (Reptilia, Lacertidae): Arribas, 1997 or 1999? The correct dating of two nomenclatural acts affecting Palearctic lizards, and validation of the name Caucasilacerta Harris, Arnold & Thomas, 1998 // Bionomina, Auckland (New Zealand). V. 10. № 1. P. 61–73. doi: 10.11646/bionomina.10.1.4
- Carretero M. A., García-Muñoz E., Argaña E., Freitas S., Corti C., Arakelyan M. et al.,, 2018. Parthenogenetic Darevskia lizards mate frequently if they have the chance: a quantitative analysis of copulation marks in a sympatric zone // Journal of Natural History, London. V. 52. № 7–8. P. 405–413. doi: 10.1080/00222933.2018.1435832
- Danielyan F., Arakelyan M., Stepanyan I., 2008. Hybrids of Darevskia valentini, D. armeniaca and D. unisexualis from a sympatric population in Armenia // Amphibia–Reptilia. V. 29. № 4. P. 487–504.
- Darevsky I. S., 1966. Natural parthenogenesis in a polymorphic group of the Caucasian rock lizards related to Lacerta saxicola Eversmann // Journal of Ohio Herpetological Society. V. 5. № 4. P. 115–152.
- Darewski I. S., 1972. Zur Verbreitung einiger Felseidechsen des Subgenus Archaeolacerta in der Türkei // Bonner zoologische Beiträge. Bd. 23. H. 4. S. 347–351.
- Darevskii I. S., 1978. Rock Lizards of the Caucasus. Systematics, ecology and phylogenesis of the polymorphic groups of Caucasian rock lizards of the subgenus Archaeolacerta. New Delhi: Indian National Scientific Documentation Centre. 276 p.
- Darevsky I. S., Danielyan F. D., 1968. Diploid and triploid progeny arising from natural mating of parthenogenetic Lacerta unisexualis with bisexual L. saxicola valentini // Journal of Herpetology. V. 2. № 3–4. P. 65–69.
- Darevsky I., Eiselt J., 1967. Ein neuer Name für Lacerta saxicola mehelyi Lantz & Cyrén 1936 // Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. Bd. 70. S. 107.
- Darevsky I. S., Danielyan F. D., Sokolova T. M., Rozanov Yu.M., 1989. Intraclonal mating in the parthenogenetic lizard species Lacerta unisexualis Darevsky // Dawley R. M., Bogart J. P. (eds). Evolution and Ecology of Unisexual Vertebrates. Albany (New York): The New York State Museum. P. 228–235 (The New York State Museum Bulletin 466).
- Darewski I. S., Kulikowa V. N., 1961. Natürliche Parthenogenese in der polymorphen Gruppe der kaukasischen Felseidechse (Lacerta saxicola Eversmann) // Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik, Ökologie und Geographie der Tiere, Jena. Bd. 89. H. 1. S. 119–176.
- Darevskiĭ I. S., Kupriyanova L. A., 1982. Rare males in the parthenogenetic lizard Lacerta armeniaca Méhely // Vertebrata Hungarica, Budapest. T. 21. P. 69–75.
- Darevsky I. S., Kuprianova L. A., Bakradze M. A., 1978. Occasional males and intersexes in parthenogenetic species of Caucasian rock lizards (genus Lacerta) // Copeia. № 2. P. 201–207.
- Darevsky I. S., Kupriyanova L. A., Uzzell T., 1985. Parthenogenesis in reptiles // Gans C., Billett F. (eds). Biology of Reptiles. Volume 15. Development B. New York; Chichester; Brisbane; Toronto; Singapore: A Wiley-Interscience Publication, John Wiley & Sons. P. 411–526.
- Dawley R. M., 1989. An introduction to unisexual vertebrates // Dawley R. M., Bogart J. P. (eds). Evolution and Ecology of Unisexual Vertebrates. Albany (New York): The New York State Museum. P. 1–18 (The New York State Museum Bulletin 466).
- Dedukh D., Litvinchuk J., Svinin A., Litvinchuk S., Rosanov J., Krasikova A., 2019. Variation in hybridogenetic hybrid emergence between populations of water frogs from the Pelophylax esculentus complex // PLoS ONE, San Francisco. V. 14. № 11. Article e0224759. P. 1–19. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224759
- Dedukh D., Marta A., Myung R.-Y., Ko M.-H., Choi D.- S., Won Y.-J. et al., 2024. A cyclical switch of gametogenic pathways in hybrids depends on the ploidy level // Communications Biology, London. V. 7. Article 424. P. 1–14. https:///doi.org/10.1038/s42003-024-05948-6
- Delage Y., Goldsmith M., 1913. La parthénogénèse naturelle et expérimentale. Paris: Ernest Flammarion, éditeur, [4]+342 p.
- Densmore L. D., Wright J. W., Brown W. M., 1989. Mitochondrial-DNA analyses and the origin and relative age of parthenogenetic lizards (genus Cnemidophorus). II. C. neomexicanus and the C. tesselatus complex // Evolution. V. 43. № 5. P. 943–957.
- Densmore L. D., Moritz C., Wright J. W., Brown W. M., 1989а. Mitochondrial-DNA analyses and the origin and relative age of parthenogenetic lizards (genus Cnemidophorus). IV. Nine sexlineatus group unisexuals // Evolution. V. 43. № 5. P. 969–983.
- Dessauer H. C., Cole C. J., 1989. Diversity between and within nominal forms of unisexual teiid lizards // Dawley R. M., Bogart J. P. (eds). Evolution and Ecology of Unisexual Vertebrates. Albany (New York): The New York State Museum. P. 49–71 (The New York State Museum Bulletin 466).
- Dobrowolska H., 1964. A case of an adult male appearance in the population of the parthenogenetic subspecies Lacerta saxicola dahli Darewskij from Armenia area // Zoologica Poloniae, Wrocław; Warszawa. V. 14. Fasc. 1–2. P. 9–13.
- Dubois A., 1990. Nomenclature of parthenogenetic, gynogenetic and “hybridogenetic” vertebrate taxons: new proposals // Alytes, Paris. V. 8. Fasc. 3–4. P. 61–74.
- Dubois A., Günther R., 1982. Klepton and synklepton: two new evolutionary systematics categories in zoology // Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik, Ökologie und Geographie der Tiere, Jena. Bd. 109. H. 2. S. 290–305.
- Erdolu M., Şahin M. K., Somel M., Yanchukov A., 2023. Single hybrid population but multiple parental individuals at the origin of parthenogenetic rock lizards Darevskia sapphirina and D. bendimahiensis Schmidtler, & Eiselt Darevsky [sic!] (1994) endemic to the area of Lake Van in East Turkey // Molecular Phylogenetics and Evolution. V. 189. Article 107925. P. 1–10.
- Esposito G., Meletiadis A., Sciuto S., Prearo M., Gagliardi F., Corrias I. et al., 2024. First report of recurrent parthenogenesis as an adaptive reproductive strategy in the endangered common smooth-hound shark Mustelus mustelus // Scientific Reports, London. V. 14. № 1. Article 17171. P. 1–9. doi: 10.1038/s41598-024-67804-1
- Freise K., Müller G., 1962. Die Parthenogenese bei Lacerta saxícola armeniaca Mèh. // Die Zoologische Garten. Bd. 26. S. 243. – цит. по: Darevsky, 1966.
- Freitas S., Rocha S., Campos J., Ahmadzadeh F., Corti C., Sillero N. et al., 2016. Parthenogenesis through the ice ages: a biogeographic analysis of Caucasian rock lizards (genus Darevskia) // Molecular Phylogenetics and Evolution. V. 102. P. 117–127. https:///doi.org/10.1016/j.ympev.2016.05.035
- Freitas S. N., Harris D. J., Sillero N., Arakelyan M., Butlin R. K., Carretero M. A., 2019. The role of hybridisation in the origin and evolutionary persistence of vertebrate parthenogens: a case study of Darevskia lizards // Heredity. V. 123. № 6. P. 795–808. https:///doi.org/10.1038/s41437-019-0256-5
- Freitas S., Westram A. M., Schwander T., Arakelyan M., Ilgaz Ç., Kumlutas Y. et al., 2022. Parthenogenesis in Darevskia lizards: a rare outcome of common hybridization, not a common outcome of rare hybridization // Evolution. V. 76. № 5. P. 899–914. https:///doi.org/10.1111/evo.14462
- Fu J., Murphy R. W., Darevsky I. S., 1997. Towards the phylogeny of Caucasian rock lizard: implications from mitochondrial DNA gene sequences (Reptilia: Lacertidae) // Zoological Journal of the Linnean Society, London. V. 120 № 4. P. 463–477. https:///doi.org/10.1111/j.1096-3642.1997.tb01283.x
- Fu J., MacCulloch R.D., Murphy R. W., Darevsky I. S., Kuprianova L. A., Danielyan F. D., 1998. The parthenogenetic rock lizard Lacerta unisexualis: an example of limited genetic polymorphism // Journal of Molecular Evolution, New York. V. 46. № 1. P. 127–130.
- Fu J., Murphy R. W., Darevsky I. S., 2000. Divergence of the cytochrome gene b in the Lacerta raddei complex and its parthenogenetic dauther species: evidence for recent multiple origins // Copeia. № 2. P. 432–440.
- Fujita M. K., McGuire J.A., Donnellan S. C., Moritz C., 2010. Diversification and persistence at the arid-monsoonal interface: Australia-wide biogeography of the Bynoe’s gecko (Heteronotia binoei; Gekkonidae) // Evolution. V. 64. № 8. P. 2293–2314. doi: 10.1111/j.1558-5646.2010.00993.x
- Galoyan E., Moskalenko V., Gabelaia M., Tarkhnishvili D., Spangenberg V., Chamkina A. et al., 2020. Syntopy of two species of rock lizards (Darevskia raddei and Darevskia portschinskii) may not lead to hybridization between them // Zoologischer Anzeiger. Bd. 288. P. 43–52. https:///doi.org/10.1016/j.jcz.2020.06.007
- Galoyan E. A., Tsellarius E. Y., Arakelyan M. S., 2019. Friend-or-foe? Behavioural evidence suggests interspecific discrimination leading to low probability of hybridization in two coexisting rock lizard species (Lacertidae, Darevskia) // Behavioral Ecology and Sociobiology. V. 73. № 4. Article 46. P. 1–10. https:///doi.org/10.1007/s00265-019-2650-7
- Garcia-Porta J., Irisarri I., Kirchner M., Rodríguez A., Kirchhof S., Brown J. L. et al., 2019. Environmental temperatures shape thermal physiology as well as diversification and genome-wide substitution rates in lizards // Nature Communications. V. 10. Article 4077. P. 1–12. https:///doi.org/10.1038/s41467-019-11943-x
- Girnyk A. E., Vergun A. A., Semyenova S. K., Guliaev A. S., Arakelyan M. S., Danielyan F. D. et al., 2018. Multiple interspecific hybridization and microsatellite mutations provide clonal diversity in the parthenogenetic rock lizard Darevskia armeniaca // BMC Genomics, New York (USA), Heidelberg (Germany), Basingstoke (UK). V. 19. № 1. Article 979. P. 1–12. https:///doi.org/10.1186/s12864-018-5359-5
- Goddart K. A., Dawley R. M., Dowling T. E., 1989. Origin and genetic relationships of diploid, triploid, and diploid-triploid mosaic biotypes in the Phoxinus eos-neogaeus unisexual complex // Dawley R. M., Bogart J. P. (eds). Evolution and Ecology of Unisexual Vertebrates. Albany (New York): The New York State Museum. P. 268–280 (The New York State Museum Bulletin 466).
- Hammer M., Wallwork J. A., 1979. A review of the world distribution of oribatid mites (Acari: Cryptostigmata) in relation to continental drift // Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Biologiske Skrifter, København. V. 22. № 4. P. 1–31.
- Harris D. J., Arnold E. N., Thomas R. H., 1998. Relationships of lacertid lizards (Reptilia: Lacertidae) estimated from mitochondrial DNA sequences and morphology // Proceedings of the Royal Society of London, B: Biological Sciences. V. 265. № 1409. P. 1939–1948.
- Harvey M. B., Ugueto G. N., Gutberlet R. L., Jr., 2012. Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata) // Zootaxa, Auckland (New Zealand). V. 3459. P. 1–156 (Monograph).
- Hedtke S. M., Hillis D. M., 2011. The potential role of androgenesis in cytoplasmic–nuclear phylogenetic discordance // Systematic Biology. V. 60. № 1. P. 87–96. doi: 10.1093/sysbio/syq070
- Heethoff M., Domes K., Laumann M., Maraun M., Norton R. A., Scheu S., 2007. High genetic divergences indicate ancient separation of parthenogenetic lineages of the oribatid mite Platynothrus peltifer (Acari, Oribatida) // Journal of the Evolutionary Biology. V. 20. № 1. P. 392–402. doi: 10.1111/j.1420-9101.2006.01183.x
- Hedges S. B., Bogart J. P., Maxson L. R., 1992. Ancestry of unisexual salamanders // Nature, London. V. 356. № 6371. P. 708–710. doi: 10.1038/356708a0
- Hubbs C L., 1955. Hybridization between fish species in nature // Systematic Zoology. V. 4. № 1. P. 1–20.
- Hubbs C. L., Hubbs L. C., 1932. Apparent parthenogenesis in nature in a form of fish of hybrid origin // Science. V. 76. № 1983. P. 628–630. doi: 10.1126/science.76.1983.628
- International Commission on Zoological Nomenclature, 2020. Opinion 2461 (Case 3711) – Iberolacerta Arribas, 1999 and Darevskia Arribas, 1999 (Chordata, Squamata, Lacertidae): names confirmed as available // Bulletin of Zoological Nomenclature, Singapore. V. 77. 30 December. P. 135–137.
- Kearney M., Fujita M. K., Ridenour J., 2009. Lost sex in the reptiles: constraints and correlations // Schön I., Martens K., van Dijk P. (eds). Lost Sex. The evolutionary biology of parthenogenesis. Dordrecht; Heidelberg; London; New York: Springer. P. 447–474. doi: 10.1007/978-90-481-2770-2_21
- Kraus F., 1985. A new unisexual salamander from Ohio // Occasional Papers of the Museum of Zoology University of Michigan, Ann Arbor (Michigan). № 709. P. 1–24.
- Kraus F., 1985а. Unisexual salamander lineages in northwestern Ohio and southeastern Michigan: a study of the consequences of hybridization // Copeia. № 2. P. 309–324.
- Kraus F., 1989. Constraints on the evolutionary history of the unisexual salamanders of the Ambystoma laterale-texanum complex as revealed by mitochondrial DNA analysis // Dawley R. M., Bogart J. P. (eds). Evolution and Ecology of Unisexual Vertebrates. Albany (New York): The New York State Museum. P. 218–227 (The New York State Museum Bulletin 466).
- Kupriyanova L. A., 1989. Cytogenetic evidence for genome interaction in hybrid lacertid lizards // Dawley R. M., Bogart J. P. (eds). Evolution and Ecology of Unisexual Vertebrates. Albany (New York): The New York State Museum. P. 236–240 (The New York State Museum Bulletin 466).
- Laine V. N., Sackton T. B., Meselson M., 2022. Genomic signature of sexual reproduction in the bdelloid rotifer Macrotrachella quadricornifera // Genetics, Oxford. V. 220. № 2. Article iyab221. P. 1–10. https:///doi.org/10.1093/genetics/iyab221
- Lamatsch D. K., Stöck M., 2009. Sperm-dependent parthenogenesis and hybridogenesis in teleost fish // Schön I., Martens K., van Dijk P. (eds). Lost Sex. The evolutionary biology of parthenogenesis. Dordrecht; Heidelberg; London; New York: Springer. P. 399–432.
- Lampert K. P., Schartl M., 2008. The origin and evolution of a unisexual hybrid: Poecilia formosa // Philosophical Transactions of the Royal Society, London, B: Biological Sciences. V. 363. № 1505. P. 2901–2929. doi: 10.1098/rstb.2008.0040
- Lampert K. P., Schartl M., 2010. A little bit is better than nothing: the incomplete parthenogenesis of salamanders, frogs and fish // BMC Biology, London. V. 8. Article 78. P. 1–3. https:///doi.org/10.1186/1741-7007-8-78
- Lantz L. A., Cyrén O., 1936. Contribution à la connaissance de Lacerta saxicola Eversmann // Bulletin de la Société Zoologique de France, Paris. T. 61. № 3. P. 159–181.
- Litvinchuk S. N., Mazepa G. O., Pasynkova R. A., Saidov A., Satorov T., Chikin Yu.A. et al., 2011. Influence of environmental conditions on the distribution of Central Asian green toads with three ploidy levels // Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research. V. 49. № 3. P. 233–239. doi: 10.1111/j.1439-0469.2010.00612.x
- Loewe L., Lamatsch D. K., 2008. Quantifying the threat of extinction from Muller’s ratchet in the diploid Amazon molly (Poecilia formosa) // BMC Evolutionary Biology, London. V. 8. Article 88. P. 1–20. https:///doi.org/10.1186/1471-2148-8-88
- Lowcock L. A., 1989. Biogeography of hybrid complexes of Ambystoma: interpreting unisexual-bisexual genetic data in space and time // Dawley R. M., Bogart J. P. (eds). Evolution and Ecology of Unisexual Vertebrates. Albany (New York): The New York State Museum. P. 180–208 (The New York State Museum Bulletin 466).
- MacGregor H.C., Uzzell T. M., 1964. Gynogenesis in salamanders related to Ambystoma jeffersonianum // Science. V. 143. № 3610. P. 1043–1045.
- Majtánová Z., Choleva L., Symonová R., Ráb P., Kotusz J., Pekárik L. et al., 2016. Asexual reproduction does not apparently increase the rate of chromosomal evolution: karyotype stability in diploid and triploid clonal hybrid fish (Cobitis, Cypriniformes, Teleostei) // PLoS ONE, San Francisco. V. 11. № 1. Article e0146872. P. 1–18. doi: 10.1371/journal.pone.0146872
- Mantovani D., Scali V., 1992. Hybridogenesis and androgenesis in the stick-insect Bacillus rossius – grandii benazzii (Insecta, Phasmatodea) // Evolution, Lawrence (Kansas, USA). V. 46. № 3. P. 783–796.
- Maraun M., Heethoff M., Schneider K., Scheu S., Weigmann G., Cianciolo J. et al., 2004. Molecular phylogeny of oribatid mites (Oribatida, Acari): evidence for multiple radiations of parthenogenetic lineages // Experimental and Applied Acarology. V. 33. № 3. P. 183–201. doi: 10.1023/b: appa.0000032956.60108.6d
- Marchal P., 1913. Contribution à l’étude de la biologie des Chermes // Annales des Sciences Naturelles, Zoologie, comprenant l’anatomie, la physiologie, la classification et l’histoire naturelle des animaux, Paris. 87e année. 9e série. T. 13. № 3–6. P. 153–385.
- Mark Welch D., Meselson M., 2000. Evidence for the evolution of bdelloid rotifers without sexual reproduction or genetic exchange // Science, Washington. V. 288. № 5469. P. 1211–1215. doi: 10.1126/science.288.5469.1211
- Mark Welch J. L., Mark Welch D. B., Meselson M., 2004. Cytogenetic evidence for asexual evolution of bdelloid rotifers // Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, Washington. V. 101. № 6. P. 1618–1621. https:///doi.org/10.1073/pnas.0307677100
- Mark Welch D. B., Cummings M. P., Hillis D. M., Meselson M., 2004а. Divergent gene copies in the asexual class Bdelloidea (Rotifera) separated before the bdelloid radiation or within bdelloid families // Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, Washington. V. 101. № 6. P. 1622–1625. doi: 10.1073/pnas.2136686100
- Marta A., Tichopád T., Bartoš O., Klíma J., Shah M. A., Šlechtová Bohlen V. et al., 2023. Genetic and karyotype divergence between parents affect clonality and sterility in hybrids // eLife, Cambridge (UK). V. 12, November. Article RP88366. P. 1–21. doi: https://doi.org/10.7554/eLife.88366
- Martens K., Rossetti G., Horne D. J., 2003. How ancient are ancient asexuals? // Proceedings of the Royal Society, London, B: Biological Sciences. V. 270. № 1516. P. 723–729.
- Maslin T. P., 1962. All female species of the lizard genus Cnemidophorus, Teiidae // Science. V. 135. № 3499. P. 212–213.
- Maslin T. P., 1968. Taxonomic problems in parthenogenetic vertebrates // Systematic Zoology. Lawrence (Kansas, USA). V. 17. № 3. P. 219–231.
- Maslin T. P., 1971. Parthenogenesis in reptiles // American Zoologist. V. 11. № 2. P. 361–380. https://www.jstor.org/stable/3881760
- Méhely L. v., 1909. Materialen zu einer Systematik und Phylogenie des muralis-ähnlichen Lacerten // Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, Budapest. V. 7. S. 409–621.
- Mendes J., Harris D. J., Carranza S., Salvi D., 2016. Evaluating the phylogenetic signal limit from mitogenomes, slow evolving nuclear genes, and the concatenation approach. New insights into the Lacertini radiation using fast evolving nuclear genes and species trees // Molecular Phylogenetics and Evolution. V. 100. P. 254–267.
- Mertens R., 1921. Zur Kenntnis der Reptilienfauna von Malta // Zoologischer Anzeiger, Leipzig. Bd. 53. Nr. 9/10. S. 236–240.
- Mertens R., 1968. Neuere Untersuchungen über die Felseneidechsen des Kaukasus // Senckenbergiana biologica, Frankfurt am Main. Bd. 49. № 6. S. 437–441.
- Milius S., 2003. Life without sex. So, how many million years has it been? // Science News, Washington. V. 163. № 26. P. 406–407. https:///doi.org/10.2307/4014492
- Morgado-Santos M., Carona S., Vicente L., Collares-Pereira M.J., 2017. First empirical evidence of naturally occurring androgenesis in vertebrates // Royal Society Open Science. V. 4. № 4. Article 170200. P. 1–8. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.170200
- Moritz C., Wright J. W., Brown W. M., 1989. Mitochondrial-DNA analyses and the origin and relative age of parthenogenetic lizards (genus Cnemidophorus). III. C. velox and C. exsanguis // Evolution. V. 43. № 5. P. 958–968.
- Moritz C., Brown W. M., Densmore L. D., Wright J. W., Vyas D., Donnllan S. et al., 1989а. Genetic diversity and the dynamics of hybrid parthenogenesis in Cnemidophorus (Teiidae) and Heteronotia (Gekkonidae) // Dawley R. M., Bogart J. P. (eds). Evolution and Ecology of Unisexual Vertebrates. Albany (New York): The New York State Museum. P. 87–112 (The New York State Museum Bulletin 466).
- Moritz C., Uzzell T., Spolsky C., Hotz H., Darevsky I.S, Kupriyanova L. A. et al., 1992. The maternal ancestry and approximate age of parthenogenetic species of Caucasian rock lizards (Lacerta: Lacertidae) // Genetica. V. 87. № 1. P. 53–62. https:///doi.org/10.1007/BF00128773
- Murphy R. W., 1999. The correct spelling of the Latinized name for Rostombekov’s rock lizard // Amphibia–Reptilia. V. 20. № 2. P. 225–226.
- Murphy R. W., Darevsky I. S., MacCuloch R.D., Fu J., Kupriyanova L. A., 1996. Evolution of the bisexual species of Caucasian rock lizards: a phylogenetic evaluation of allozyme data // Russian Journal of Herpetology, Moscow. V. 3. № 1. P. 18–31.
- Murphy R. W., Fu J., MacCulloch R.D., Darevsky I. S., Kupriyanova L. A., 2000. A fine line between sex and unisexuality: the phylogenetic constraints on parthenogenesis in lacertid lizards // Zoological Journal of the Linnean Society, London, V. 130. № 4. P. 527–549. doi: 10.1006/zjls.1999.0241
- Murtskhvaladze M., Tarkhnishvili D., Anderson C. L., Kotorashvili A., 2020. Phylogeny of Caucasian rock lizards (Darevskia) and other true lizards based on mitogenome analysis: optimisation of the algorithms and gene selection // PLoS ONE, San Francisco. V. 15. № 6. Article e0233680. P. 1–19. https:///doi.org/10.1371/journal.pone.0233680
- Olsen M. W., Marsden S. J., 1954. Natural parthenogenesis in turkey eggs // Science. V. 120. № 3118. P. 545–546. doi: 10.1126/science.120.3118.545
- Plötner J., 2005. Die westpaläarktischen Wasserfrösche: von Märtyren der Wissenschaft zur biologischen Sensation. Bielefeld: Laurenti-Verlag. 160 S. (Beiheft der Zeitschrift für Feldherpetologie 9).
- Quattro J. M., Avise J. C., Vrijenhoek R. C., 1992. An ancient clonal lineage in the fish genus Poeciliopsis (Atheriniformes: Poeciliidae) // Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, Washington. V. 89. № 1. P. 348–352. doi: 10.1073/pnas.89.1.348
- Reeder T. W., Cole C. J., Dessauer H. C., 2002. Phylogenetic relationships of whiptail lizards of the genus Cnemidophorus (Squamata: Teiidae): a test of monophyly, reevaluation of karyotypic evolution, and review of hybrid origins // American Museum Novitates, New York. № 3365. P. 1–61.
- Robertson A. V., Ramsden C., Niedzwiecki J., Fu J., Bogart J. P., 2006. An unexpected recent ancestor of unisexual Ambystoma // Molecular Ecology. V. 15. № 11. P. 3339–3351. doi: 10.1111/j.1365-294X.2006.03005.x
- Ryabinina N. L., Grechko V. V., Semenova S. K., Darevsky I. S., 1999. On the hybridogenous origin of the parthenogenetic species Lacerta dahli and Lacerta rostombekovi revealed by RAPD technique // Russian Journal of Herpetology, Moscow. V. 6. № 1. P. 55–60.
- Schlupp I., 2005. The evolutionary ecology of gynogenesis // Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics. V. 36. P. 399–417.
- Schmidtler J. F., Eiselt J., Darevsky I. S., 1994. Untersuchungen an Feldeidechsen (Lacerta-saxicola-Gruppe) in der östlichen Türkei: 3. Zwei neue parthogenetische Arten // Salamandra, Bonn. Bd. 30. H. 1. S. 55–70.
- Schön I., Martens K., 2003. No slave to sex // Proceedings of the Royal Society, London, B: Biological Sciences. V. 270. № 1517. P. 827–833. https:///doi.org/10.1098/rspb.2002.2314
- Schultz R. J., 1967. Gynogenesis and triploidy in the viviparous fish Poeciliopsis // Science. V. 157. № 379. P. 1564–1967.
- Schultz R. J., 1969. Hybridization, unisexuality, and polyploidy in the teleost Poeciliopsis (Poeciliidae) and other vertebrates // American Naturalist. V. 103. № 934. P. 605–619. doi: 10.1086/282629
- Smith R. J., Kamiya T., Horne D. J., 2006. Living males of the ‘ancient asexual’ Darwinulidae (Ostracoda: Crustacea) // Proceedings of the Royal Society, London, B: Biological Sciences. V. 273. № 1593. P. 1569–1578. doi: 10.1098/rspb.2005.3452
- Spangenberg V., Arakelyan M., Galoyan E., Matveevsky S. Petrosyan R., Bogdanov Y. et al., 2017. Reticulate evolution of the rock lizards: meiotic chromosome dynamics and spermatogenesis in diploid and triploid males of the genus Darevskia // Genes, Basel (Switzerland). V. 8. № 6. Article 149. P. 1–17. https:///doi.org/10.3390/genes8060149
- Spangenberg V., Arakelyan M., Cioffi M.d.B., Liehr T., Al-Rikabi A., Martynova E. et al., 2020. Сytogenetic mechanisms of unisexuality in rock lizards // Scientific Reports, London. V. 10. Article 8697. P. 1–14. https:///doi.org/10.1038/s41598-020-65686-7
- Spolsky C. M., Phillips C. A., Uzzell T., 1992. Antiquity of clonal salamander lineages revealed by mitochondrial DNA. Nature, London. V. 356. № 6371. P. 706–708. https://doi.org/10.1038/356706a0
- Stöck M., Lamatsch D. K., 2002. Triploide Wirbeltiere. Wege aus der Unfruchtbarkeit oder Eingeschlechtigkeit // Naturwissenschaftliche Rundschau, Stuttgart. 55. Jahrgang. H. 7. Nr. 649. S. 349–358.
- Stöck M., Lamatsch D. K., Steinlein C., Epplen J. T., Grosse W.-R., Hock R. et al., 2002. A bisexually reproducing all-triploid vertebrate // Nature Genetics. V. 30. № 3. P. 325–328. https:///doi.org/10.1038/ng839
- Stöck M., Ustinova J., Betto-Colliard C., Schartl M., Moritz C., Perrin N., 2012. Simultaneous Mendelian and clonal genome transmission in a sexually reproducing, all-triploid vertebrate // Proceedings of the Royal Society, London. B: Biological Sciences. V. 279. № 1731. P. 1293–1299. https:///doi.org/10.1098/rspb.2011.1738
- Stöck M., Dedukh D., Reifová R., Lamatsch D.K, Starostová Z., Janko K., 2021. Sex chromosomes in meiotic, hemiclonal, clonal and polyploid hybrid vertebrates: along the ‘extended speciation continuum’ // Philosophical Transactions of the Royal Society, London, B: Biological Sciences. V. 376. № 1833. Article 20200103. P. 1–26. https:///doi.org/10.1098/rstb.2020.0103
- Strasburg J. L., Kearney M., Moritz C., Templeton A. R., 2007. Combining phylogeography with distribution modeling: multiple Pleistocene range expansions in a parthenogenetic gecko from the Australian arid zone // PLoS ONE, San Francisco. V. 2. № 8. Article e760. P. 1–15. doi: 10.1371/journal.pone.0000760
- Tarkhnishvili D., Murtskhvaladze M., Anderson C. L., 2017. Coincidence of genotypes at two loci in two parthenogenetic rock lizards: how backcrosses might trigger adaptive speciation // Biological Journal of the Linnean Society. V. 121. № 2. P. 365–378. https:///doi.org/10.1093/biolinnean/blw046
- Tarkhnishvili D., Yanchukov A., Şahin M. K., Gabelaia M., Murtskhvaladze M., Candan K. et al., 2020. Genotypic similarities among the parthenogenetic Darevskia rock lizards with different hybrid origins // BMC Evolutionary Biology, London. V. 20. № 1. Article 122. P. 1–25. https:///doi.org/10.1186/s12862-020-01690-9
- Tunner H. G., 1974. Die klonale Struktur einer Wasserfroschpopulation // Zeitschrift für zoologische Systematik und Evolutionsforschung, Hamburg; Berlin. Bd. 12. H. 4. S. 309–314.
- Uetz P. (editor), 2024. The Reptile Database. http://www.reptile-database.org (accessed August 18, 2024).
- Uzzell T. M., 1964. Relations of the diploid and triploid species of the Ambystoma jeffersonianum complex (Amphibia, Caudata) // Copeia. № 2. P. 257–300.
- Uzzell T., Darevsky I. S., 1973. The relationships of Lacerta portschinskii and Lacerta raddei (Sauria, Lacertidae) // Herpetologica. V. 29. № 1. P. 1–6.
- Uzzell T., Darevsky I. S., 1973а. Electrophoretic examination of Lacerta mixta, a possible hybrid species // Journal of Herpetology. V. 7. № 1. P. 11–15.
- Uzzell T., Darevsky I. S., 1975. Biochemical evidence for the hybrid origin of the parthenogenetic species of the Lacerta saxicola complex (Sauria: Lacertidae), with a discussion of some ecological and evolutionary implications // Copeia. № 2. P. 204–222.
- Vakhrusheva O. A., Mnatsakanova E. A., Galimov Y. R., Neretina T. V., Gerasimov E. S., Naumenko S. A. et al., 2020. Genomic signatures of recombination in a natural population of the bdelloid rotifer Adineta vaga // Nature Communications. V. 11. Article 6421. P. 1–17. https://doi.org/10.1038/s41467–020–19614-y
- Vandel A., 1929. La parthénogenèse géographique // Csiki E. (ed.). Xe Congrès International de Zoologie tenu à Budapest du 4 au 10 Septembre 1927. Première partie. Budapest: imprimerie Stephaneum. P. 206–222.
- Vershinina A. O., Kuznetsova V. G., 2016. Parthenogenesis in Hexapoda: Entognatha and non-holometabolous insects // Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research. V. 54. № 4. P. 257–268. https:///doi.org/10.1111/jzs.12141
- Vinogradov A. E., Borkin L. J., Günther R., Rosanov J. M., 1990. Genome elimination in diploid and triploid Rana esculenta males: cytological evidence from DNA flow cytometry // Genome, Ottawa. V. 33. № 5. P. 619–627.
- Vrijenhoek R. C., 1989. Genetic and ecological constraints of the origins and establishment of unisexual vertebrates // Dawley R. M., Bogart J. P. (eds). Evolution and Ecology of Unisexual Vertebrates. Albany (New York): The New York State Museum. P. 24–31 (The New York State Museum Bulletin 466).
- Vrijenhoek R. C., Dawley R. M., Cole C. J., Bogart J. P., 1989. A list of the known unisexual vertebrates // Dawley R. M., Bogart J. P. (eds). Evolution and Ecology of Unisexual Vertebrates. Albany (New York): The New York State Museum. P. 19–23 (The New York State Museum Bulletin 466).
- Wang Z.-W., Zhu H.-P., Wang D., Jiang F.-F., Guo W., Zhou L. et al., 2011. A novel nucleo-cytoplasmic hybrid clone formed via androgenesis in polyploid gibel carp // BMC Research Notes. V. 4. Article 82. P. 1–13. http://www.biomedcentral.com/1756-0500/4/82
- Warren W. C., García-Pérez R., Xu S., Lampert K. P., Chalopin D., Stöck M. et al., 2018. Clonal polymorphism and high heterozygosity in the celibate genome of the Amazon molly // Nature Ecology Evolution. V. 2. P. 669–679. https:///doi.org/10.1038/s41559-018-0473-y
- Wilson E. B., 1925. The Cell in Development and Heredity. Third edition, revised and enlarged. New York: The Macmillan Company, XL+1232 p.
- Wright J. W., Lowe C. H., 1968. Weeds, polyploids, parthenogenesis, and the geographical and ecological distribution of all-female species of Cnemidophorus // Copeia. № 1. P. 128–138.
- Yanchukov A., Tarkhnishvili D., Erdolu M., Şahin M. K., Candan K., Murtskhvaladze M. et al., 2022. Precise paternal ancestry of hybrid unisexual ZW lizards (genus Darevskia: Lacertidae: Squamata) revealed by Z-linked genomic markers // Biological Journal of the Linnean Society. V. 136. № 2. P. 293–305. https:///doi.org/10.1093/biolinnean/blac023
Supplementary files