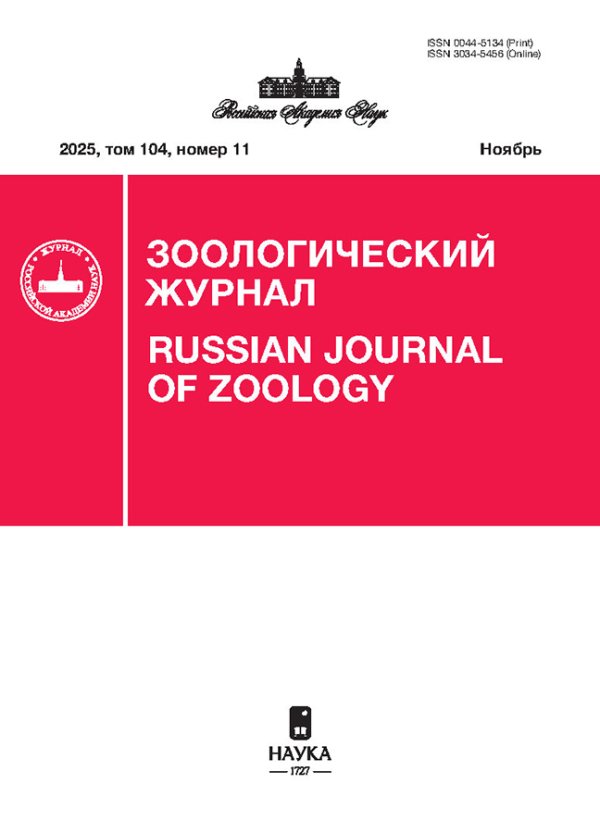Genome size variation in diploid and polyploid mountain lizards of the genus Darevskia (Lacertidae, Squamata)
- Authors: Litvinchuk S.N.1,2, Aksyonov N.D.1, Borkin L.J.3, Doronin I.V.3, Erashkin V.O.4, Kidov A.A.4
-
Affiliations:
- Institute of Cytology, Russian Academy of Sciences
- Dagestan State University
- Zoological Institute, Russian Academy of Sciences
- Russian State Agrarian University – K. A. Timiryazev Moscow Agricultural Academy
- Issue: Vol 103, No 11 (2024)
- Pages: 60–74
- Section: ARTICLES
- URL: https://journal-vniispk.ru/0044-5134/article/view/276365
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044513424110032
- EDN: https://elibrary.ru/tldbai
- ID: 276365
Cite item
Full Text
Abstract
The study of genome size variation in cells of vertebrates using the DNA flow cytometry makes it possible to precisely determine polyploid individuals, which is extremely important when studying the processes of reticulate speciation. In addition, in many groups of vertebrates, closely related species often differ in the nuclear DNA content. Therefore, the purpose of our study was to explore the variability of genome size and ploidy in populations of 29 species and subspecies of mountain lizards of the genus Darevskia, as well as their hybrids. As a result of the study, the range of variability in individuals of different ploidy (91% of diploid and 9% of triploid individuals) was established not to overlap. Among diploid species, no correlation was found between the nuclear DNA content and phylogenetic relationships, geographic coordinates, altitude, average annual temperatures and precipitation. Representatives of all studied species complexes (with the exception of D. adjarica) had approximately the same limits of variability. Two species (D. derjugini and D. saxicola) show significant intraspecific variability. Comparisons of the genome size of parthenogenetic and bisexual species generally revealed no noticeable differences between them. Studies of triploid hybrids have shown that their genome size as a whole roughly corresponds to the sum of the average size of the diploid genome of the maternal parthenogenetic species and the haploid genome of the paternal species. The variability of genome sizes within samples of triploid hybrids was on average slightly higher than in most parthenogenetic species, but some lower than in bisexual species. The paper discusses peculiarities of reticulate speciation in this group of animals.
Full Text
Полиплоидия – это малоизученное явление, изредка встречающееся у позвоночных животных, при котором отмечается увеличение набора хромосом, кратное гаплоидному (Mason, Pires, 2015; Dar, Rehman, 2017). Обычно выделяют две категории полиплоидов: аллополиплоиды – это гибриды, а также автополиплоиды – особи, имеющие несколько наборов хромосом одного вида (Borkin et al., 1996). Среди рептилий полиплоидия встречается относительно часто: триплоидные линии идентифицированы примерно в 20 комплексах видов из семи семейств (Bogart, 1980; Kearney et al., 2009; Trifonov et al., 2015; Abdala et al., 2016; Stöck et al., 2021). Происхождение этих триплоидных линий обычно связывают с межвидовой гибридизацией и партеногенетическим размножением (Kearney et al., 2009). Иногда триплоидные партеногенетические самки скрещиваются с самцами диплоидных обоеполых синтопических видов, в результате чего могут появляться тетраплоидные особи. Подобные случаи отмечены у американских ящериц рода Aspidoscelis Fitzinger 1843 из семейства Teiidae Gray 1827 (Hardy, Cole, 1998; Lutes et al., 2011; Cole et al., 2014, 2017).
Кроме триплоидных партеногенетических линий, у пресмыкающихся изредка встречаются негибридная миксоплоидия и случайная спонтанная автотриплоидия. Так, диплоидно-триплоидный мозаицизм наблюдается в популяциях красноголовой плоской черепахи (Platemys platycephala (Schneider 1792)) из семейства Chelidae Grey 1831 и у чилийской ящерицы Liolaemus chiliensis (Lesson 1830) из семейства Liolaemidae Frost et Etheridge 1989. Возможно, мозаицизм играет важную роль в определении пола у этих животных (Bickham et al., 1985; Lamborot et al., 2006; Bickham, Hanks, 2009). Также смесь диплоидных и триплоидных соматических клеток была выявлена у партеногенетической самки центрально-американской ящерицы Lepidophyma flavimaculatum Duméril 1851 из семейства Xantusiidae Baird 1858 (Bezy, 1972), а спонтанная аутотриплоидия у австралийского листохвостого геккона Saltuarius cornutus (Ogilby 1892) из семейства Carphodactylidae Kluge 1967 (Pensabene et al., 2024).
Скальные ящерицы рода Darevskia Arribas 1999 (семейство Lacertidae Bonaparte 1831) представлены на сегодняшний день 41 видом, среди которых семь – партеногенетических (Arakelyan et al., 2023; Uetz, 2024). Это мелкие лацертиды, населяющие преимущественно горные лесные, травянистые и скальные биотопы в западной Азии и юго-восточной Европе от Балкан до Копетдага. Большинство видов имеет сравнительно небольшие ареалы (https://www.lacerta.de/AS/Home.php).
Различными методами доказано, что партеногенетические виды возникли путем гибридизации между двуполыми “родительскими” видами (Аззелл, Даревский, 1974; Uzzell, Darevsky, 1975; Боркин, Даревский, 1980; Moritz et al., 1992; Murphy et al., 2000; Girnyk et al., 2018). Разные авторы относят время их появления к плейстоцену или даже к голоцену (Darevsky et al., 1985; Moritz et al., 1992; Freitas et al., 2016; Yanchukov et al., 2022). В местах перекрывания ареалов обоеполых и партеногенетических видов скальных ящериц Кавказа может происходить гибридизация, в результате которой иногда появляются триплоидные особи (Darevsky et al., 1978). Они, как правило, стерильны и могут быть представлены самками, самцами и гермафродитами (Darevsky et al., 1989). Иногда эти триплоиды способны давать потомство, что может приводить к появлению крайне редких тетраплоидных гибридов (Danielyan et al., 2008; Freitas et al., 2019; Arakelyan et al., 2023).
Для определения плоидности у эукариотических организмов, как правило, используются кариологические методики. Однако они достаточно трудоемки. Поэтому в последние десятилетия широкое распространение получила прецизионная проточная ДНК-цитометрия (Розанов, Виноградов, 1998). Она позволяет за одно измерение определять количество ядерной ДНК (= размер генома) в огромном количестве клеток. Заметим, что во многих группах позвоночных животных близкородственные виды часто различаются по количеству ядерной ДНК, что дает возможность с помощью этого метода легко производить видовую идентификацию у каждой особи (Biriuk et al., 2016; Dufresnes et al., 2019, 2019a; Боркин, Литвинчук, 2022).
Нам известны несколько статей (Чилингарян, Павлов, 1961; Darevsky, Kupriyanova, 1982; Darevsky et al., 1989; Даревский и др., 1991; Ochkalova et al., 2022), содержащих сведения о количестве ядерной ДНК у некоторых видов рода Darevskia. Однако приведенные в них результаты получены с использованием различных методов и поэтому плохо сопоставимы. Измерение размера генома в клетках позвоночных животных с помощью прецизионного метода проточной ДНК-цитометрии позволяет безошибочно определять полиплоидных особей (Litvinchuk et al., 2010; Biriuk et al., 2016; Литвинчук и др., 2018, 2019), что крайне важно при изучении процессов гибридогенного видообразования.
За 40 лет у нас накопилось большое количество данных по размеру генома из разных популяций и видов рода Darevskia. Поэтому целью нашего исследования было изучение изменчивости количества ядерной ДНК и плоидности в популяциях скальных ящериц, а также их гибридов с помощью метода проточной ДНК-цитометрии.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
В 1984–2024 гг. нами была изучена изменчивость размера генома у 273 особей 29 видов и подвидов, а также их гибридов из 82 местонахождений, находящихся на территории Абхазии, Армении, Азербайджана, Грузии, Ирана, России, Турции, Южной Осетии, а также у трех лабораторных гибридов D. chlorogaster ♀× D. caspica ♂ (табл. 1 и рис. 1). Избирательный отлов и предварительное определение триплоидных гибридов в полевых условиях производились И. С. Даревским. Деление рода Darevskia на комплексы видов производилось согласно данным филогенетических работ (Arribas, 1999; Ahmadzadeh et al., 2013; Доронин, 2015; Tarkhnishvili et al., 2020). Однако важно отметить, что меж- и внутривидовая структура у представителей этого рода разработана еще недостаточно. Поэтому отнесение нами некоторых популяций к определенным подвидам (например, у D. derjugini (Nikolsky 1898)) требует дополнительного подтверждения.
Измерение количества ядерной ДНК проводили методом проточной ДНК-цитометрии. Из аутомированного ящерицей кончика хвоста брали кровь в раствор Версена (фосфатный буфер, содержащий 0.7 мМ ЭДТА, рН = 7.3–7.7; Биолот, Санкт-Петербург, Россия). Клетки хранились при 4–6°C. Тестируемые клетки крови смешивались с клетками репера, в качестве которых были взяты сплиноциты самцов домовой мыши (Mus musculus Linnaeus 1758) (лабораторная линия C57B1; по: Bianchi et al., 1983 средний размер генома равен 6.80 pg) или клетки крови травяной лягушки (Rana temporaria Linnaeus 1758) из Ленинградской области России (10.32 пг по: Borkin et al., 2001). Общая концентрация клеток во взвеси составляла примерно 106 клеток/мл. К 500 мкл смеси клеток репера и 500 мкл смеси клеток тестируемого вида добавляли последовательно 5.5 мкл 0.3 М водного раствора MgCl2, 5.0 мкл 1%-ного водного раствора Тритона Х-100 и 5.0 мкл 1%-ного водного раствора бромистого этидия (ЭБ; для измерения на CytoFLEX) или смеси из 2.5 мкл 1%-ного водного раствора оливомицина и 5.0 мкл 1%-ного водного раствора бромистого этидия (ЭБ+ОМ; для измерения на лабораторной модели проточного цитометра). Стандартная продолжительность окрашивания составляла от 10 до 60 мин при комнатной температуре (~21°C).
Проточную ДНК-цитометрию проводили, используя проточный цитометр CytoFLEX, Beckman Coulter, Inc., CA (ЭБ) и/или лабораторную модель проточного цитометра (ЭБ+ОМ), разработанную в Институте цитологии Российской академии наук (Санкт-Петербург, Россия; https://patents.google.com/patent/SU1056008A1/ru) на основе флуоресцентного микроскопа Люмам-И1 (Ломо, Санкт-Петербург, Россия) с ртутной лампой в качестве источника света.
Размер генома в относительных единицах определяли для каждой особи как отношение среднего значения пика исследуемых клеток на ДНК-гистограмме к пику для вида-репера. Для анализа результатов измерений были использованы программы CytExpert 2.0 (Beckman Coulter) и BARS (Институт цитологии РАН). Из-за ГЦ-специфичности оливомицина значения размера генома, полученные при окрашивании ядер смесью этого красителя с бромистым этидием, были завышены. Поэтому мы умножали их на экспериментально вычисленный коэффициент, который в среднем для ящериц этого рода был равен 0.871. Некоторые другие детали метода были описаны ранее (Розанов, Виноградов, 1998; Borkin et al., 2001).
Для оценки влияния климатических условий на размер генома среди популяций диплоидных видов скальных ящериц мы использовали среднегодовые температуры и количество осадков (климатические данные за ~1950–2000 гг.) из базы данных WorldClim 2.1 (Fick, Hijmans, 2017).
РЕЗУЛЬТАТЫ
При изучении размера генома у скальных ящериц нами было выявлено 251 (91%) диплоидных и 25 (9%) триплоидных особей (табл. 1). Размах изменчивости у особей с разной плоидностью не перекрывался (3.01–3.64 и 4.94–5.24 пг соответственно; рис. 2). Среди диплоидных видов мы не выявили половых различий. Достоверной корреляции между количеством ядерной ДНК в популяциях и географической широтой (r2 = 0.0002, df = 1.60, p = 0.92), долготой (r2 = 0.21, df = 1.60, p = 0.26), высотой (r2 = 0.00001, df = 1.60, p = 0.98), среднегодовыми температурами (r2 = 0.002, df = 1.60, p = 0.71) и количеством осадков (r2 = 0.04, df = 1.60, p = 0.11) выявлено не было. По размеру генома самый высокогорный вид рода D. alpina (Darevsky 1967) практически не отличался от равнинных D. pontica (Lantz et Cyrén 1918) и D. praticola (Eversmann 1834). Не было различий и у видов, обитающих в местах с разными условиями увлажнения.
Не отмечено связи между размером генома и филогенетическими взаимоотношениями видов. Представители всех изученных комплексов имели примерно одинаковые пределы изменчивости (3.01–3.56 пг). Исключение составляла только D. adjarica (Darevsky et Eiselt 1980) (3.64 пг; рис. 2). У ряда видов была отмечена существенная внутривидовая изменчивость. Так, повышенными значениями размера генома характеризовались все изученные нами выборки, относящиеся к подвиду D. derjugini abchasica (Bischoff 1982) (3.37–3.47 пг). Они резко отличались не только от номинативного подвида (3.21–3.25 пг), но и от других видов комплекса (табл. 1; рис. 2). Также повышенная внутривидовая изменчивость была отмечена в пределах D. saxicola (Eversmann 1834). Популяция из Кисловодска (3.53–3.56 пг) достоверно отличалась повышенными значениями от других популяций этого вида (3.03–3.33 пг; рис. 2).
Все три лабораторных гибрида между близкородственными видами D. chlorogaster (Boulenger 1908) и D. caspica Ahmadzadeh, Flecks, Carretero, Mozaffari, Böhme, Harris, Freitas et Rödder 2013 оказались диплоидными. Их средний размер генома (3.40 пг) был чуть выше, чем таковой у их родительских видов (3.34 и 3.35 пг). Такое небольшое отклонение (1.6%) может быть связано с тем, что измерение количества ядерной ДНК у гибридов и их родительских видов производилось в разное время и с разными особями реперных видов. Это могло заметно повлиять на результаты наших измерений, так как размер генома, например у Rana temporaria из Ленинградской области, используемой в качестве репера, может варьировать от 10.0 до 10.5 пг (наши неопубликованные данные).
Сравнение размера генома у диплоидных партеногенетических видов гибридного происхождения с бисексуальными видами этого рода в целом не выявило заметных различий между ними. Количество ядерной ДНК у партеногенетических видов, как правило, не выходило за пределы изменчивости у родительских видов (3.26–3.44 пг и 3.17–3.54, соответственно; табл. 1). Однако если сравнивать средние значения, то размер генома у партеногенетических видов иногда совпадал со средними, полученными для родительских видов, а иногда несколько отличался от них. Так средний размер генома у D. dahli (Darevsky 1957) был равен 3.38 пг, а у родительских D. mixta и D. portschinskii (Kessler 1878) – 3.28 и 3.48 пг соответственно; D. rostombekowi (Darevsky 1957) – 3.35 пг, а у D. r. raddei (Boettger 1892) и D. portschinskii – 3.28 и 3.48 пг; D. unisexualis (Darevsky 1966) – 3.34 пг, а у D. raddei nairensis (Darevsky 1967) и D. valentini – 3.30 и 3.34 пг; D. armeniaca (Méhely, 1909) – 3.36 пг, а у D. mixta и D. valentini – 3.28 и 3.34 пг. Важно отметить, что измерение количества ядерной ДНК у партеногенетических и родительских видов производилось в разное время и с разными особями реперных видов, что могло повлиять на появление таких сравнительно небольших отличий от среднего, как, например, у D. armeniaca (до 1.5%).
Изучение триплоидных гибридов показало, что размер их генома примерно соответствует сумме среднего диплоидного размера генома материнского партеногенетического вида и гаплоидного генома отцовского вида. Так, триплоидный гибрид D. armeniaca × D. r. nairensis имел средний размер генома 4.99 пг, а сумма родительских геномов была равна 5.01 пг; у гибрида D. armeniaca × D. valentini 5.04 при расчетном 5.03 пг, соответственно; D. dahli × D. portschinskii (5.08 и 5.12 пг); D. dahli × D. r. nairensis (5.02 и 4.99 пг); D. unisexualis × D. r. nairensis (4.97 и 4.99 пг); D. unisexualis × D. valentini (5.05 и 5.01 пг). Единственное исключение составляли гибридные триплоиды D. rostombekovi × D. r. raddei, у которых количество ядерной ДНК было заметно (на 3.7%) выше расчётных значений (5.18 против 4.99 пг).
Изменчивость по размеру генома внутри выборок триплоидных гибридов (CV = 0.3–2.4%) в среднем была несколько выше, чем у большинства диплоидных партеногенетических видов (0.2–1.7%), но чуть ниже, чем у бисексуальных видов (0.5–4.9%).
ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнение полученных нами результатов с данными других авторов показало, что использование разных методов может давать сильно различающиеся результаты. Так, Чилингарян и Павлов (1961) определяли размер генома в клетках крови у скальных ящериц (относимых тогда к роду Lacerta Linnaeus 1758) по методу Дише (Dische, 1931). Они установили, что среднее количество ядерной ДНК у партеногенетической D. armeniaca равно 6.05 пг, обоеполой D. valentini (“Lecarta saxicola terentijevi”) – 6.30 пг, и у их триплоидного гибрида – 13.29 пг. Эти значения оказались намного выше оценок, полученных нами в данной работе (среднее для D. armeniaca 3.36 пг, D. valentini – 3.34 пг, и их триплоидный гибрид – 5.04 пг). Большая разница между результатами может быть объяснена несовершенством метода Дише, использованного этими авторами.
Даревский и Куприянова (Darevsky, Kupriyanova, 1982) измеряли размер генома в эритроцитах трех особей скальных ящериц (Степанован, Армения) с использованием реакции Фёлгена (Feulgen, Rossenbeck, 1924). Среднее количество ядерной ДНК у партеногенетической D. armeniaca было равно 106.3 условным единицам, у обоеполой D. portschinskii – 108.2 и у триплоидного гибрида D. dahli × D. portschinskii – 140.0. Если пересчитать эти единицы на полученный нами средний размер генома у D. armeniaca (3.36 пг), то количество ядерной ДНК у D. portschinskii будет равно 3.42 пг и у триплоидного гибрида – 4.43 пг. Эти значения оказались достаточно близки к полученным нами данным для первого вида (3.48 пг), но сильно (на 14%) отличались от таковых полученных нами для этих гибридов (5.08 пг). Вероятно, это связано с тем, что измерения проводились при разных условиях окрашивания (клетки каждой особи окрашивались на отдельном слайде) и без сравнения с клетками реперного вида. При таком дизайне эксперимента результаты измерений количества ядерной ДНК, как правило, получаются неточными.
Позднее исследование размера генома с помощью проточной ДНК-цитометрии у скальных ящериц было проведено у четырех особей скальных ящериц из долины р. Мармарик в Армении (Darevsky et al., 1989). Была изучена одна особь партеногенетической D. armeniaca, два триплоидных гибрида D. unisexualis × D. valentini и один предполагаемый гибрид между партеногенетическими видами D. unisexualis и D. armeniaca (у партеногенетических видов изредка могут появляться фертильные самцы; Darevsky, Kupriyanova, 1982). Все изученные особи были собраны в одном локалитете, в который ранее была искусственно интродуцирована D. valentini (Darevsky, Danielyan, 1968). Позднее эти же авторы (Даревский и др., 1991) дополнительно изучили размер генома у одной особи D. unisexualis из этого же местонахождения. Все измерения были сделаны на той же приборной базе (лабораторная модель цитометра) и с использованием тех же реактивов, что и в нашей работе. Поэтому полученные в этой работе данные (D. armeniaca – 0.57 × 0.871× 6.8 = = 3.38 пг; D. unisexualis – 3.38 пг; триплоидные гибриды D. unisexualis × D. valentini – 5.21 пг) очень близки к нашим результатам (табл. 1).
Таблица 1. Места сбора материала, координаты, высота, размер выборки (n) и изменчивость размера генома у скальных ящериц рода Darevskia
№ | Таксон | Местонахождение | Координаты, градусы с. ш., в. д. | Высота, м над ур. м. | n | Размер генома, пг | |
Среднее | Размах | ||||||
Комплекс D. caucasica | |||||||
1 | alpina | Гора Дзыхва, Абхазия | 43.217, 41.150 | 1500 | 1 | 3.21 | – |
2 | alpina | Камышаная Поляна, Адыгея, Россия | 44.105, 40.017 | 1450 | 1 | 3.25 | – |
3 | alpina | Гора Закан, Карачаево-Черкессия, Россия | 43.708, 40.800 | 2000 | 1 | 3.31 | – |
Общее для вида D. alpina | 3 | 3.26±0.05 (1.4) | 3.21–3.31 | ||||
4 | caucasica caucasica | Лечинкай, Кабардино-Балкария, Россия | 43.533, 43.367 | 800 | 1 | 3.24 | – |
5 | caucasica caucasica | Ущелье р. Тамиск, Северная Осетия-Алания, Россия | 42.917, 44.183 | 950 | 12 | 3.20±0.02 (0.7) | 3.18–3.26 |
Общее для подвида D. c. caucasica | 13 | 3.21±0.02 (0.8) | 3.18–3.26 | ||||
6 | caucasica vedenica | Харачой, Чечня, Россия | 42.883, 46.117 | 1500 | 3 | 3.32±0.04 (1.3) | 3.28–3.36 |
Общее для вида D. caucasica | 16 | 3.23±0.05 (1.7) | 3.18–3.36 | ||||
7 | daghestanica | Хупри, Дагестан, Россия | 42.203, 45.845 | 1758 | 4 | 3.23±0.07 (2.1) | 3.17–3.33 |
8 | derjugini abchasica | Сухум, Абхазия | 43.000, 41.044 | 20 | 1 | 3.47 | – |
9 | derjugini abchasica | Ущелье р. Верхняя Гумиста, Абхазия | 43.183, 41.017 | 550 | 7 | 3.42±0.03 (1.0) | 3.37–3.47 |
10 | derjugini abchasica | Хр. Буру, Абхазия | 43.233, 41.100 | 1400 | 2 | 3.38±0.02 | 3.37–3.39 |
Общее для подвида D. d. abchasica | 10 | 3.42±0.04 (1.1) | 3.37–3.47 | ||||
11 | derjugini derjugini | Бакуриани, Грузия | 41.733, 43.533 | 1660 | 1 | 3.25 | – |
12 | derjugini derjugini | Чобисхеви, Грузия | 41.768, 43.318 | 1225 | 2 | 3.21±0.00 | 3.21–3.21 |
Общее для подвида D. d. derjugini | 3 | 3.22±0.03 (0.8) | 3.21–3.25 | ||||
Общее для вида D. derjugini | 13 | 3.37±0.09 (2.7) | 3.21–3.47 | ||||
13 | mixta | Ахалдаба, Грузия | 41.925, 43.486 | 800 | 1 | 3.31 | – |
14 | mixta | Оз. Эрцо, Южная Осетия | 42.467, 43.751 | 1720 | 5 | 3.28±0.03 (0.9) | 3.25–3.33 |
Общее для вида D. mixta | 6 | 3.28±0.03 (1.0) | 3.25–3.33 | ||||
Комплекс D. chlorogaster | |||||||
15 | caspica | Кандован, Иран | 36.590, 51.390 | 205 | 5 | 3.34±0.03 (0.9) | 3.31–3.37 |
16 | chlorogaster | Пиран, Азербайджан | 38.683, 48.633 | 602 | 2 | 3.43±0.03 | 3.41–3.44 |
17 | chlorogaster | Сиаку, Азербайджан | 38.594, 48.788 | 30 | 4 | 3.40±0.03 (1.0) | 3.37–3.45 |
18 | chlorogaster | Сым, Азербайджан | 38.500, 48.650 | 500 | 2 | 3.26±0.00 | 3.26–3.27 |
19 | chlorogaster | Ущелье р. Виляш-чай, | 38.969, 48.532 | 230 | 2 | 3.27±0.03 | 3.25–3.29 |
Общее для вида D. chlorogaster | 10 | 3.35±0.08 (2.4) | 3.25–3.45 | ||||
Комплекс D. parvula | |||||||
20 | adjarica | Ахалдаба, Грузия | 41.925, 43.486 | 800 | 1 | 3.64 | – |
Комплекс D. praticola | |||||||
21 | pontica | Старощербиновская, | 46.644, 38.657 | 10 | 1 | 3.25 | – |
22 | pontica | Крепостная, Краснодарский | 44.703, 38.693 | 74 | 10 | 3.22±0.02 (0.7) | 3.19–3.28 |
23 | pontica | Псебай, Краснодарский | 44.098, 40.771 | 685 | 1 | 3.23 | – |
Продолжение таблицы 1
24 | pontica | Хаджох, Адыгея, Россия | 44.309, 40.189 | 407 | 2 | 3.22±0.01 | 3.21–3.22 |
25 | pontica | Камышаная Поляна, Адыгея, Россия | 44.168, 40.041 | 1200 | 1 | 3.30 | – |
26 | pontica | Совхозный, Адыгея, Россия | 44.545, 40.150 | 255 | 1 | 3.22 | – |
27 | pontica | Гора Стрижамент, Ставропольский край, Россия | 44.808, 42.068 | 500 | 2 | 3.33±0.00 | 3.33–3.34 |
Общее для вида D. pontica | 18 | 3.24±0.04 (1.4) | 3.19–3.34 | ||||
28 | praticola hyrcanica | Ур. Гадазыдахи, Азербайджан | 38.467, 48.583 | 1510 | 1 | 3.25 | – |
29 | praticola loriensis | Дилижан, Армения | 40.738, 44.837 | 1316 | 2 | 3.37±0.00 | 3.37–3.38 |
30 | praticola praticola | Старопавловская, Ставропольский край, Россия | 43.833, 43.617 | 330 | 3 | 3.28±0.04 (1.1) | 3.24–3.31 |
31 | praticola praticola | Краснокумское, Ставропольский край, Россия | 44.184, 43.507 | 250 | 3 | 3.31±0.04 (1.2) | 3.27–3.33 |
32 | praticola praticola | Шаумянский, Ставропольский край, Россия | 44.161, 43.523 | 254 | 1 | 3.29 | – |
33 | praticola praticola | Владикавказ, Северная Осетия-Алания, Россия | 42.995, 44.690 | 780 | 1 | 3.30 | – |
Общее для подвида D. p. praticola | 8 | 3.30±0.03 (0.9) | 3.24–3.33 | ||||
Общее для вида D. praticola | 11 | 3.31±0.04 (1.3) | 3.24–3.38 | ||||
Комплекс D. raddei | |||||||
34 | raddei nairensis | Гора Атис, Армения | 40.217, 44.650 | 1550 | 8 | 3.27±0.01 (0.4) | 3.25–3.30 |
35 | raddei nairensis | Ереван, Армения | 40.167, 44.483 | 950 | 3 | 3.27±0.04 (1.1) | 3.23–3.30 |
36 | raddei nairensis | Бжни, Армения | 40.448, 44.624 | 1641 | 3 | 3.37±0.02 (0.6) | 3.36–3.40 |
37 | raddei nairensis | Лчашен, Армения | 40.511, 44.951 | 1916 | 3 | 3.33±0.04 (1.1) | 3.29–3.37 |
Общее для подвида D. r. nairensis | 17 | 3.30±0.05 (1.4) | 3.23–3.40 | ||||
38 | raddei raddei | Севкар, Армения | 41.017, 45.133 | 940 | 7 | 3.30±0.05 (1.4) | 3.25–3.37 |
39 | raddei raddei | Тилякант, Азербайджан | 38.950, 48.500 | 460 | 2 | 3.28±0.00 | 3.28–3.28 |
40 | raddei raddei | Сым, Азербайджан | 38.489, 48.641 | 480 | 2 | 3.20±0.04 | 3.17–3.23 |
Общее для подвида D. r. raddei | 11 | 3.28±0.06 (1.7) | 3.17–3.37 | ||||
Общее для вида D. raddei | 28 | 3.29±0.05 (1.5) | 3.17–3.40 | ||||
Комплекс D. rudis | |||||||
41 | bithynica tristis | Оз. Абант, Турция | 40.609, 31.289 | 1331 | 6 | 3.38±0.02 (0.5) | 3.36–3.41 |
42 | portschinskii nigrita | Степанован, Армения | 41.014, 44.383 | 1357 | 4 | 3.48±0.06 (1.7) | 3.40–3.54 |
43 | rudis chechenica | Верхний Ларс, Северная Осетия-Алания, Россия | 42.750, 44.617 | 1600 | 1 | 3.36 | – |
44 | rudis chechenica | Ущелье р. Паца, Южная Осетия | 42.366, 43.889 | 1100 | 5 | 3.41±0.01 (0.3) | 3.40–3.43 |
Общее для подвида D. r. chechenica | 6 | 3.40±0.02 (0.7) | 3.36–3.43 | ||||
45 | rudis obscura | Дабадзвели, Грузия | 41.768, 43.332 | 1522 | 1 | 3.18 | – |
46 | rudis obscura | Ахалдаба, Грузия | 41.925, 43.486 | 800 | 1 | 3.40 | – |
Общее для подвида D. r. obscura | 2 | 3.29±0.15 | 3.18–3.40 | ||||
Общее для вида D. rudis | 8 | 3.37±0.08 (2.3) | 3.18–3.43 | ||||
47 | valentini | Гора Атис, Армения | 40.217, 44.650 | 1550 | 4 | 3.34±0.05 (1.6) | 3.31–3.42 |
Комплекс D. saxicola | |||||||
48 | arribasi | Оз. Эрцо, Южная Осетия | 42.467, 43.751 | 1720 | 8 | 3.37±0.10 (2.9) | 3.27–3.51 |
49 | brauneri brauneri | Ущелье р. Верхняя | 43.183, 41.017 | 550 | 5 | 3.19±0.11 (3.4) | 3.01–3.28 |
50 | brauneri brauneri | Хр. Буру, Абхазия | 43.233, 41.100 | 1400 | 1 | 3.24 | – |
51 | brauneri brauneri | Ущелье р. Бзыбь, | 43.241, 40.396 | 80 | 1 | 3.22 | – |
52 | brauneri brauneri | Хр. Очамчира, Абхазия | 42.920, 41.554 | 220 | 3 | 3.27±0.01 (0.4) | 3.25–3.28 |
53 | brauneri brauneri | Туапсе, Краснодарский | 44.100, 39.050 | 100 | 1 | 3.15 | – |
54 | brauneri brauneri | Новомихайловский, | 44.250, 38.850 | 60 | 5 | 3.26±0.02 (0.5) | 3.23–3.27 |
55 | brauneri brauneri | Сочи, Краснодарский | 43.563, 39.761 | 80 | 1 | 3.18 | – |
Общее для вида D. brauneri | 17 | 3.23±0.07 (2.1) | 3.01–3.28 | ||||
56 | lindholmi | Мыс Фиолент, | 44.516, 33.474 | 25 | 4 | 3.44±0.05 (1.4) | 3.37–3.47 |
57 | lindholmi | Пер. Ангарский, | 44.717, 34.344 | 490 | 1 | 3.41 | – |
Общее для вида D. lindholmi | 5 | 3.43±0.04 (1.3) | 3.37–3.47 | ||||
58 | saxicola | Нижняя Ермоловка, | 43.741, 41.503 | 1128 | 2 | 3.28±0.03 | 3.26–3.30 |
59 | saxicola | Нижняя Теберда, | 43.630, 41.868 | 1058 | 3 | 3.32±0.01 (0.4) | 3.30–3.33 |
60 | saxicola | Ущелье р. Чегем, Кабардино-Балкария, Россия | 43.383, 43.183 | 1200 | 1 | 3.03 | – |
61 | saxicola | Кисловодск, Ставропольский | 43.950, 42.733 | 800 | 4 | 3.55±0.02 (0.5) | 3.53–3.56 |
62 | saxicola | Никитино, Краснодарский | 43.959, 40.676 | 1400 | 7 | 3.18±0.03 (0.9) | 3.13–3.21 |
Общее для вида D. saxicola | 17 | 3.29±0.16 (4.9) | 3.03–3.56 | ||||
Партеногенетические виды гибридного происхождения | |||||||
63 | armeniaca (mixta ♀ × valentini ♂) | Анкаван, Армения | 40.633, 44.483 | 1980 | 1 | 3.31 | – |
64 | armeniaca (mixta ♀ × valentini ♂) | Севкар, Армения | 41.017, 45.133 | 940 | 15 | 3.39±0.04 (1.3) | 3.31–3.44 |
65 | armeniaca (mixta ♀ × valentini ♂) | Привольное, Армения | 41.139, 44.395 | 1771 | 4 | 3.28±0.01 (0.4) | 3.26–3.29 |
66 | armeniaca (mixta ♀ × valentini ♂) | Дилижан, Армения | 40.739 °C44.846 | 1264 | 5 | 3.36±0.04 (1.1) | 3.31–3.41 |
Общее для вида D. armeniaca | 25 | 3.36±0.06 (1.7) | 3.26–3.44 | ||||
67 | dahli (mixta ♀ × portschinskii ♂) | Севкар, Армения | 41.017, 45.133 | 940 | 2 | 3.35±0.00 | 3.35–3.35 |
68 | dahli (mixta ♀ × portschinskii ♂) | Степанован, Армения | 41.014, 44.383 | 1357 | 7 | 3.39±0.03 (0.8) | 3.36–3.43 |
69 | dahli (mixta ♀ × portschinskii ♂) | Туманян, Армения | 41.000, 44.650 | 850 | 3 | 3.35±0.00 (0.1) | 3.35–3.35 |
70 | dahli (mixta ♀ × portschinskii ♂) | Дилижан, Армения | 40.739 °C44.846 | 1264 | 2 | 3.37±0.07 | 3.33–3.42 |
Общее для вида D. dahli | 14 | 3.38±0.03 (1.0) | 3.33–3.43 | ||||
71 | rostombekowi (r. raddei ♀ × portschinskii ♂) | Севкар, Армения | 41.017, 45.133 | 940 | 3 | 3.35±0.01 (0.2) | 3.34–3.35 |
72 | unisexualis (r. nairensis ♀ × valentini ♂) | Гора Атис, Армения | 40.217, 44.650 | 1550 | 12 | 3.33±0.01 (0.2) | 3.32–3.35 |
73 | unisexualis (r. nairensis ♀ × valentini ♂) | Кучак, Армения | 40.520, 44.381 | 1880 | 1 | 3.37 | – |
74 | unisexualis (r. nairensis ♀ × valentini ♂) | Неизвестное местонахождение, Армения | 9 | 3.34±0.04 (1.3) | 3.27–3.43 | ||
Общее для вида D. unisexualis | 22 | 3.34±0.03 (0.9) | 3.27–3.43 | ||||
Природные гибридные триплоиды | |||||||
75 | armeniaca × r. nairensis | Раздан, Армения | 40.500, 44.767 | 1750 | 1 | 4.99 | – |
76 | armeniaca × valentini | Гора Теж, Армения | 40.617, 44.467 | 1950 | 4 | 5.04±0.12 (2.4) | 4.94–5.20 |
77 | dahli × portschinskii | Степанован, Армения | 41.014, 44.383 | 1357 | 1 | 5.08 | – |
78 | dahli × r. nairensis | Коджори, Грузия | 41.667, 44.700 | 1410 | 1 | 5.02 | – |
79 | rostombekovi × r. raddei | Гош, Армения | 40.717, 45.000 | 1300 | 2 | 5.18±0.08 | 5.12–5.24 |
80 | unisexualis × r. nairensis | Лтап, Армения | 40.450, 45.067 | 1970 | 1 | 4.97 | – |
81 | unisexualis × r. nairensis | Раздан, Армения | 40.500, 44.767 | 1750 | 7 | 4.97±0.02 (0.3) | 4.95–4.99 |
Общее для D. unisexualis × D. r. nairensis | 8 | 4.97±0.02 (0.3) | 4.95–4.99 | ||||
82 | unisexualis × valentini | Кучак, Армения | 40.520, 44.381 | 1880 | 8 | 5.05±0.10 (2.1) | 4.95–5.22 |
Лабораторные диплоидные гибриды | |||||||
83 | chlorogaster × caspica | Хане-ха-е-Асиаб, Иран Кандован, Иран | 38.380, 48.760 36.590, 51.390 | 160 205 | 3 | 3.40±0.01 (0.4) | 3.38–3.41 |
Недавно Очкалова с соавторами (Ochkalova et al., 2022) представила данные по секвенированию ядерного генома D. valentini и оценила размер гаплоидного генома этого вида в 1.46 Гб. Эта оценка несколько отличается от наших результатов, так как, если использовать формулу, предложенную Долезел с соавторами (Dolezel et al., 2003), то диплоидный размер генома у этого вида должен быть равен 2.99 пг, что несколько (на 11.1%) ниже нашей оценки (3.34 пг). Такая заметная разница может быть обусловлена рядом причин, но в качестве основных могут быть предложены две.
Во-первых, оценочное количество ядерной ДНК у использованных в нашем исследовании реперных видов может быть завышено. Например, мы считаем, что средний размер генома самца Mus musculus 6.8 пг (Bianchi et al., 1983). Но некоторые авторы оценивали размер гаплоидного генома этого вида в 2.5 Гб (т. е. 2n = 5.11 пг; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_029233825.1/), что существенно ниже (на 28.4%) нашей оценки.
Во-вторых, оценки размера генома по данным секвенирования могут существенно различаться у различных авторов. Например, количество ядерной ДНК в гаплоидном геноме у трёх секвенированных на данный момент особей травяной лягушки оценивалось в 3.7 Гб (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_905171725.1/), 4.1 Гб (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCF_905171775.1/) и 4.3 Гб (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCA_009802015.1/). Эти значительные различия (до 15%), вероятно, связаны со сложностями учёта количества повторяющихся последовательностей и с использованием различного программного обеспечения.
Важно отметить, что при использовании проточной ДНК-цитометрии и бромистого этидия в качестве красителя можно избежать тех сложностей, которые возникают при сравнении данных, полученных разными методами. Наши исследования подтвердили, что использование этого метода позволяет надежно определить плоидность у каждой из изученных особей скальных ящериц. Такие же результаты ранее нами были получены при изучении диплоидно-полиплоидных комплексов, например, у амфибий (Borkin et al., 2004; Litvinchuk et al., 2010; Biriuk et al., 2016; Литвинчук и др., 2018, 2019).
Обращает на себя внимание гомогенность в вариабельности размера генома у диплоидных подвидов и видов скальных ящериц: 3.01–3.64 пг у обоеполых таксонов и 3.26–3.44 пг у партеногенетических гибридных видов. Нет больших различий между подвидами, видами и даже видовыми комплексами, как и между двуполыми и партеногенетическими видами.
Не удалось обнаружить географической изменчивости (корреляцию размера генома с географическими координатами), несмотря на большую территорию, покрываемую изученными нами выборками, включая весь Кавказский регион, Крым, Турцию и Иран (табл. 1; Рис. 1). Для примера укажем, что такая корреляция существует, например, у хвостатых земноводных в семействе Salamadridae Goldfuss 1820 (Litvinchuk et al., 2007).
Рис. 1. Карта мест сбора скальных ящериц рода Darevskia. Вставка в правом верхнем углу (А) охватывает территорию северной Армении. В правом нижнем углу фотография D. lindholmi с мыса Фиолент (Севастополь).
Также мы не нашли корреляции с высотой мест обитания, хотя диапазон высот, откуда происходили выборки, простирался от уровня моря до 2000 м. Нет явной зависимости размера генома и от эколого-географических условий; например, от степени влажности климата, хотя одни виды явно тяготеют к более влажным, а другие к более сухим местам своего обитания. В литературе обсуждается возможная связь между размером генома и температурой среды у позвоночных животных (Canapa et al., 2020), а также температурой и влажностью среды у насекомых (Gregory et al., 2013).
Изучение эволюционных взаимоотношений между видами скальных ящериц послужило основой для выработки универсальной теории сетчатого (= гибридогенного) видообразования (Боркин, Даревский, 1980). Эта теория объясняет происхождение полиплоидных видов животных за счёт гибридизации. Согласно ей появление диплоидных партеногенетических линий в результате естественной межвидовой гибридизации между близкородственными обоеполыми видами – это первый этап сетчатого видообразования. Второй этап – это возникновение аллотриплоидных форм как результат гибридизации материнских диплоидных партеногенетических и отцовских обоеполых видов. На третьем этапе плодовитые триплоидные самки спариваются с самцами обоеполых видов и, в конце концов, дают начало новому обоеполому тетраплоидному виду.
Действительно, современные исследования подтверждают, что межвидовая гибридизация – широко распространенное явление во многих группах животных (Боркин, Литвинчук, 2013). Но, как правило, гибридизация между близкородственными видами наземных позвоночных животных на границах ареалов (парапатрия) или в зонах их перекрывания (симпатрия) не приводит к образованию ни партеногенетических линий, ни полиплоидных особей. Например, у амфибий находки полиплоидных особей в зонах межвидовой гибридизации диплоидных видов крайне редки (Литвинчук и др., 2016). У рептилий полиплоидные особи в зонах гибридизации диплоидных обоеполых видов пока вообще не были обнаружены.
Рис. 2. Изменчивость (виолин-плоты) количества ядерной ДНК у разных видов, подвидов и межвидовых гибридов скальных ящериц рода Darevskia.
Тем не менее большинство изученных полиплоидных линий среди позвоночных животных имеют гибридное происхождение (Литвинчук и др., 2016; Stöck et al., 2021). Объясняется это, по-видимому, тем, что они появляются только в том случае, если гибридизация происходит между филогенетически удалёнными видами (Dufresnes et al., 2019, 2021). Репродуктивная изоляция между видами развивается постепенно за счет накопления множества “барьерных генов”, каждый из которых оказывает лишь небольшой эффект. Когда виды молодые, их геномы могут легко смешиваться без полиплоидизации. Однако, если время дивергенции между ними сравнительно большое, то поток генов между ними становится чрезвычайно ограниченным, так как многие из генов уже не могут нормально функционировать у гибридов (Dufresnes et al., 2021).
В этом случае единственный выход для таких гибридов – это переход к одному из типов клонального размножения, таким как партеногенез, гиногенез, кредитогенез и др. (Литвинчук, 2021). Однако при таких способах размножения происходит быстрое накопление вредных мутаций (“храповик Мюллера”; Muller, 1932), что может привести к значительным затруднениям в размножении и в итоге к вымиранию вида. Выход из этой ситуации – это переход к полиплоидии (увеличения количества геномов приводит к уменьшению влияния вредных мутаций). Например, у зеленых лягушек рода Pelophylax Fitzinger 1843 аномалии семенников у триплоидных гибридов встречаются значительно реже, чем у диплоидных (Litvinchuk, 2018).
Однако, в отличие от многих других групп рептилий, у скальных ящериц облигатных триплоидных линий не обнаружено. Лишь изредка в зонах контакта партеногенетических и обоеполых видов могут появляться единичные полиплоидные особи, которые, как правило, стерильны (Danielyan et al., 2008). Вероятно, такая ситуация связана с тем, что этот процесс находится только в начале своего эволюционного пути (Arakelyan et al., 2023). Однако важно отметить, что, в отличие от рыб и амфибий, среди рептилий в природных условиях пока вообще не выявлено ни одного тетраплоидного вида. Исходя из этого, можно сделать вывод, что пресмыкающиеся (как и в целом амниоты) имеют какие-то внутренние (вероятно генетические) ограничения, препятствующие переходу к третьему последнему этапу сетчатого видообразования.
БЛАГОДАРНОСТИ
В статье использованы полевые сборы и лабораторные измерения И. С. Даревского (1924–2009), Ф. Д. Даниеляна (1938–2021) и Ю. М. Розанова (1938–2021), без которых эту работу невозможно было бы выполнить. Также мы очень благодарны К. Д. Мильто, К. Ю. Лотиеву, М. С. Аракелян, А. А. Иванову и К. А. Матушкиной за неоценимую помощь при проведении полевых и лабораторных исследований, а также Д. В. Скоринову и И. А. Мартиросян за ценные комментарии и рецензирование этой статьи.
ВКЛАД АВТОРОВ
Авторы внесли равный вклад в написание статьи.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Работа выполнена в рамках темы ЗИН РАН № 122031100282-2 (Л. Я. Боркин, И. В. Доронин) и частично (А. А. Кидов, В. О. Ерашкин) за счет средств Программы развития РГАУ – МСХА имени К. А. Тимирязева в рамках Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».
СОБЛЮДЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Все применимые международные, национальные и/или институциональные принципы ухода и использования животных были соблюдены. Соответствие исследования международным этическим стандартам подтверждено Комиссией Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К. А. Тимирязева по биоэтике (протокол № 1 от 06.09.2019).
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы данной работы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
About the authors
S. N. Litvinchuk
Institute of Cytology, Russian Academy of Sciences; Dagestan State University
Author for correspondence.
Email: litvinchukspartak@yandex.ru
Russian Federation, St. Petersburg, 196064; Makhachkala, 367025 Republic of Dagestan
N. D. Aksyonov
Institute of Cytology, Russian Academy of Sciences
Email: litvinchukspartak@yandex.ru
Russian Federation, St. Petersburg, 196064
L. J. Borkin
Zoological Institute, Russian Academy of Sciences
Email: litvinchukspartak@yandex.ru
Russian Federation, St. Petersburg, 199034
I. V. Doronin
Zoological Institute, Russian Academy of Sciences
Email: litvinchukspartak@yandex.ru
Russian Federation, St. Petersburg, 199034
V. O. Erashkin
Russian State Agrarian University – K. A. Timiryazev Moscow Agricultural Academy
Email: litvinchukspartak@yandex.ru
Russian Federation, Moscow, 127550
A. A. Kidov
Russian State Agrarian University – K. A. Timiryazev Moscow Agricultural Academy
Email: litvinchukspartak@yandex.ru
Russian Federation, Moscow, 127550
References
- Аззелл Т.М., Даревский И.С., 1974. Доказательства гибридного происхождения партеногенетических видов кавказских скальных ящериц рода Lacerta // Журнал общей биологии. Т. 35. № 4. С. 553–561.
- Боркин Л.Я., Даревский И.С., 1980. Сетчатое (гибридогенное) видообразование у позвоночных // Журнал общей биологии. Т. 16. № 4. С. 485–507.
- Боркин Л.Я., Литвинчук С.Н., 2013. Гибридизация, видообразование и систематика животных // Труды Зоологического института РАН. Приложение 2. С. 83–139.
- Боркин Л.Я., Литвинчук С.Н., 2022. Памяти Юрия Михайловича Розанова (1938–2021) // Современная герпетология. Т. 22. № 3/4. С. 166–182.
- Даревский И.С., Даниелян Ф.Д., Розанов Ю.М., Соколова Т.М., 1991. Внутриклональное спаривание и его вероятное эволюционное значение в группе партеногенетических видов скальных ящериц рода Archaeolacerta // Зоологический журнал. Т. 70. № 5. С. 63–74.
- Доронин И.В., 2015. Систематика, филогения и распространение скальных ящериц надвидовых комплексов Darevskia (praticola), Darevskia (caucasica) и Darevskia (saxicola). Дис. … канд. биол. наук. ЗИН РАН. 371 с.
- Литвинчук С.Н., 2021. Видообразование и гибридизация у амфибий Палеарктики. Дунаев Е.А., Поярков Н.А. (Ред.), Вопросы герпетологии. М.: КМК Scientific Press. С. 170–172.
- Литвинчук С.Н., Боркин Л.Я., Скоринов Д.В., Пасынкова Р.А., Розанов Ю.М., 2016. Природная полиплоидия у амфибий // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Сер. 3. Биология. № 3. С. 77–86.
- Литвинчук С.Н., Боркин Л.Я., Мазепа Г.А., Розанов Ю.М., 2018. Размер генома и распространение диплоидных и полиплоидных зелёных жаб рода Bufotes в Узбекистане и Туркменистане // Герпетологические и орнитологические исследования: современные аспекты. Посвящается 100-летию А.К. Рустамова (1917–2005). М.: Товарищество научных изданий КМК. С. 88–101.
- Литвинчук С.Н., Скоринов Д.В., Пасынкова Р.А., Кидов А.А., Матушкина К.А., Боркин Л.Я., Розанов Ю.М., 2019. Полиплоидное видообразование у азиатских зеленых жаб рода Bufotes (Bufonidae) // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки. Пенза. № 1 (25). С. 80–93.
- Розанов Ю.М., Виноградов А.Е., 1998. Прецизионная ДНК-цитометрия: исследование индивидуальной вариабельности размера генома животных // Цитология. Т. 40. № 8/9. С. 792–799.
- Чилингарян А.А., Павлов Е.Ф., 1961. Количественные измерения содержания ДНК в ядрах эритроцитов крови у межвидовых гибридов птиц и рептилий // Доклады академии наук Армянской ССР. Т. 32. № 1. С. 55–60.
- Abdala C.S., Baldo D., Juárez R.A., Espinoza R.E., 2016. The first parthenogenetic pleurodont iguanian: a new all-female Liolaemus (Squamata: Liolaemidae) from Western Argentina // Copeia. V. 104. № 2. P. 487–497.
- Ahmadzadeh F., Flecks M., Carretero M.A., Mozaffari O., Böhme W., Harris D.J., Freitas S., Rödder D., 2013. Cryptic speciation patterns in Iranian rock lizards uncovered by integrative taxonomy // PLoS ONE. V. 8. № 12. P. e80563.
- Arakelyan M., Spangenberg V., Petrosyan V., Ryskov A., Kolomiets O., Galoyan E., 2023. Evolution of parthenogenetic reproduction in Caucasian rock lizards: A review // Current Zoology. V. 69. P. 128–135.
- Arribas O.J., 1999. Phylogeny and relationships of the mountain lizards of Europe and Near East (Archaeolacerta Mertens, 1921 sensu lato) and their relationships among the Eurasian lacertid radiation // Russian Journal of Herpetology. V. 6. № 1. P. 1–22.
- Bezy R.L., 1972. Karyotypic variation and evolution of the lizards in the family Xantusiidae // Contributions in Science. V. 227. P. 1–29.
- Bianchi N.O., Redi C., Garagna C., Capanna E., Manfredi-Romanini M.G., 1983. Evolution of the genome size in Akodon (Rodentia, Cricetidae) // Journal of Molecular Evolution. V. 19. P. 362–370.
- Bickham J.W., Hanks B.G., 2009. Diploid-triploid mosaicism and tissue ploidy diversity within Platemys platycephala from Suriname // Cytogenetic and Genome Research. V. 127. P. 280–286.
- Bickham J.W., Tucker P.K., Legler J.M., 1985. Diploid-triploid mosaicism: an unusual phenomenon in side-necked turtles (Platemys platycephala) // Science. V. 227. P. 1591–1593.
- Biriuk O.V., Shabanov D.A., Korshunov A.V., Borkin L.J., Lada G.A., Pasynkova R.A., Rosanov J.M., Litvinchuk S.N., 2016. Gamete production patterns and mating systems in water frogs of the hybridogenetic Pelophylax esculentus complex in north-eastern Ukraine // Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research. V. 54. № 3. P. 215–225.
- Bogart J.P., 1980. Evolutionary implications of polyploidy in amphibians and reptiles. Lewis W.H. (ed.). Polyploidy: Biological Relevance. New York and London: Plenum Press. P. 341–378.
- Borkin L.J., Litvinchuk S.N., Rosanov J.M., 1996. Spontaneous triploidy in the crested newt, Triturus cristatus (Salamandridae) // Russian Journal of Herpetology. V. 3. № 2. P. 152–156.
- Borkin L.J., Litvinchuk S.N., Rosanov J.M., Milto K.D., 2001. Cryptic speciation in Pelobates fuscus (Anura, Pelobatidae): evidence from DNA flow cytometry // Amphibia-Reptilia. V. 22. № 4. P. 387–396.
- Borkin L.J., Korshunov A.V., Lada G.A., Litvinchuk S.N., Rosanov J.M., Shabanov D.A., Zinenko A.I., 2004. Mass occurrence of polyploidy green frogs (Rana esculenta complex) in eastern Ukraine // Russian Journal of Herpetology. V. 11. № 3. P. 194–213.
- Canapa A., Biscotti M.A., Barucca M., Carducci F., Carotti E., Olmo E., 2020. Shedding light upon the complex net of genome size, genome composition and environment in chordates // The European Zoological Journal. V. 87. № 1. P. 192–202.
- Cole C.J., Taylor H.L., Baumann D.P., Baumann P., 2014. “Neaves’ whiptail lizard: the first known tetraploid parthenogenetic tetrapod (Reptilia: Squamata: Teiidae) // Breviora. V. 539. P. 1–19.
- Cole C.J., Taylor H.L., Neaves W.B., Baumann D.P., Newton A., Schnittker R., Baumann P., 2017. The second known tetraploid species of parthenogenetic tetrapod (Reptilia: Squamata: Teiidae): description, reproduction, comparisons with ancestral taxa, and origins of multiple clones // Bulletin of the Museum of Comparative Zoology. V. 161. № 8. P. 285–321.
- Danielyan F., Arakelyan M., Stepanyan I., 2008. Hybrids of Darevskia valentini, D. armeniaca and D. unisexualis from a sympatric population in Armenia // Amphibia-Reptilia. V. 29. P. 487–504.
- Dar T.-Ul.-H., Rehman R.-Ul. (eds.), 2017. Polyploidy: Recent Trends and Future Perspectives. Springer.
- Darevsky I.S., Danielyan F.D., 1968. Diploid and triploid progeny arising from natural mating of parthenogenetic Lacerta armeniaca and L. unisexualis with bisexual L. saxicola valentini // Journal of Herpetology. V. 2. № 3–4. P. 65– 69.
- Darevsky I.S., Kupriyanova L.A., 1982. Rare males in parthenogenetic lizard Lacerta armeniaca Méhely // Vertebrata Hungarica. V. 21. P. 69–75.
- Darevsky I.S., Kupriyanova L.A., Bakradze M.A., 1978. Occasional males and intersexes in parthenogenetic species of Caucasian Rock Lizards (genus Lacerta) // Copeia. № 2. P. 201–207.
- Darevsky I.S., Kupriyanova L.A., Uzzell T., 1985. Parthenogenesis in reptiles. Gans C., Billet F. (eds). Biology of Reptiles. V. 15. New York: Wiley J. and Sons. P. 411–526.
- Darevsky I.S., Danielyan F.D., Sokolova T.M., Rozanov Y.M., 1989. Intraclonal mating in the parthenogenetic lizard species Lacerta unisexualis. Dawley R.M., Bogart J.P. (eds). Evolution and Ecology of Unisexual Vertebrates. Bulletin of the NY State Museum, New York. P. 228–235.
- Disсhe Z., 1931. Nachweis und Bestimmung der Thymonukleinsaure. Abderhalden E., Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Wien. Abt. 5. T. 2. Hf. 16. P. 18–29.
- Dolezel J., Bartos J., Voglmayr H., Greilhuber J., 2003. Nuclear DNA content and genome size of trout and human // Cytometry A.V. 51. № 2. P. 127–128.
- Dufresnes C., Mazepa G., Jablonski D., Oliveira R.C., Wenseleers T., Shabanov D.A., Auer M., Ernst R., Koch C., Ramírez-Chaves H.E. Mulder K.P., Simonov E., Tiutenko A., Kryvokhyzha D., Wennekes P.L., Zinenko O.I., Korshunov O.V., Al-Johany A.M., Peregontsev E.A., Masroor R., Betto-Colliard C., Denoël M., Borkin L.J., Skorinov D.V., Pasynkova R.A., Mazanaeva L.F., Rosanov J.M., Dubey S., Litvinchuk S., 2019. Fifteen shades of green: The evolution of Bufotes toads revisited // Molecular Phylogenetics and Evolution. V. 141. P. 106615.
- Dufresnes C., Strachinis I., Suriadna N., Mykytynets G., Cogălniceanu D., Székely P., Vukov T., Arntzen J.W., Wielstra B., Lymberakis P., Geffen E., Gafny S., Kumlutaş Y., Ilgaz Ç., Candan K., Mizsei E., Szabolcs M., Kolenda K., Smirnov N., Géniez P., Lukanov S., Crochet P.‐A., Sylvain D., Perrin N., Litvinchuk S.N., Denoël M., 2019а. Phylogeography of a cryptic speciation continuum in Eurasian spadefoot toads (Pelobates) // Molecular Ecology. V. 28. № 13. P. 3257– 3270.
- Dufresnes C., Brelsford A., Jeffries D.L., Mazepa G., Suchan T., Canestrelli D., Nicieza A., Fumagalli L., Dubey S., Martínez-Solano I., Litvinchuk S.N., Vences M., Perrin N., Crochet P.-A. 2021. Mass of genes rather than master genes underlie the genomic architecture of amphibian speciation // Proceedings of the National Academy of Sciences USA. V. 118. № 36. P. e2103963118.
- Feulgen R., Rossenbeck H., 1924. Mikroskopisch-chemischer Nachweis einer Nukleinsäure vom Typus der Thymonukleinsäure und die darauf beruhende elektive Färbung von Zellkernen in mikroskopischen Präparaten // Hoppe-Seyler’s Zeitschrift für Physiologische Chemie. V. 135. P. 203–248.
- Fick S.E., Hijmans R.J., 2017. WorldClim 2: new 1km spatial resolution climate surfaces for global land areas // International Journal of Climatology. V. 37. № 12. P. 4302–4315.
- Freitas S., Rocha S., Campos J., Ahmadzadeh F., Corti C., Sillero N., Ilgaz Ç., Kumlutaş Y., Arakelyan M., Harris D.J., Carretero M.A., 2016. Parthenogenesis through the ice ages: a biogeographic analysis of Caucasian rock lizards (genus Darevskia) // Molecular Phylogenetics and Evolution. V. 102. P. 117–127.
- Freitas S.N., Harris D.J., Sillero N., Arakelyan M., Butlin R.K., Carretero M.A., 2019. The role of hybridisation in the origin and evolutionary persistence of vertebrate parthenogens: a case study of Darevskia lizards // Heredity. V. 123. P. 795–808.
- Girnyk A.E., Vergun A.A., Semyenova S.K., Guliaev A.S., Arakelyan M.S., Danielyan F.D., Martirosyan I.A., Murphy R.W., Ryskov A.P., 2018. Multiple interspecific hybridization and microsatellite mutations provide clonal diversity in the parthenogenetic rock lizard Darevskia armeniaca // BMC Genomics. V. 19. № 1. P. 979.
- Gregory T.R., Nathwani P., Bonnett T.R., Huber D.P.W., 2013. Sizing up arthropod genomes: an evaluation of the impact of environmental variation on genome size estimates by flow cytometry and the use of qPCR as a method of estimation // Genome. V. 56. № 9. P. 505–510.
- Hardy L.M., Cole C.J., 1998. Morphology of a sterile, tetraploid, hybrid whiptail lizard (Squamata: Teiidae: Cnemidophorus) // American Museum Novitates. V. 3228. P. 1–16.
- Kearney M., Fujita M.K., Ridenour J., 2009. Lost sex in the reptiles: Constraints and correlations. I. Schön I., Martens K., Dijk P. (eds). Lost Sex. Springer. P. 447–474.
- Lamborot M.M., Manzur E., Alvarez-Sarret E., 2006. Triploidy and mosaicism in Liolaemus chiliensis (Sauria: Tropiduridae) // Genome. V. 49. P. 445–453.
- Litvinchuk S.N., 2018. Testicular anomalies in the hybridogenetic frog Pelophylax esculentus (Amphibia: Anura: Ranidae). Vershinin V.L., Vershinina S.D. (eds). The Second International Conference “Amphibians and Reptiles Anomalies and Pathology: Methodology, Evolutionary Significance, Monitoring and Enveronmental Helth”. KnE Life Science. P. 92–96.
- Litvinchuk S.N., Kazakov V.I., Pasynkova R.A., Borkin L.J., Kuranova V.N., Rosanov J.M., 2010. Tetraploid green toad species (Bufo pewzowi) from the Altay Mountains: The first record for Russia // Russian Journal of Herpetology. V. 17. № 4. P. 290–298.
- Litvinchuk S.N., Rosanov J.M., Borkin L.J., 2007. Correlations of geographic distribution and temperature of embryonic development with the nuclear DNA content in the Salamandridae (Urodela, Amphibia) // Genome. V. 50. № 4. P. 333–342.
- Lutes A.A., Baumann D.P., Neaves W.B., Baumann P., 2011. Laboratory synthesis of an independently reproducing vertebrate species // Proceedings of the National Academy of Sciences USA. V. 108. № 24. P. 9910–9915.
- Mason A.S., Pires J.C., 2015. Unreduced gametes: meiotic mishap or evolutionary mechanism? // Trends in Genetics. V. 31. № 1. P. 5–10.
- Moritz C., Uzzell T., Spolsky C., Hotz H., Darevsky I.S., Kupriyanova L.A., Danielyan F.D., 1992. The maternal ancestry and approximate age of parthenogenetic species of Caucasian rock lizards (Lacerta: Lacertidae) // Genetica. V. 87. № 1. P. 53–62.
- Muller H.J., 1932. Some genetic aspects of sex // American Naturalist. V. 66. № 703. P. 118–138.
- Murphy R.W., Fu J., Macculloch R.D., Darevsky I.S., Kupriyanova L.A., 2000. A fine line between sex and unisexuality: the phylogenetic constraints on parthenogenesis in lacertid lizards // Zoological Journal of Linnean Society. V. 130. P. 527–549.
- Ochkalova S., Korchagin V., Vergun A., Urin A., Zilov D., Ryakhovsky S., Girnyk A., Martirosyan I., Zhernakova D.V., Arakelyan M., Danielyan F., Kliver S., Brukhin V., Komissarov A., Ryskov A., 2022. First genome of rock lizard Darevskia valentini involved in formation of several parthenogenetic species // Genes. V. 13. P. 1569.
- Pensabene E., Augstenová B., Kratochvíl L., Rovatsos M., 2024. Differentiated sex chromosomes, karyotype evolution, and spontaneous triploidy in carphodactylid geckos // Journal of Heredity. V. 115. № 3. P. 262– 276.
- Stöck M., Dedukh D., Reifová R., Lamatsch D.K., Starostová Z., Janko K., 2021. Sex chromosomes in meiotic, hemiclonal, clonal and polyploid hybrid vertebrates: along the ‘extended speciation continuum’ // Philosophical Transactions of the Royal Society B.V. 376. P. 20200103.
- Tarkhnishvili D., Gabelaia M., Adriaens D., 2020. Phenotypic divergence, convergence and evolution of Caucasian rock lizards (Darevskia) // Biological Journal of the Linnean Society. V. 130. P. 142–155.
- Trifonov V.A., Paoletti A., Caputo Barucchi V., Kalinina T., O’Brien P.C.M., Ferguson-Smith M.A., Giovannotti M., 2015. Comparative chromosome painting and NOR distribution suggest a complex hybrid origin of triploid Lepidodactylus lugubris (Gekkonidae) // PLoS ONE. V. 10. № 7. P. e0132380.
- Uzzell T., Darevsky I.S., 1975. Biochemical evidence for the hybrid origin of the parthenogenetic species of the Lacerta saxicola complex (Sauria: Lacertidae), with a discussion of some ecological and evolutionary implications // Copeia. № 2. P. 204–222.
- Uetz P. (ed.), 2024. The Reptile Database. http://www.reptile-database.org. Accessed February 28, 2024.
- Yanchukov A., Tarkhnishvili D., Erdolu M., Şahin M.K., Candan K., Murtskhvaladze M., Gabelaia M., Iankoshvili G., Barateli N., Ilgaz Ç., Kumlutaş Y., Matur F., Çolak F., Arakelyan M., Galoyan E., 2022. Precise paternal ancestry of hybrid unisexual ZW lizards (genus Darevskia: Lacertidae: Squamata) revealed by Z-linked genomic markers // Biological Journal of the Linnean Society. V. 136. P. 293–305.
Supplementary files