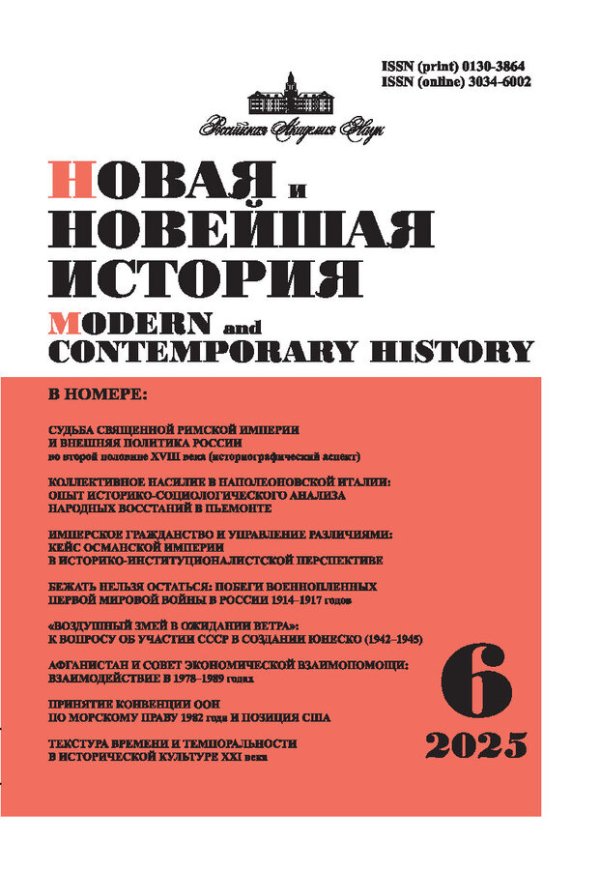Crisis of loyalty and the defense of Empire in the estimates of the british Military class: colonial army during the inter-war period
- Authors: Malkin S.G.1
-
Affiliations:
- Samara State University of Social Studies and Education
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 7-20
- Section: Theory and methodology of history
- URL: https://journal-vniispk.ru/0130-3864/article/view/255560
- DOI: https://doi.org/10.31857/10.31857/S0130386424010018
- ID: 255560
Cite item
Full Text
Abstract
In the interwar period, three powerful ideological factors – nationalism, pan-Islamism, and communism - simultaneously undermined the power of the metropolis in the dependent territories. Behind this façade, as was reasonably assumed in Delhi, Simla, Jerusalem, Cairo, and London, the interests of rival states were concealed. Overseas territories were seen both as a source of strength (economy, international prestige) and weakness (diversion of resources because of the leadership’s belief in the existence of an external threat).The historiography of the British Empire pays attention to how the colonial administrations and the metropolis responded to the challenges posed by the prospects of combining crises of loyalty and worsening international competition into a single problem of ensuring colonial order after the First World War. The question remains open about how the representatives of the military class themselves looked at such a cross-border threat. The article shows that, in this light, one of the key topics for the army corporation in the framework of the professional discussion was the institutionalization of the colonial army. To what extent did the esprit de corps of the British Army have an imperil character in terms of institutional peculiarities and public self-presentation? Was colonial service has been perceived as a priority over participation in conventional conflict in the training of the officer corps? How was it supposed to solve the problem of the growing obligations of the army to suppress anti-colonial protests (including guerrilla warfare in full-scale) against the background of worsening international relations, financial shortages and personnel restrictions? To what extend did the logics of the military thought development and corporate interests had mirrored the evolution of the colonial rule’ models after the Great War? As the results of the presented study demonstrates, these issues did not only constellate internal and interdepartmental discussions on the declared topic. Their participants had a hand in the further development of a wider discursive field – about the prospects for the future of the British Empire as such.
Full Text
Одна из основных дискуссий межвоенного периода внутри армейской корпорации развернулась – во многом на страницах журнала Королевского института объединенных служб1 – вокруг необходимости институционального оформления колониальной армии Великобритании (структура, состав, подготовка, вооружение, финансирование и размещение). В основе практической реализации имперских проектов часто лежала военная сила или угроза ее применения. Британская армия, благодаря реформам Э. Кардуэлла (госсекретарь по военным делам в 1868–1874 гг.), к началу Первой мировой войны представляла собой военно-бюрократический механизм, основанный на континентальной, прусской в основе, модели, обусловленной потребностями ведения большой современной конвенциональной войны. Более того, хотя «система Кардуэлла» предполагала организацию колониальной службы в рамках двухбатальонного принципа комплектования полков (один нес службу за морями, другой являлся фактически полковым депо, обеспечивая подготовку кадров, резерв и базу для развертывания по полному штату), с началом Великой войны эта модель быстро утратила изначальный смысл. Возвращение к штатам мирного времени и принятие «правила десяти лет»2, казалось, вернуло ситуацию с ротацией кадровых полков на круги своя. Однако сокращение возможностей и рост обязательств армии в межвоенный период привели к тому, что к концу первого послевоенного десятилетия (и окончания срока действия «правила десяти лет», за которым последовала его прерванная в 1932 г. пролонгация) вопрос об эффективности «системы Кардуэлла» для обеспечения внутренней и внешней безопасности империи был поставлен ребром.
Сторонники сохранения «системы Кардуэлла» считали, что речь идет о возвращении к ситуации кануна Великой войны, когда военные обязательства включали «обеспечение внутренней безопасности, участие в малых войнах и оборону северо-западной границы Индии», как и в условиях действия «десятилетнего правила»3. Критики полагали, что в сложившихся условиях временнáя шкала показывает даже не 1914-й, а 1870-й год: «Военное вторжение в Европу представляет собой весьма отдаленную перспективу, таким образом, колониальная ориентация военной организации становится заметнее». Урок истории, с их точки зрения, заключался в том, что «в мирное время эта система вела к подчинению мощи и даже самой организации британских экспедиционных сил колониальным интересам, а во время Первой мировой войны утратила какое-либо значение»4. Выход виделся в разделении вооруженных сил на три категории: континентальная армия (силы быстрого реагирования, ударные части), колониальная армия (заморская служба) и территориальная армия (резерв для операций в Европе). Предлагаемые структуры должны были различаться не только по сроку действительной службы, порядку финансирования, размещения и рекрутирования. Прежде всего речь шла о различиях в их боевой подготовке и техническом оснащении. С учетом масштаба потенциальных угроз в Европе и за ее пределами преимущественное положение должна была занимать континентальная армия5.
При этом большая часть представителей армейской корпорации, принявших участие в этой дискуссии, исходила из того, что залогом успешного решения всего спектра задач, стоящих перед «современным солдатом», – «от полей Фландрии до кампании на индийском пограничье» – являются стандартизация и унификация: «эра британских малых войн, вероятно, пока еще не ушла в прошлое, хотя империя перестала расширяться; однако Индии однажды может представиться возможность вести свои малые войны самостоятельно», так что необходимо быть готовыми к «экспедиции любого рода»6. Как заметил по этому поводу генерал-лейтенант и будущий фельдмаршал британской армии (1935) сэр А. Монтгомери-Мэссингберд в лекции, прочитанной им в Королевском колледже Лондона в декабре 1927 г.: «Мы должны быть готовы сражаться в любой части света и в самых различных условиях»7. И хотя, как утверждалось, «за границей специализация возможна»8, однако даже в Индии «Восток и Запад встречаются: единая армия, единый метод обучения, единая школа военной мысли»9. Участники дискуссии о колониальной роли британской армии отмечали, что соответствующим образом – с учетом имперских обязательств – должна быть организована вся система подготовки офицерского корпуса как младшего, так и старшего звена, как в метрополии, так и в заморских владениях10.
Такая точка зрения, разумеется, нашла отражение и на доктринальном уровне. Полевой устав британской армии, подготовленный в 1920 г., как и его переиздания межвоенной поры, включал лишь один небольшой (всего 28 страниц) раздел о войнах с «нецивилизованным противником», хотя на местах публиковались весьма объемные и содержательные наставления по «борьбе с дикарями» в соответствии с региональной спецификой (в горах на северо-западе Индии и джунглях Бирмы, прежде всего)11. Схожая картина наблюдалась и на теоретическом уровне. Авторы самых известных военных трактатов эпохи Интербеллума в области колониального антиповстанчества делали основной акцент на универсальных принципах контрпартизанской борьбы, а не на уникальном опыте колониальных частей, обозначая эволюцию британской военной мысли в сторону возрастающего значения экспертного знания в обеспечении внутренней безопасности империи12. Эта же мысль зафиксирована в некоторых официальных историях военных кампаний, в которых речь идет об антиколониальных протестах в форме «современного мятежа» (по терминологии генерал-майора сэра Ч.У. Гвинна) или «подпольной войны» (по определению подполковника Х.Дж. Симсона)13. Даже официальные истории, подготовленные вполне традиционно, в нарративном ключе – о восстановлении колониального порядка на северо-западной границе Индии в 1930-е годы – содержат изложение проблем, обусловленных, по твердому мнению авторов-составителей, сочетанием или даже переплетением привычных для пограничья форм борьбы с администрацией Раджа (набеги племенных ополчений, все чаще межплеменных дружин) и новых приемов и методов сопротивления (взаимодействие восставших племен и активистов Индийского национального конгресса)14.
Таким образом, несмотря на то что обеспечение колониального порядка являлось основным содержанием военной службы в пределах Британской империи в межвоенный период (адресованные потенциальным рекрутам агитационные плакаты наглядно иллюстрировали такое положение дел15), общая позиция армейской корпорации относительно стоявших перед нею задач заключалась в необходимости первоочередной, планомерной и регулярной подготовки вооруженных сил – как в метрополии, так и в заморских владениях – к эвентуальному конфликту с «первоклассными» державами (по классификации, принятой в профессиональной среде). На первый взгляд, это противоречие между реальным функционалом и формальным статусом заморских гарнизонов британской армии может показаться поразительным, учитывая, что речь идет о модерной европейской империи, находившейся в этот исторический момент на пике территориального роста. Однако выявление и контекстный анализ характерных для военного класса мотивов и соображений по вопросу учреждения колониальной армии в качестве самостоятельной институции позволяют рационализировать представления британского офицерского корпуса о военном строительстве на заморских территориях в межвоенный период в их собственной логике.
В этой связи для решения поставленной задачи предполагается взгляд на проблему (пере)определения функционала британской армии сквозь призму ее институциональной истории, апробированных в межвоенный период моделей деколонизации в части делегирования полномочий в вопросах безопасности местным элитам и колониальным властям, а также эволюции международных отношений после Первой мировой войны в связи с целенаправленными попытками революционной трансформации Востока под (интер)национальными лозунгами, с одной стороны, и стремлением Лондона обеспечить колониальный контроль над зависимыми территориями – с другой. Соответственно, внимание к военно-техническим, корпоративно-бюрократическим и структурно-функциональным аспектам этих ракурсов исследования многое проясняет как в вопросах применения вооруженных сил, так и в самой логике функционирования Британской империи в межвоенный период.
Во-первых, как замечает вслед за современниками Т. Мореман, на организационном и доктринальном уровне было очень трудно учесть весьма разнообразный колониальный опыт британских вооруженных сил и перевести его без смысловых потерь и разрастания объема на язык единой военной доктрины16. В наставлении по боевой подготовке 1934 г., например, указывалось, что спектр военных операций, к которым должна быть готова армия, включает «патрулирование империи, малые экспедиции, крупные экспедиции и национальную войну», причем как в «развитых», так и «неразвитых» странах17. Соответственно, акцент на колониальных кампаниях не только вступал бы в прямое противоречие с esprit de corps, сформированным логикой индустриальной войны, о чем упомянул и самый именитый британский эксперт Интербеллума в вопросах колониального антиповстанчества генерал Гвинн: «Для умов, привыкших думать в терминах Великой войны, полицейские функции армии, даже если они приобретают форму малой войны, могут показаться не имеющими особенного значения»18. Пристальное внимание к местной специфике военного дела повлекло бы иррациональное расширение общевойскового устава и учебных планов военных учебных заведений, что делало бы их попросту непригодными для подготовки офицерского корпуса в приемлемых временных, дидактических и финансовых рамках.
Во-вторых, добровольный принцип комплектования армии, к которому британские вооруженные силы вернулись после окончания Великой войны в рамках «правила десяти лет», заметно ограничивал возможности военного министерства по сравнению с ситуацией в другой крупной колониальной империи – Франции, где сохранялась система всеобщего воинского призыва и действовало активное «колониальное лобби»19. Звучали предложения об использовании корпуса морской пехоты для выполнения полицейских функций в империи и зонах влияния, однако речь шла, скорее, об обращении к американскому примеру, чем ко французскому (собственно, в Третьей Республике именно морская пехота была преобразована в колониальную армию в 1900 г.)20. Однако наличие отдельной колониальной армии в межвоенный период являлось для Лондона вопросом не только выбора в пользу подготовки к колониальным кампаниям или к войне на континенте, но и наличия (скорее отсутствия) достаточного количества финансовых средств.
В этой связи достаточно посмотреть на стремительное сокращение британского военного присутствия на Ближнем Востоке в первые послевоенные годы – наиболее показательный в этом смысле пример – за счет перераспределения ответственности по обеспечению колониального порядка от армии в пользу ВВС («воздушный контроль»)21. Более того, в 1930-е годы, в связи с ростом военных угроз на европейском континенте, выделение средств на колониальную службу вообще рассматривалось военным командованием как непозволительная роскошь. Алармизм Имперского Генерального штаба, обусловленный не только активностью Германии, Италии и Японии в 1930-е годы, но и преувеличенными представлениями об их возможностях, побуждал военное командование рекомендовать властям сдержанный внешнеполитический курс и аккумулировать имеющиеся средства на подготовке к конвенциональной войне22.
При этом значительную роль в борьбе за бюджет, а также административный ресурс и назначения (как дома, так и за морями) играли корпоративные интересы. Бюрократическое соперничество по вопросу о приоритетах в подготовке и применении армии разворачивалось на нескольких уровнях одновременно. Противоречия существовали между Военным министерством и командованием Индийской армии по поводу характера и источников военных угроз, порядка и географии применения расквартированных на субконтиненте частей (в качестве имперского резерва), допустимых пределах «индианизации» силовых ведомств Раджа, хотя в межведомственной конкуренции с ВВС армейская корпорация выступала вполне согласованно. Имелись порой весьма серьезные трения между военными и гражданскими чинами о роли и значении политических офицеров на окраинах империи и правовых аспектах колониального антиповстанчества23. Наконец, через всю эпоху Интербеллума красной нитью прошел затухавший и вновь разгоравшийся конфликт между сухопутными войсками и авиацией, облеченный в форму острой полемики об оптимальных методах и формах обеспечения колониального контроля, при том, что на тактическом уровне эти службы безопасности взаимодействовали вполне конструктивно24. Публикационную активность представителей британского военного класса необходимо рассматривать именно в этом сложно устроенном контексте переплетавшихся и расходившихся интересов (на уровне отдельных ведомств и служб и по линии отношений между центром и периферией), учитывая отнюдь не случайное совпадение изложенных в их работах позиций со взглядами различных групп влияния в военной среде и эшелонах власти разного уровня, прямое участие некоторых авторов в бюрократических баталиях.
В-третьих, заметное влияние в этом вопросе, разумеется, оказывал кризис лояльности в Британской империи как таковой. Применительно к ситуации в Индии, все еще самом крупном и важном в экономическом и стратегическом отношении заморском владении короны, комментаторы в погонах указывали, что, поскольку «британский гарнизон может однажды оказаться между пожаром на границе (восстанием пуштунских племен. – С.М.) и мятежом в Индии и будет зависеть целиком от собственных сил и ресурсов, элементарная предосторожность требует, чтобы он размещался таким образом, как будто оккупирует чужую страну»25. По мысли военных, только универсальная подготовка и полноценное техническое оснащение, а не специализация на колониальных кампаниях с заведомо более слабым в этом смысле противником, могли обеспечить военное преимущество перед вышедшими из подчинения туземными частями и стать достаточно надежной страховкой при таком развитии событий. Принятое в Индийской армии к тому времени разделение на войска прикрытия (Северо-западная пограничная провинция), полевую армию (резерв Имперского Генерального штаба) и силы внутренней безопасности (поддержка гражданских властей), приверженность которому неоднократно озвучивалась на страницах профессиональных изданий в рамках дискуссий о реорганизации Индийской армии после Первой мировой войны26, – с учетом регулярной ротации частей между ними – являлось зримым выражением единого в своей основе подхода к институциональным и организационным параметрам оформления колониального функционала британских вооруженных сил на разных уровнях армейской корпорации Британской империи (при этом в Индии подготовка к пограничной войне традиционно имела более прагматичный характер, чем в метрополии).
Во время Второй мировой войны в связи с созданием Индийской национальной армии под руководством сотрудничавшего со странами оси Субхаса Чандры Боса и ростом популярности идеи достижения независимости Индии революционным путем27 эта мысль будет звучать среди британского военного руководства еще отчетливее: «Сейчас мы полностью согласны, что на протяжении войны и, вероятно, некоторое время после ее окончания Индия должна рассматриваться по соображениям безопасности как оккупированная и враждебная страна»28. Развитие событий на Ближнем Востоке в это же время (готовность Египта, Ирака и Ирана к достаточно широкому военно-политическому взаимодействию с Германией и Италией) только подтверждало, по мнению военных, верность решения об отказе от организационного оформления колониальных частей29.
В-четвертых, в условиях финансовых ограничений и сокращения штата британской армии на зависимых территориях в межвоенный период ставка делалась на частичное замещение недостающей численности вооруженных сил за счет формирования туземных войск в качестве местных союзников и основных проводников колониальной политики Лондона в ее силовом исполнении. Применительно к середине – второй половине 1930-х годов можно говорить о существовании вполне рабочей модели постепенного делегирования ответственности от британских сил безопасности к местным армейским и полицейским структурам, включая их техническое оснащение и обучение офицерского корпуса и рядового состава, и в области военного мышления, и на уровне реальной политики. Так, «индианизация» Британской индийской армии – наряду с давней традицией набора туземных (сипайских) полков – рассматривалась некоторыми представителями военных кругов в одном ряду с созданием (реформированием) армий, провозгласивших независимость Египта и Ирака, а также подмандатной Трансиордании под контролем британских военных специалистов, как еще один способ компенсировать отсутствие у Великобритании собственно колониальных частей и сократить численность британского элемента в заморских гарнизонах империи30. Сроки, масштабы и последствия этого процесса являлись предметом дискуссий31. Однако обеспечение внутренней безопасности за счет привлечения местного населения на военную службу представляло собой давнюю практику британского военного присутствия за рубежом и в межвоенный период по-прежнему рассматривалось как эффективный механизм колониального контроля32.
С наибольшим размахом такая модель внутренней безопасности на заморских территориях была реализована в зоне ответственности Королевских ВВС. «Воздушный контроль» опирался на тесное взаимодействие с набранными на местах вспомогательными отрядами (ассирийские, арабские и курдские части в Ираке, не говоря уже о самой иракской армии, Пограничные силы Трансиордании)33. При этом в армии считали, что процесс делегирования полномочий в этом вопросе должен носить постепенный характер, особенно в Индии, учитывая ее пестрый этнический и религиозный состав, а также мозаику ее политической карты. Перспективы «индианизации» Британской индийской армии в профессиональной среде обсуждались в контексте как давних споров между индийским командованием и Индийской политической службой о роли политических офицеров в осуществлении колониального контроля на субконтиненте (и особенно в зоне племен), так и в рамках более широкой дискуссии о политической реформе в Индии в целом. Имевшие место противоречия находили отражение на содержательном уровне.
Комментаторы указывали, что набеговая активность пуштунских племен Северо-Западной пограничной провинции Индии обусловлена крепнущим в их среде представлением о возрастающей слабости британского правления: с каждой новой уступкой сторонникам самоуправления Индии и ростом их политического влияния в племенной среде в противовес традиционной власти вождей и старейшин, между тем как «на Востоке уважают силу, а не слабость»34. Такая вполне ориенталистская трактовка идеального modus vivendi в отношениях с туземным населением в условиях внешнего управления экстраполировалась и на другие организованные по племенному принципу народы на Ближнем Востоке и в Африке, находившиеся под влиянием и в пределах Британской империи (прежде всего, арабы и курды), как, например, в довольно известной в свое время работе подполковника Ч.Э. Брюса, состоявшего при Политическом департаменте Раджа и занимавшего пост Верховного комиссара Белуджистана (1930–1931)35.
В этом во многом обусловленном корпоративными интересами споре о перспективах косвенного управления в Индии между Политическим департаментом и военным командованием победа осталась за армией Раджа. Необходимые объемы финансирования и численный состав Индийской армии можно было обеспечить, только убедив власти в необходимости крупных гарнизонов в пограничье36. В других британских владениях возобладала наиболее распространенная в эпоху Интербеллума модель непрямого правления – «воздушный контроль». Однако ключевым для армейской корпорации был вопрос, кому будет лояльна полностью «индианизированная» Индийская армия: британскому Раджу или выборным органам власти? В широком смысле ответ на этот вопрос имел значение и в отношении других в той или иной степени зависимых стран, обладавших собственными вооруженными силами: Египта, Ирака и Трансиордании. Восстановление британского влияния в Египте сразу после Первой мировой войны и в Ираке на начальном этапе Второй мировой войны наглядно иллюстрировало в оценках военных экспертов межвоенной поры значение возможности оперативного использования британских частей (подготовленных к конвенциональной войне) для обеспечения колониального порядка.
Некоторым в этом смысле залогом сохранения влияния метрополии считались хорошие отношения британского командования и военных советников с «туземными» офицерами. Но и они часто интерпретировались в ориенталистском ключе – комментаторы уделяли внимание фактору национальной идентичности, однако преувеличивали значение профессиональной или полковой солидарности37. Игнорирование роста национального самосознания на зависимых территориях как ключевой опоры движений в поддержку национального самоопределения отличало многие работы военно-теоретического характера. В армии преодоление кризиса лояльности рассматривалось как тактическая задача в рамках колониального антиповстанчества. Его актуальная – на теоретическом и доктринальном уровне – модель была описана генералом Гвинном в 1934 г.38 Решение этой проблемы на стратегическом уровне (устранение глубинных причин недовольства деятельностью колониальных администраций на местах) военные оставляли за политическим руководством, как и ее обсуждение. И такое видение роли вооруженных сил в преодолении многочисленных кризисов лояльности в Британской империи было артикулировано еще в начале 1920-х годов по итогам «Ирландской войны»39.
В-пятых, весомую лепту в решение об отказе от формирования колониальных войск в качестве отдельной институции (со всей спецификой их подготовки и обеспечения) и сохранении с оперативной точки зрения более удобной (если не сказать – единственно возможной в складывавшихся обстоятельствах) традиционной армейской структуры на Ближнем Востоке и Индостане внесла междержавная конкуренция. Соперничество крупных игроков способствовало тому, что приграничные (окраинные и заморские) территории рассматривались одновременно как источники силы (экономика и международный авторитет) и слабости (отвлечение ресурсов в связи с убежденностью руководства в существовании эвентуальной внешней угрозы). Иностранная пропаганда, финансовая, военно-техническая и агентурная помощь антибританским силам в колониях и на других зависимых территориях, ставка на религиозные чувства мусульманских подданных европейских держав и крепнувшее стремление местных элит к национальной независимости дали о себе знать уже во время Первой мировой войны и получили продолжение в межвоенный период. На первый план в качестве основной трансграничной угрозы безопасности британских владений в 1920-е годы вышли Турция и Советская Россия/СССР40. Персидский залив и Афганистан всеми сторонами не без оснований воспринимались как «ворота в Индию». В 1930-е годы место Анкары и Москвы в умах военных экспертов заняли Италия и Германия (при этом советская угроза с повестки также не ушла).
В этой связи комментаторы обращали внимание, что «военное министерство в Лондоне и военные департаменты в Симле являлись единственными военными организациями, достаточно подготовленными к планированию и проведению военных операций за морями вне пределов зоны их прямой ответственности»41. И речь шла не только о проекции британской военной мощи на просторах бывшей Османской империи, но также о необходимости учитывать новые внешние факторы. Неудивительно, что бригадир сэр У.Дж.Ш. Добби, наводивший порядок в Палестине во время вышедших из-под контроля полиции столкновений между арабской и еврейской общинами в 1929 г., охарактеризовал возникшую перед ним проблему как одновременно внутреннюю и внешнюю42. Временный командующий британскими вооруженными силами в Палестине (руководство ими накануне и после вспышки насилия в стране осуществляли ВВС) подразумевал амбивалентный характер задач, стоявших перед заморскими гарнизонами Великобритании в межвоенный период. Этот аргумент был одним из основных, к которым Добби и его коллеги по армейской корпорации прибегали, убеждая своих оппонентов, что на Ближнем Востоке воздушный контроль не пригоден для обороны империи.
* * *
Опасения британского военного и политического руководства, вызванные системными попытками Советской России/СССР расширить «туркестанский плацдарм» и персидский фронт мировой революции, а также проложить «афганский коридор» в Британскую Индию для стимулирования на этом субконтиненте протестных движений, оказывали заметное влияние на политику Лондона в сфере внутренней безопасности империи в 1920-е годы43. Расширение масштабов и форм антиколониального протеста на фоне прихода НСДАП к власти в Германии с программой последовательного отказа от военных ограничений по Версальскому договору и активизации политики Италии в Африке и на Ближнем Востоке и Японии на Дальнем Востоке вызывали беспокойство профильных ведомств британского государственного аппарата44 и стимулировали рост публикаций в прессе и профессиональных журналах о задачах армии в условиях Версальско-Вашингтонского миропорядка в 1930-е годы45.
При этом к оценке фактора внешней угрозы в определении курса политики внутренней безопасности Британской империи следует относиться с известной долей осторожности, принимая во внимание специфику каждого из этапов межвоенной поры. Необходимо учитывать заинтересованность отдельных ведомств и служб в нагнетании (Имперский генеральный штаб и командование Британской индийской армии) или, напротив, минимизации (командование Королевских военно-воздушных сил, Министерство по делам колоний) военной тревоги, а также роль устоявшихся дискурсивных практик и понятий (прежде всего таких взаимосвязанных, как «русская/советская угроза» и «оборона Индии»)46. В каком-то смысле повторялась ситуация начала XX в., когда процесс переориентации британских вооруженных сил с противостояния Российской империи в Большой игре на противодействие Германской империи также сопровождался спорами и трениями между Имперским Генеральным штабом и Индийским командованием из-за расхождений в оценке эвентуальных внешних угроз. Штабисты-планировщики в Индии преувеличивали вероятность и масштабы «русской угрозы», опираясь на интеллектуальный авторитет колониального знания армейской разведки47.
Этот сюжет наглядно иллюстрирует значение институциональных фильтров в процессе принятия решений из области внутренней безопасности в рамках имперской политики Великобритании как до, так и после Первой мировой войны. Столкновение имперского (глобального и основанного на универсальном экспертном знании) и колониального (локального и опиравшегося на сведения об уникальной, местной специфике) подходов к обеспечению обороноспособности империи свидетельствует не только о конфликте ведомственных интересов вокруг распределения военного бюджета. Речь идет о кризисе идей в части представлений военного класса об угрозах внутренней безопасности империи. В межвоенный период к традиционным спорам внутри армейской корпорации между Военным министерством и региональными командованиями, обострившимся на фоне многочисленных кризисов лояльности от Ирландии до Индии, добавились новые проблемы, связанные с затруднительным процессом перевода информации о проблемах внутренней безопасности в аналитику, которая убедительно звучала бы в дебатах на Уайтхолле.
Во-первых, появилась насущная необходимость отстаивать свой взгляд на колониальный контроль в бюрократических баталиях с ВВС за финансирование и порядок соподчинения этих служб – на фоне роста обязательств и сокращения армии в соответствии с «правилом десяти лет» (1932) и медленного роста военных расходов и численности вооруженных сил в 1930-е годы. Во-вторых, серьезные опасения за безопасность заморских гарнизонов и ближайшее будущее британского присутствия в Азии, Африке, на Ближнем и Дальнем Востоке были связаны с новыми формами антиколониального протеста («герилья особого рода»), для которых современники изобрели свои понятия в 1930-е годы – «современный мятеж» (генерал Гвинн) или «подпольная война» (подполковник Симсон)48.
Таким образом, для армейской корпорации одним из необходимых условий решения проблемы безопасности империи в условиях невиданной ранее взаимосвязи внутренней и внешней угроз являлся, на первый взгляд, парадоксальный (с учетом масштабов и разнообразия владений) отказ от учреждения колониальной армии как самостоятельного института. При этом ставка на сохранение как можно большего числа заморских гарнизонов в качестве «пожарных команд» на случай внутренних волнений (от коммунальных беспорядков до полномасштабных восстаний против метрополии) отражала не только привычную логику британского военного мышления, ориентированного прежде всего на подготовку к конвенциональной войне49. Комментаторы выражали сомнения в верности политики на зависимых территориях, проявлявшейся в делегировании все больших полномочий избираемым местным властям, с одной стороны, и провальных, с точки зрения военных, попытках контролировать эскалацию антиколониальных протестов – с другой. При декларируемом абстрагировании армии от публичного обсуждения этого вопроса профессиональная дискуссия об институционализации колониальной армии (на разных площадках и уровнях, включая самые высокие кабинеты правительства) являлась на деле еще и способом политического высказывания – представители армейской корпорации таким образом получали возможность артикулировать свои соображения о степени стабильности принятой модели сохранения колониального порядка в форме, приемлемой для властных отношений в Великобритании в межвоенный период.
1 Старейшая «фабрика мысли» при Военном министерстве (1831); профильное издание института (1857) – важнейшая дискуссионная площадка армейской корпорации в эпоху Интербеллума (индийский аналог – журнал учрежденного по аналогии Института объединенных служб Индии): Altham E.A. The Royal United Service Institution 1831–1931 // Royal United Services Institution (далее – RUSI). Journal. 1931. Vol. 76 (502). P. 235–245; Idem. The Royal United Service Institution. Fifty Years Ago // RUSI. Journal. 1945. Vol. 90 (558). P. 147–149.
2 Консенсусное представление руководства Великобритании, что королевству в ближайшие 10 лет, начиная с 1919 г., не придется участвовать в «масштабной войне» (пролонгировано в 1929 и 1930 гг.).
3 Altham E.A. The Cardwell System // RUSI. Journal. 1928. Vol. 73 (479) P. 112.
4 Appleton G.L. The Cardwell System: A Criticism // RUSI. Journal. 1927. Vol. 72 (487). P. 593–594.
5 Edwards J.K. Second (Military) Prize Essay for 1927 // RUSI. Journal. 1928. Vol. 73 (491). P. 469.
6 Smith A.B. The Tasks of the Army // RUSI. Journal. 1934. Vol. 79 (513). P. 49, 53.
7 Цит. по: Moreman T. “Small Wars” and “Imperial Policing”: The British army and the theory and practice of colonial warfare in the British empire, 1919–1939 // Journal of Strategic Studies. 1996. Vol. 19. № 4. P. 107.
8 Wavell A.P. The Training of the Army for War // RUSI. Journal. 1933. Vol. 78 (510). P. 255.
9 Robertson D.E. The Organisation and Training of the Army in India // RUSI. Journal. 1924. Vol. 69 (474). P. 326.
10 Brighten E.W. The Senior Officers’ School // RUSI. Journal. 1928. Vol. 73 (489). P. 24–29; Burrows H.M. Junior Officers’ Schools // RUSI. Journal. 1928. Vol. 73 (490). P. 239–242; Sandilands H.R. The Case for the Senior Officers’ School // Ibid. P. 235–238; Ironside W.E. The Modern Staff Officer // RUSI. Journal. 1928. Vol. 73 (491). P. 435–447; Milling J.M. The Training of the Army Officer // Ibid. P. 518–524; McNair J.R. The Study of War by Junior Officers // RUSI. Journal. 1932. Vol. 77 (506). P. 244–259; Witts F.H. General Education at the Royal Military College // RUSI. Journal. 1932. Vol. 77 (507). P. 538–541; Cunningham A.G. The Training of the Army, 1934 // RUSI. Journal. 1934. Vol. 79 (516). P. 723–732.
11 Field Service Regulations. Vol. II. Operations. The War Office (Provisional), 1920. См. подробнее: Moreman T. “Small Wars”… P. 107–110; Idem. The Army in India and the Development of Frontier Warfare, 1849–1947. London, 1998.
12 Gwynn C.W. Imperial Policing. London, 1934; Simson H.J. British Rule and Rebellion. Edinburgh; London, 1937.
13 Record of the Rebellion in Ireland in 1920–1921, and of the Part played by the Army in dealing with it. 1922 // The National Archives. War Office (далее – TNA. WO) 141/93, 141/94; Military Lessons of the Arab Rebellion in Palestine, 1936. General Staff, Headquarters, The British Forces, Palestine & Trans-Jordan. February 1938 // TNA. WO 191/70.
14 Official History of Operations on the North-West Frontier of India. 1936–1937. Delhi, 1943; Official History of Operations on the North-West Frontier of India. 1920–1935. Pt. II. The Afridi and Red Shirt Rebellion, 1930–1931. The Mahmand and Bajaur Operations, 1933. Delhi, 1945.
15 See the World and Get Paid for Doing It // Imperial War Museum (далее – IWM). Art. IWM. Poster 7687; Join the Army and See the World // IWM. Art. IWM. Poster 13502.
16 Moreman T. “Small Wars”. P. 106–112.
17 Training Regulations. London, 1934. P. 1.
18 Gwynn C.W. Op. cit. P. 7.
19 Lyautey H. Du Role Colonial de L’Armee. Paris, 1900; Porch D. Bugeaud, Gallieni, Lyautey: The Development of French Colonial Warfare // Makers of Modern Strategy: From Machiavelli to the Nuclear Age / ed. P. Paret. Oxford, 1986. P. 376–407; Griffin C. A Revolution in Colonial Military Affairs: Gallieni, Lyautey, and the “Tache d’huile”. Paper prepared for the 2009 British International Studies Association Conference. Leicester, December 14–16, 2009.
20 Woodington E.J. Functions and Future of the Royal Marines // RUSI. Journal. 1927. Vol. 72 (488). P. 755–766; Blumberg H.E. The Cardwell System and the Royal Marines // Ibid. P. 767–773.
21 Return showing the Actual Strength of the Army and Royal Air Force in India including Persian Gulf Ports, the E.P. Force, S. Persia and S.E. Persia and Aden on the 1st December 1921. Simla. Superintendent, Government Central Press, 1922 // British Library (далее – BL). India Office Records (далее – IOR)/L/MIL/17/5/1265; Mesopotamia: demobilisation of British troops // BL. IOR/L/MIL/5/796; Maps Showing the Disposition of Troops in the Eastern Ottoman Empire and Surrounding Areas between 1919 and 1922 // BL. IOR. Mss Eur F112/571.
22 Бувери Т. Умиротворение Гитлера. Чемберлен, Черчилль и путь к войне. М., 2022. С. 114–125.
23 Thomas M. Empires of Intelligence. Security Services and Colonial Disorder after 1914. Berkeley; Los Angeles, 2008. P. 107–144, 173–200; Tripodi C. Peacemaking through bribes or cultural empathy? The political officer and Britain’s strategy towards the North-West Frontier, 1901–1945 // Journal of Strategic Studies. 2008. Vol. 31 (1). P. 123–151; Idem. Edge of Empire: The Political Officer and British Tribal Control on the Western Frontiers of India, 1877–1947. Farnham, 2011; Idem. Politicals’, Tribes and Musahibans: The Indian Political Service and Anglo-Afghan Relations, 1929–1939 // International History Review. 2012. Vol. 34 (4). P. 865–886.
24 Waldie D.J.P. Relations between the Army and the Royal Air Force, 1918–1939: PhD Thesis. London University, 1980; Walters A.J.C. Inter-War, Inter-Service Friction on the North-West Frontier of India and its Impact on the Development and Application of Royal Air Force Doctrine: PhD Thesis. University of Birmingham, 2017.
25 Smith A.B. The Future of India’s Defence // RUSI. Journal. 1934. Vol. 79 (516). P. 810.
26 Walker G.K. A Note on the Future Organization of the Auxiliary Force // The Journal of the United Service Institution of India (далее – JUSII). 1921. Vol. LI. № 224. P. 77–79; Martin H.G. India and the Next War // JUSII. 1922. Vol. LII. № 229. P. 323–341; Durnford C.N.P. Imperial Organization in relation to Imperial Defence // JUSII. 1926. Vol. LVI. № 244. P. 94–102; Haining R.H. Problems of Imperial Defence // JUSII. 1926. Vol. LVI. № 245. P. 9–31; Mackay D.S. An Aspect of the Training of the Auxiliary Force (India) // JUSII. 1927. Vol. LVII. № 248. P. 75–82; Duncan H.C. An Imperial Army // JUSII. 1927. Vol. LVII. № 249. P. 90–98; Arthur L.F. Organization of the Indian Army // JUSII. 1928. Vol. LVIII. № 251. P. 325–337; Dening B.C. The Future of the Fighting Services in India // RUSI. Journal. 1932. Vol. 77 (505). P. 1–11; Indianization of the Army – A Retrospect // JUSII. 1937. Vol. LXVII. № 287. P. 183–192; Armstrong A.G. Internal Security in India // RUSI. Journal. 1939. Vol. 84 (535). P. 521–527.
27 Подробнее: Фурсов К.А. Нетаджи: жизнь и исчезновение Субхаса Чандры Боса. М., 2021; Куприянов А.В. Индия // Память о Второй мировой войне за пределами Европы / под ред. А.И. Миллера, А.В. Соловьева. СПб., 2022. С. 114–129.
28 Note on the Internal Security problem in India. Most Secret. G.H.Q. 15.01.1943 // TNA. WO 106/3757. P. 1.
29 Co-ordination of sabotage and subversive activities in the Middle East // BL. IOR/L/PS/12/570. Наиболее драматично события развивались в Ираке: Iraq Rebellion, 1941 // BL. IOR/L/PS/12/503; Iraq. Operations in 1941. Political control and use of services // BL. IOR/L/PS/12/2899. Подробнее: Фомин А.М. Британская политика и стратегия на Ближнем Востоке в 1941 г.: три войны «к востоку от Суэца» // Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика. 2020. № 3. С. 191–221.
30 Walker G.K. Op. cit. P. 77–79; Robertson D.E. Op. cit. P. 325–326; Indianization of the Army… P. 183–192. Британский контроль над египетской армией сохранялся до 1936 г., однако с 1937 г. в стране действовала британская военная миссия (помимо контингента в зоне Суэцкого канала), местные офицеры обучались в открытой британцами Военной академии Египта (1936) и военных учебных заведениях Великобритании: Бурова А.Н. Развитие армии Египта в период 1920–1940-х гг.: от незначительной силы до конкурентоспособного игрока // Вестник РГГУ. Серия «Политология, История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение». 2016. № 2 (4). С. 103.
31 Bird W.D. A Note on the Military Organization of Imperial Defence // RUSI. Journal. 1920. Vol. 65 (458). P. 338–343; Smith A.B. The Future… P. 810; Note on the Internal Security problem…
32 См.: Rossiter A. Britain and the Development of Professional Security Forces in the Gulf Arab States, 1921–71: Local Forces and Informal Empire: PhD Thesis. University of Exeter, 2014.
33 Omissi D. Britain, the Assyrians and the Iraq Levies, 1919–1932 // The Journal of Imperial and Commonwealth History. 1989. Vol. 17 (3). P. 301–322; Idem. Technology and repression: Air control in Palestine 1922–36 // Journal of Strategic Studies. 1990. Vol. 13 (4). P. 41–63; Idem. Air Power and Colonial Control: The Royal Air Force, 1919–1939. Manchester, 1990.
34 Official History of Operations on the North-West Frontier of India. 1920–1935; Official History of Operations on the North-West Frontier of India. 1936–1937.
35 Bruce C.E. Waziristan, 1936–1937. The Problems of the North-West Frontiers of India and their Solutions. Aldershot, 1938. P. 59–61.
36 Ferris J. Counter-Insurgency and Empire. The British Experience with Afghanistan and the North-West Frontier, 1838–1947 // War and State-Building in Afghanistan: Historical and Modern Perspectives / eds S. Gates, K. Roy. London; New Delhi, 2015. P. 83–95.
37 См.: Tyrrell F.H. The Arab Soldier // RUSI. Journal. 1923. Vol. 68 (469). P. 82–88.
38 Помимо упоминаний в работах современников, см.: Notes on Imperial Policing. WO. 30th January, 1934 // WO 279/796 (вероятный автор – генерал Гвинн); Military Lessons of the Arab Rebellion in Palestine, 1936. General Staff, Headquarters, the British Forces, Palestine & Trans-Jordan. February, 1938 // TNA. WO 191/70. P. 169.
39 Record of the Rebellion in Ireland…
40 Так, генерал-лейтенант сэр Э. Холдэйн, выступая в Королевском институте объединенных служб с лекцией о подавлении восстания в Месопотамии в 1920 г., упоминал о «турецкой интриге» и «ужасах большевизма» как внешних факторах, осложнявших его задачи в этой стране: Haldane A. The Arab Rising in Mesopotamia, 1920 // RUSI. Journal. 1923. Vol. 68 (469). P. 63–81. См. также: The Bolshevik Menace [by “Mongolian”] // JUSII. 1926. Vol. LVI. № 242. P. 9–22; Dennys L.E. The Gold Medal Prize Essay, 1929 // JUSII. 1930. Vol. LX. № 258. P. 5–6; Muspratt S.F. The North-West Frontier of India // RUSI. Journal. 1932. Vol. 77 (507). P. 467–480.
41 Bird W.D. Op. cit. P. 338.
42 Waldie D.J.P. Op. cit. P. 160.
43 Персидский фронт мировой революции. Документы о советском вторжении в Гилян (1920–1921) / сост. М.А. Персиц. М., 2017; Улунян Ар.А. Туркестанский плацдарм. 1917–1922: британское разведывательное сообщество и британское правительство. М., 2019; Советская Россия в борьбе за «афганский коридор» (1919–1925). Сб. док. / сост. Ю.Н. Тихонов. М., 2017; Сергеев Е.Ю. Большевики и англичане. Советско-британские отношения, 1918–1924 гг.: от интервенции к признанию. М., 2019.
44 Одно из первых упоминаний об интересе Италии к панарабским движениям: Enclosure to Rome Chancery’s letter to Eastern Department № 291/6/35 of the 30th March 1935. Pan Arab Congress 1933. Attitude of H.M.G. to a Pan Arab Movement // BL. OR/L/PS/12/2110. О политике Германии на этом направлении: Шерстюков С.А. Немецкая пропаганда на Ближнем Востоке (1914–1945). Барнаул, 2020; Мотадель Д. Ислам в политике нацистской Германии (1939–1945). М., 2020.
45 Участники дискуссии перекрестным образом ссылались на публикации по этой проблематике в профильных изданиях и в прессе: Hudson C.E. The Tasks of the Army // RUSI. Journal. 1933. Vol. 78 (512). P. 773; Smith A.B. The Tasks… P. 47.
46 Упоминания об эвентуальной угрозе Британской Индии со стороны СССР встречаются и в публикациях офицеров британской армии первой половины 1930-х годов, когда все более актуальными становились другие угрозы: Muspratt S.F. Op. cit. P. 470, 478–479; Smith A.B. The Future… P. 810.
47 Hevia J. The Imperial Security State. British Colonial Knowledge and Empire-Building in Asia. Cambridge, 2012. P. 152–164.
48 Более привычные термины «повстанец» и, соответственно, «антиповстанчество» в британской военной доктрине стали применять только с 1963 г.: Alderson A. The Validity of British Army Counterinsurgency Doctrine after the War in Iraq, 2003–2009: PhD Thesis. Cranfield University, 2009. P. 111.
49 По мнению Комитета имперской обороны, в идеале все регулярные вооруженные силы империи в 1930-е годы – в метрополии, доминионах и Индии – должны были быть готовы именно к конвенциональной войне: Delaney D.E. The Imperial Army Project: Britain and the Land Forces of the Dominions and India, 1902–1945. Oxford, 2018. P. 201–229.
About the authors
Stanislav G. Malkin
Samara State University of Social Studies and Education
Author for correspondence.
Email: s.g.malkin@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-9522-7926
Scopus Author ID: 57193670318
ResearcherId: F-1650-2016
Dr. Sci. (Hist.)
Russian Federation, SamaraReferences
- Бувери Т. Умиротворение Гитлера. Чемберлен, Черчилль и путь к войне. М., 2022.
- Бурова А.Н. Развитие армии Египта в период 1920–1940-х гг.: от незначительной силы до конкурентоспособного игрока // Вестник РГГУ. Серия «Политология, История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение». 2016. № 2 (4). С. 102–109.
- Куприянов А.В. Индия // Память о Второй мировой войне за пределами Европы / под ред. А.И. Миллера, А.В. Соловьева. СПб., 2022. С. 114–129.
- Мотадель Д. Ислам в политике нацистской Германии (1939–1945). М., 2020.
- Сергеев Е.Ю. Большевики и англичане. Советско-британские отношения, 1918–1924 гг.: от интервенции к признанию. М., 2019.
- Улунян Ар.А. Туркестанский плацдарм. 1917–1922: британское разведывательное сообщество и британское правительство. М., 2019.
- Фомин А.М. Британская политика и стратегия на Ближнем Востоке в 1941 г.: три войны «к востоку от Суэца» // Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика. 2020. № 3. С. 191–221.
- Фурсов К.А. Нетаджи: жизнь и исчезновение Субхаса Чандры Боса. М., 2021.
- Шерстюков С.А. Немецкая пропаганда на Ближнем Востоке (1914–1945). Барнаул, 2020.
- Burova A.N. Razvitie armii Egipta v period 1920–1940-kh gg.: ot neznachitel’noj sily do konkurentosposobnogo igroka [The development of the Egyptian army in the 1920s-1940s: from an insignificant force to a competitive player] // Vestnik RGGU. Seriya “Politologiya, Istoriya. Mezhdunarodnye otnosheniya. Zarubezhnoe regionovedenie. Vostokovedenieˮ [Bulletin of the Russian State University. Series “Political Science, History. International relations. Foreign regional studies. Oriental Studiesˮ]. 2016. № 2 (4). S. 102–109. (In Russ.)
- Buveri T. Umirotvorenie Gitlera. Chemberlen, Cherchill’ i put’ k vojne [Appeasement of Hitler. Chamberlain, Churchill and the Way to War]. Moskva, 2022. (In Russ.)
- Fomin A.M. Britanskaya politika i strategiya na Blizhnem Vostoke v 1941 g.: tri vojny “k vostoku ot Suehtsaˮ [British policy and strategy in the Middle East in 1941: three wars “east of Suezˮ] // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 25. Mezhdunarodnye otnosheniya i mirovaya politika [Bulletin of the Moscow University. Episode 25. International relations and World Politics]. 2020. № 3. S. 191–221. (In Russ.)
- Fursov K.A. Netadzhi: zhizn’ i ischeznovenie Subkhasa Chandry Bosa [Netaji: the Life and Disappearance of Subhas Chandra Bose]. Moskva, 2021. (In Russ.)
- Kupriyanov A.V. Indiya [India] // Pamyat’ o Vtoroj mirovoj vojne za predelami Evropy [Memory of the Second World War outside Europe] / pod red. A.I. Millera, A.V. Solov’eva. Sankt-Peterburg, 2022. S. 114–129. (In Russ.)
- Motadel’ D. Islam v politike natsistskoj Germanii [Islam in the Politics of Nazi Germany] (1939–1945). Moskva, 2020. (In Russ.)
- Sergeev E.Yu. Bol’sheviki i anglichane. Sovetsko-britanskie otnosheniya, 1918 – 1924 gg.: ot interventsii k priznaniyu [Bolsheviks and the British. Soviet-British relations, 1918 – 1924: from Intervention to Recognition]. Moskva, 2019. (In Russ.)
- Sherstyukov S.A. Nemetskaya propaganda na Blizhnem Vostoke [German propaganda in the Middle East] (1914–1945). Barnaul, 2020. (In Russ.)
- Ulunyan Ar.A. Turkestanskij platsdarm. 1917–1922: britanskoe razvedyvatel’noe soobsche-stvo i britanskoe pravitel’stvo [Turkestan bridgehead. 1917–1922: the British Intelligence community and the British government]. Moskva, 2019. (In Russ.)
- Alderson A. The Validity of British Army Counterinsurgency Doctrine after the War in Iraq, 2003–2009: PhD Thesis. Cranfield University, 2009.
- Altham E.A. The Cardwell System // Royal United Services Institution. Journal. 1928. Vol. 73 (479). P. 108–114.
- Altham E.A. The Royal United Service Institution 1831–1931 // Royal United Services Institution. Journal. 1931. Vol. 76 (502). P. 235–245.
- Altham E.A. The Royal United Service Institution. Fifty Years Ago // Royal United Services Institution. Journal. 1945. Vol. 90 (558). P. 147–149.
- Appleton G.L. The Cardwell System: A Criticism // Royal United Services Institution. Journal. 1927. Vol. 72 (487). P. 591–599.
- Armstrong A.G. Internal Security in India // Royal United Services Institution. Journal. 1939. Vol. 84 (535). P. 521–527.
- Arthur L.F. Organization of the Indian Army (A Lecture delivered at the Army Headquarters Staff College Course 1927) // The Journal of the United Service Institution of India. 1928. Vol. LVIII. № 251. P. 325–337.
- Bird W.D. A Note on the Military Organization of Imperial Defence // Royal United Services Institution. Journal. 1920. Vol. 65 (458). P. 338–343.
- Blumberg H.E. The Cardwell System and the Royal Marines // Royal United Services Institution. Journal. 1927. Vol. 72 (488). P. 767–773.
- Brighten E.W. The Senior Officers’ School // Royal United Services Institution. Journal. 1928. Vol. 73 (489). P. 24–29.
- Bruce C.E. Waziristan, 1936–1937. The Problems of the North-West Frontiers of India and their Solutions. Aldershot, 1938.
- Burrows H.M. Junior Officers’ Schools // Royal United Services Institution. Journal. 1928. Vol. 73 (490). P. 239–242.
- Cunningham A.G. The Training of the Army, 1934 // Royal United Services Institution. Journal. 1934. Vol. 79 (516). P. 723–732.
- Delaney D.E. The Imperial Army Project: Britain and the Land Forces of the Dominions and India, 1902–1945. Oxford. 2018.
- Dening B.C. The Future of the Fighting Services in India // Royal United Services Institution. Journal. 1932. Vol. 77 (505). P. 1–11.
- Dennys L.E. The Gold Medal Prize Essay, 1929 // The Journal of the United Service Institution of India. 1930. Vol. LX. № 258. P. 5–16.
- Duncan H.C. An Imperial Army // The Journal of the United Service Institution of India. 1927. Vol. LVII. № 249. P. 90–98.
- Durnford C.N.P. Imperial Organization in relation to Imperial Defence // The Journal of the United Service Institution of India. 1926. Vol. LVI. № 244. P. 94–102.
- Edwards J.K. Second (Military) Prize Essay for 1927 // Royal United Services Institution. Journal. 1928. Vol. 73 (491). P. 458–474.
- Ferris J. Counter-Insurgency and Empire. The British Experience with Afghanistan and the North-West Frontier, 1838–1947 // War and State-Building in Afghanistan: Historical and Mod-ern Perspectives / eds S. Gates, K. Roy. London; New Delhi, 2015. P. 83–95.
- Griffin C. A Revolution in Colonial Military Affairs: Gallieni, Lyautey, and the “Tache d’huile”. Paper prepared for the 2009 British International Studies Association Conference. Leicester, December 14–16, 2009.
- Griffith R. The Frontier Policy of the Government of India // Royal United Services Institution. Journal. 1938. Vol. 83 (531). P. 578–579.
- Gwynn C.W. Imperial Policing. London, 1934.
- Haining R.H. Problems of Imperial Defence // The Journal of the United Service Institution of India. 1926. Vol. LVI. № 245. P. 9–31.
- Haldane A. The Arab Rising in Mesopotamia, 1920 // Royal United Services Institution. Journal. 1923. Vol. 68 (469). P. 63–81.
- Hevia J. The Imperial Security State. British Colonial Knowledge and Empire-Building in Asia. Cambridge, 2012.
- Hudson C.E. The Tasks of the Army // Royal United Services Institution. Journal. 1933. Vol. 78 (512). P. 773–778.
- Ironside W.E. The Modern Staff Officer // Royal United Services Institution. Journal. 1928. Vol. 73 (491). P. 435–447.
- Lyautey H. Du Role Colonial de L’Armee. Paris, 1900.
- Mackay D.S. An Aspect of the Training of the Auxiliary Force (India) // The Journal of the United Service Institution of India. 1927. Vol. LVII. № 248. P. 75–82.
- Martin H.G. India and the Next War // The Journal of the United Service Institution of India. 1922. Vol. LII. № 229. P. 323–341.
- McNair J.R. The Study of War by Junior Officers // Royal United Services Institution. Journal. 1932. Vol. 77 (506). P. 244–259.
- Milling J.M. The Training of the Army Officer // Royal United Services Institution. Journal. 1928. Vol. 73 (491). P. 518–524.
- Moreman T. “Small Wars” and “Imperial Policing”: The British army and the theory and practice of colonial warfare in the British empire, 1919–1939 // Journal of Strategic Studies. 1996. Vol. 19. № 4. P. 105–131.
- Moreman T. The Army in India and the Development of Frontier Warfare, 1849–1947. London, 1998.
- Muspratt S.F. The North-West Frontier of India // Royal United Services Institution. Journal. 1932. Vol. 77 (507). P. 467–480.
- Omissi D. Air Power and Colonial Control: The Royal Air Force, 1919–1939. Manchester, 1990.
- Omissi D. Britain, the Assyrians and the Iraq Levies, 1919–1932 // The Journal of Imperial and Commonwealth History. 1989. Vol. 17. № 3. P. 301–322.
- Omissi D. Technology and repression: Air control in Palestine 1922–36 // Journal of Strategic Studies. 1990. Vol. 13. № 4. P. 41–63.
- Porch D. Bugeaud, Gallieni, Lyautey: The Development of French Colonial Warfare // Makers of Modern Strategy: From Machiavelli to the Nuclear Age / ed. P. Paret. Oxford, 1986. P. 376–407.
- Robertson D.E. The Organisation and Training of the Army in India // Royal United Services Institution. Journal. 1924. Vol. 69 (474). P. 316–333.
- Rossiter A. Britain and the Development of Professional Security Forces in the Gulf Arab States, 1921–71: Local Forces and Informal Empire: PhD Thesis. University of Exeter, 2014.
- Sandilands H.R. The Case for the Senior Officers’ School // Royal United Services Institution. Journal. 1928. Vol. 73 (490). P. 235–238.
- Simson H.J. British Rule and Rebellion. Edinburgh; London, 1937.
- Smith A.B. The Future of India’s Defence // Royal United Services Institution. Journal. 1934. Vol. 79 (516). P. 808–813.
- Smith A.B. The Tasks of the Army // Royal United Services Institution. Journal. 1934. Vol. 79 (513). P. 47–54.
- Thomas M. Empires of Intelligence. Security Services and Colonial Disorder after 1914. Berkeley; Los Angeles, 2008.
- Tripodi C. Edge of Empire: The Political Officer and British Tribal Control on the Western Fron-tiers of India, 1877–1947. Farnham, 2011.
- Tripodi C. Peacemaking through bribes or cultural empathy? The political officer and Britain’s strategy towards the North-West Frontier, 1901–1945 // Journal of Strategic Studies. 2008. Vol. 31. № 1. P. 123–151.
- Tripodi C. Politicals’, Tribes and Musahibans: The Indian Political Service and Anglo-Afghan Relations, 1929–1939 // International History Review. 2012. Vol. 34. № 4. P. 865–886.
- Tyrrell F.H. The Arab Soldier // Royal United Services Institution. Journal. 1923. Vol. 68 (469). P. 82–88.
- Waldie D.J.P. Relations between the Army and the Royal Air Force, 1918–1939: PhD Thesis. London University, 1980.
- Walker G.K. A Note on the Future Organization of the Auxiliary Force // The Journal of the United Service Institution of India. 1921. Vol. LI. № 224. P. 77–79.
- Walters A.J.C. Inter-War, Inter-Service Friction on the North-West Frontier of India and its Im-pact on the Development and Application of Royal Air Force Doctrine: PhD Thesis. University of Birmingham, 2017.
- Wavell A.P. The Training of the Army for War // Royal United Services Institution. Journal. 1933. Vol. 78 (510). P. 254–273.
- Witts F.H. General Education at the Royal Military College // Royal United Services Institution. Journal. 1932. Vol. 77 (507). P. 538–541.
- Woodington E.J. Functions and Future of the Royal Marines // Royal United Services Institution. Journal. 1927. Vol. 72 (488). P. 755–766.
Supplementary files