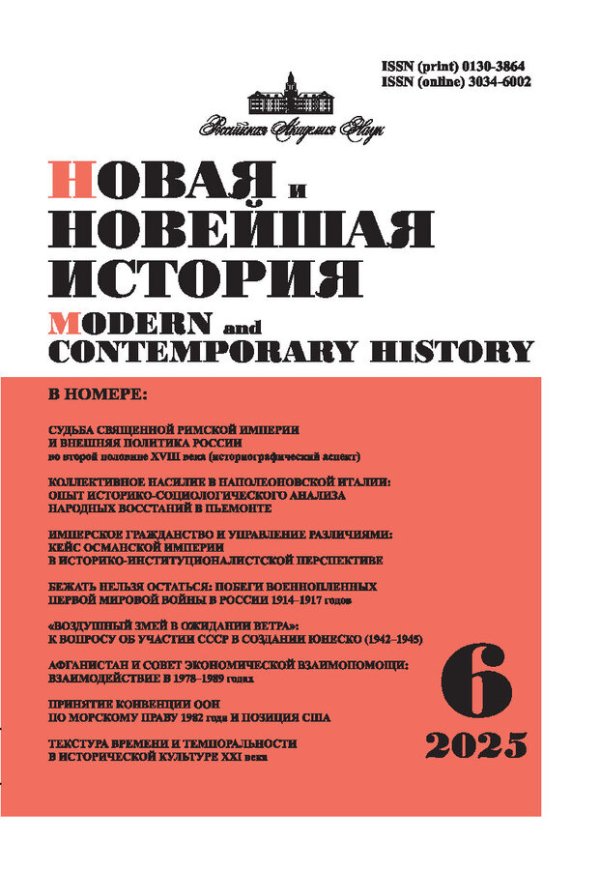Military Goals and Plans of the “Pan-German League” in the Memories of Heinrich Claß (1868–1953)
- Authors: Turygin A.A.1
-
Affiliations:
- Kostroma State University
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 78-92
- Section: Modern history
- URL: https://journal-vniispk.ru/0130-3864/article/view/255566
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0130386424010063
- ID: 255566
Cite item
Full Text
Abstract
The recently published second part of the memoirs of Heinrich Claß, chairman of the Pan-German League, who made a personal contribution to the dissemination and public acceptance of anti-Semitic, racist and expansionist views, and who also played an essential role in establishing and developing the communication of right-wing forces that sought to exert background influence on public policy, are of great scholarly interest and broaden the source base for studies of radical nationalism on the eve and during the Great War. In addition to the Pan-Germans’ own military aims related to the annexation of European territories that have already been studied in historiography, the memoirs illustrate the internal tense struggle for their approval within the Pan-German League as well as Claß’s various attempts to forge co-operation with high-ranking civil servants and the Reichswehr leadership. Claß made the resignation of Reich Chancellor Theobald von Bethmann Hollweg his goal, for the sake of which he established contacts at the highest level. Under wartime conditions, the Pan-German leader’s previously cautious attempts to hint at the need to change the national system of government took concrete shape and became the subject of public and political struggle. Claß’s ideas were associated with the establishment of a dictatorship in the form of the unlimited power of an emperor-appointed official who would, under war conditions, be allowed to act bypassing constitutional norms and established mechanisms of power. The war, in his opinion, was to bring to power a dictator capable of looking after the national interests. The memoirs of Claß show how, against the background of the struggle for the resignation of the Reich Chancellor and a series of military failures, the imperial civilian and military elite evaluated the idea of dictatorship and coup d’état, which allows one to assess in a new way the effectiveness of the Pan-German actions and, consequently, the potential of the Pan-German League.
Full Text
Видение Пангерманским союзом военных целей Германии, изложенное его лидером Генрихом Классом (1868–1953) в так называемом «меморандуме Класса»1, содержало широкую аннексионистскую программу от Соммы и Тулона до Прибалтики и Польши включительно. Эта программа стала итогом размышлений и теоретических изысканий, накопленных основателями немецкой школы геополитики, многие из которой были активными членами Пангерманского союза: Карл Риттер (1779–1859), Фридрих Ратцель (1844–1904), Отто Рихард Танненберг (1867–1916), Карл Хаусхофер (1869–1946) и др. Весьма популярный среди сторонников германского экспансионизма проект «Срединной Европы» занимал умы немецких интеллектуалов на протяжении всего XIX в., приобретя конкретные очертания после создания империи Бисмарком. После 1871 г. идея «Великой Германии» нашла поддержку у представителей различных политических сил. Апологет европейского могущества Германии под эгидой Пруссии национал-либерал Г. фон Трейчке (1834–1896), «открывший либералам империализм»2 с христианско-социальных позиций Ф. Науманн (1860–1919), сторонник распространения и будущего господства в мире немецкой национальной идеи П. Рорбах (1869–1956) или защитник идеи обретения Германией «достойного места» в мире консерватор Т. Шиман (1847–1921) сходились, по мнению К.Н. Цимбаева, в одном, «любому подлинно историческому и политическому народу необходимы идеалы расширения, в противном случае его ожидает стагнация, откат назад и полный общественный пессимизм»3.
Пангерманский союз (1891–1939), развивавший идеи надгосударственного объединения немцев на основе этнической, культурной и языковой общности, идеи защиты немецких интересов и достижения мирового могущества Германии, подобно другим панидеологиям (панамериканизм, панславизм, пантюркизм и т.д.), был авангардом правых радикалов, критиковавших умеренную политику правительства и стремившихся при помощи общественного мнения влиять на нее в качестве блока «национальной оппозиции». При этом некоторого уточнения требует понимание самой «нации» в пангерманизме. Американский историк и исследователь панидеологий Л. Снайдер рассматривает пангерманизм как синоним макронационализма, т.е. «большого национализма» или «национализма в наднациональной форме». Он определяет пангерманизм как идеологию и движение, которое поощряло солидарность наций на основе общности языка, культуры, этнической принадлежности и географии (немцы, австрийцы, швейцарцы, бельгийцы, голландцы). При этом с самого начала пангерманизм требовал не просто солидарности наций, а расширения пространства за их счет4.
Проведение активной колониальной политики было едва ли не самым главным требованием пангерманцев, зафиксированным во всех принципиальных программных заявлениях. В самом его названии, заимствованном из «Немецкой военной песни» 1841 г., фиксировалась конечная цель деятельности союза – достижение всеобщего единства немцев, живущих как в пределах имперских границ, так и немцев за пределами рейха. Эта цель, по мнению А. Крука, придавала особый патриотический окрас любым направлениям деятельности пангерманцев5.
Исследователи Пангерманского союза обращают внимание на организационную деталь, которая придавала любым официальным заявлениям его лидеров специфический окрас. Даже в качестве «национальной оппозиции» Пангерманский союз оставался ассоциативным непарламентским объединением. Воздерживаясь от партийности и классовых различий, Пангерманский союз занял ту социальную нишу, в которой существовали разрозненные ассоциации, клубы и ферейны, членами которых были представители образованной и обеспеченной прослойки немецкого общества (Besitz und Bildung). Деятельность Пангерманского союза была напрямую связана с тем, чтобы при помощи создаваемого и направляемого им общественного мнения оказывать влияние на политическую повестку правительства и парламента, выведя ее за рамки монархических или партийных интересов и придав общенациональную окраску. Как отмечают исследователи, амбиции Пангерманского союза соответствовали потребностям лишенного прямого доступа к принятию политических решений класса чиновников, предпринимателей и патриотически настроенной интеллигенции нового поколения, становление которого пришлось на время после образования рейха6.
Напечатанный на пишущей машинке и хранящейся в Федеральном архиве Германии текст меморандума Г. Класса с эскизами двух карт7, предназначался и был разослан руководящему составу накануне первого с начала войны съезда Пангерманского союза в Берлине 28 августа 1914 г.8 После одобрения съездом было принято решение о его публикации, организовать которую взялся мюнхенский издатель и член Пангерманского союза Юлиус Фридрих Леман (1864–1935). В начале сентябре 1914 г. в его типографии был отпечатан текст меморандума, который не сразу и не официально, но все же был разослан государственным служащим, высшему военному командованию и членам императорской семьи от имени самого Г. Класса9. Позже меморандум был переиздан в 1917 г. под общим названием «О германской военной цели»10. Примечательно, что сентябрьское издание 1914 г. предполагалось распространить быстро по предложенному Ю.Ф. Леманом плану с использованием хотя и дорогостоящей, но «лучшей немецкой тонкой бумаги для рассылки двойным закрытым письмом»11. Историк А. Крук обращает внимание, что его рассылка в сентябре была отложена до октября по причине отступления 2-й армии генерала Карла фон Бюлова (1846–1921) и вызванного этим «общего упадка настроения»12. После распространения письмами первых 2000 экземпляров меморандума13 его дальнейшая публикация оказалась невозможной из-за запрета и конфискации. Она возобновилась только лишь в 1917 г., когда запрет был снят, отчего текст меморандума стал расходиться «как горячие пирожки»14.
«Меморандум Класса», по сути, отражал главные мысли опубликованной им под псевдонимом Даниэль Фриман брошюры «Если бы я был императором»15. В ней Г. Класс описал проект создания под руководством Германии и Австро-Венгрии «Срединной Европы» с германизированными, «зачищенными» для «заселения немцами» территориями16, что отразилось в тексте меморандума17. Опубликованная в 1917 г. версия меморандума оказалась во многом идентична версии 1914 г., за исключением требований, касающихся Польши. Г. Класс пересмотрел их в 1916 г., опубликовав свое видение «польского вопроса» на страницах «Пангерманских листков» (Alldeutsche Blätter)18. В первой редакции меморандума 1914 г. говорилось о том, чтобы посредством аннексии пограничных с Германией территорий других государств на западе и востоке создать резервный земельный фонд из территорий свободных от людей (Land frei von Menschen), находящийся в распоряжении императора и предназначенный для будущего заселения немцами19. В статьях, опубликованных в пангерманской прессе в 1916 г., Г. Класс настаивает уже на «присоединении всей Польши»20, однако с сохранением ее формальной государственности внутри Германской империи как «подзащитного государства» (Schutzstaat), «упорядоченного» с точки зрения управления и «без какого бы то ни было голоса в немецком рейхстаге»21. Речь шла о том, чтобы прочно привязать Польшу к Германии посредством контроля над ее военной, транспортной и экономической системой, хотя отмечалась необходимость предоставления ей самостоятельности для внутренней организации и решения социальных проблем.
Вероятнее всего, изменение позиции Г. Класса по польскому вопросу было связано с пропагандой антинемецких настроений со стороны российского министра иностранных дел С.Д. Сазонова (1860–1927), обещавшего полякам добиваться широкой автономии для Царства Польского. Разговоры о широкой автономии Польши под покровительством российского императора, встреченные большой симпатией со стороны польских национал-демократов, велись совершенно открыто после соответствующего воззвания Великого князя Николая Николаевича (1856–1929) в самом начале войны. Сам министр, правильно уловивший настроения поляков, надеялся инициировать широкое выступление за линией фронта: «Разочарование и тревога поляков после очищения нами Царства Польского и занятия немцами Варшавы достигли крайней степени. Многие из них изверились в нашей способности защитить их от натиска германцев и даже в нашем желании сделать что-либо, чтобы вознаградить их за подъем духа, с которым они стали под наши знамена для общей борьбы против немцев, и за те тяжелые нравственные и материальные жертвы, которые выпали на долю Польши с первых же дней войны. Я не сомневался, что германское и австро-венгерское правительства используют это положение в ущерб России путем лживых обещаний, на самом же деле для более или менее скрытого присоединения польских земель, лежавших по ту сторону их границ»22.
Пересмотр Г. Классом «польского вопроса» в 1916 г. был связан еще и с изменившимися политическими обстоятельствами, а точнее с планами Центральных держав по созданию Польского королевства (1916–1918). Решительная позиция Г. Класса о присоединении Польши была направлена на то, чтобы предложить обществу официальную и быструю реакцию Пангерманского союза, отвергая иные, более умеренные и компромиссные версии, о которых позднее вспоминал министр иностранных дел Австро-Венгрии О. Чернин (1872–1932). Речь, по мнению министра, велась как минимум о трех разных вариантах: во-первых, о присоединении Польши к Австро-Венгрии на правах австрийской провинции или самостоятельного государства при условии учреждения «триалистической монархии», во-вторых, совместном с Германией управлении Польским королевством с правом Германии на «львиную долю» его территорий и, в-третьих, о создании независимой Польши при условии отторжения большей части ее территорий в пользу Германии и Австро-Венгрии23. Уже тогда, еще до подписания Акта 5 ноября 1916 г. о создании Польского королевства, Г. Класс выступил с решительным заявлением о необходимости присоединения всей Польши к Германии.
Необходимость присоединения польских земель к Германии и расширения ее европейских территорий стали основой меморандума Г. Класса, обычно упоминаемого в связи с военными целями Пангерманского союза. Однако специфическим и мало изученным в историографии остается вопрос о подготовке этих целей. Чаще всего о них говорится относительно экспансионистских теорий Ф. Ратцеля, О.Р. Танненберга, К. Хаусхофера24 или пангерманских публикаций в прессе о целях войны25, которые изучены достаточно подробно, в то время как индивидуальные и групповые восприятия еще остаются в фокусе внимания историков.
Описанные выше события, связанные с подготовкой и созданием «Меморандума Класса», так или иначе, уже стали предметом изучения историков. О военных целях Пангерманского союза и формировании соответствующего общественного мнения писал сам Г. Класс в первой части своих воспоминаний, опубликованных еще при его жизни.
В целом, мемуары Г. Класса, осуществлявшего общее руководство Пангерманским союзом с 1908 по 1939 г., доведены до 1936 г. Они состоят из двух опубликованных частей. Первая, названная автором «Против течения. О развитии и росте национальной оппозиции в старой империи», была опубликована в 1932 г. в Лейпциге26. Она включает пять глав и охватывает события с 1868 до начала 1915 г.: 1) «Юношеские годы с 1868 по 1894 г.»; 2) «Политическая деятельность вплоть до съезда в Плауэне с 1894 по 1903 г.»; 3) «Заместитель председателя Пангерманского союза с 1903 по 1908 г.»; 4) «Последние довоенные годы с 1908 по 1914 г.»; 5) «Первые месяцы войны: с августа 1914 г. до начала 1915 г.».
Вторая часть воспоминаний не была опубликована при жизни Г. Класса, доставшись в наследство его дочери Анне Элизабет Класс (1898–1973). После оцифровки текста и микрофильмирования в Берлине воспоминания, названные «Мемуары советника юстиции Класса», в 1967 г. были переданы в Федеральный архив Германии. Публикация второго тома, дополненного другими документами из семейной коллекции, стала возможна в 2022 г. Он был назван «Политическими воспоминаниями председателя Пангерманского союза, 1915–1933/36 гг.»27. Редакционный комитет под руководством Б. Хофмайстера, опубликовавший воспоминания в серии «Источники по истории Германии XIX и XX вв.», снабдил более чем 1000-страничное издание подробными комментариями. Эта часть воспоминаний Г. Класса состоит из девяти глав: 1) «Война и политика военных целей в 1915–1916 гг.»; 2) «Военные и политические планы в 1916–1917 гг.»; 3) «Конец войны и Ноябрьская революция в 1917–1918 гг.»; 4) «В Веймарской республике в 1918–1919 гг.»; 5) «В Веймарской республике в 1919–1923 гг.»; 6) «В Веймарской республике в 1923–1924 гг.»; 7) «Пангерманская политика и Австрия в 1918–1931 гг.»; 8) «Между Веймарской республикой и смена власти в 1925–1933 гг.»; 9) «Заметки об отношении к Адольфу Гитлеру и НСДАП в 1920–1933 гг.».
Событиям военного времени в воспоминаниях Г. Класса уделено особое внимание, так как в мировоззрении председателя Пангерманского союза война стала не только главной движущей силой социальных процессов, но и средством преодоления глубокого разрыва между идеалом и реальностью28. Его представление о ней отражало общее видение Пангерманского союза. Война рассматривалась пангерманцами как средство достижения политических целей, так как сама по себе идея «Великой Германии» в конечном итоге могла быть реализована не за столом переговоров, а на поле боя29. Г. Класс с самого начала знал об этом, как и о том, что ни одно из соседних государств не захочет добровольно отказаться от своих суверенных прав. Только война должна была доказать право сильнейшего на выживание, что в целом соответствовало социал-дарвинистскому учению, развиваемому пангерманцами и их единомышленниками30. Война казалась «биологической необходимостью, регулятором жизни человечества, без которого нельзя было обойтись. Война была основой всего сущего и знанием, открытым мудрецам древности задолго до Дарвина. Это сущее возникло из борьбы, ведущейся по законам природы»31.
В опубликованной еще при жизни Г. Класса первой части мемуаров он описал предвоенную эйфорию, а также свое разочарование в связи с тем, что лично не смог принять участие в реальных боевых действиях. Поскольку до 1912 г. Г. Класс состоял в резерве как военный советник, то записавшись добровольцем в первые дни войны, из-за 46-летнего возраста и отсутствия боевого опыта был сразу рекомендован не на фронт, а в военное ведомство. Это обстоятельство заставило Г. Класса на время почувствовать себя ненужным32.
Переосмыслив свое предназначение, Г. Класс решил служить отечеству «с помощью пера»33. Под впечатлением успеха при Танненберге в конце августа 1914 г. и с ощущением скорейшей победы Г. Класс собрал съезд Пангерманского союза в Берлине 28 августа 1914 г., открыв его докладом о военных целях Германии34. После почти семичасовой дискуссии, последовавшей за его докладом, Г. Класс получил широкие полномочия единолично принимать решения и на свое усмотрение распоряжаться всеми ресурсами Пангерманского союза35. Одним из первых принятых съездом в Берлине решений стала резолюция о публикации меморандума и его скорейшей рассылке высокопоставленным немецким чиновникам.
Вторая часть мемуаров Г. Класса, опубликованная в 2022 г., содержит подробное описание подготовки и последующей редакции меморандума с учетом текущих военных действий. Г. Класс упомянул, что с предложением его составить к нему обратился редактор Alldeutsche Blätter, член правления Пангерманского союза и основатель филиала в Эрфурте Леопольд фон Фитингоф˗Шеель (1868–1946). Барон предложил расширить его текст за счет формулировок конкретных задач и вновь издать с уже опубликованным в 1903 г. докладом «Баланс нового курса», в котором тогда еще член исполнительного комитета Пангерманского союза Г. Класс призвал к ограничению парламентского представительства «враждебных» правительству партий, к запрету политического католицизма и социал-демократии36. Г. Класс согласился, тем более что новый текст можно было дополнить замечаниями к действовавшему тогда правительству Германии, поскольку со времен марокканских кризисов, продемонстрировавших всему миру бессилие немецких дипломатов, пангерманцы перешли к открытой правительственной критике, связав свою стратегию с формированием блока «национальной оппозиции»37. Однако, занимаясь подготовкой берлинского съезда Пангерманского союза в условиях войны, Г. Класс перепоручил составление текста члену правления и руководителю пангерманского филиала в Гисене Хансу фон Либигу (1874–1931)38. Вероятнее всего, Г. Класс просто не хотел привлекать к себе лишнего внимания после нашумевшей публикации брошюры «Если бы я был императором»39, содержавшей довольно язвительную критику монархии и правительства. Написанная под влиянием сильного эмоционального потрясения от победы социал-демократов в 1912 г., брошюра (под псевдонимом Даниэль Фриман) содержала не только критику правительства, но и требования решительных реформ, территориальной экспансии в Европе и сплочения немцев вокруг диктатора с чрезвычайными надконституционными полномочиями40.
Понимание, что новый текст будет все так же обличать политику рейхсканцлера Т. Бетман˗Гольвега (1856–1921)41, Г. Класс постарался отвести от себя какие бы то ни было подозрения. Результат оказался не совсем таким, как он того бы хотел. Рукопись университетского доцента Х. фон Либига на 200 страницах больше напоминала научное исследование, чем изложение целей Пангерманского союза. Под названием «Политика Бетман-Гольвега – исследование»42 она была издана несколько лет спустя. Из-за приближавшейся войны и августовского съезда в Берлине Г. Классу пришлось самостоятельно составить текст меморандума.
Описывая подготовку меморандума в своих воспоминаниях, Г. Класс ничего не упоминает о спорах с коллегами по руководству Пангерманским союзом в связи с формулировкой целей Германии в предстоящей войне. В Федеральном архиве Германии, где содержится неопубликованная документация Пангерманского союза, разные взгляды на цели демонстрирует переписка между Г. Классом, Ю.Ф. Леманом, П. Самассой и Т. Райсман-Гроне43. Предметом споров была война Германии на два фронта и определение статуса Австро-Венгрии.
Среди всех народов, проживавших за пределами Германской империи, пожалуй, положение австрийских немцев интересовало пангерманцев в первую очередь. Причины тому следует искать не только в том, что австрийские немцы проживали на границах славянского мира, постоянно нуждаясь в поддержке своего привилегированного статуса со стороны австрийской монархии, но и из уважения к тому, что пангерманизм как движение с целью великогерманского объединения возник именно в Австро-Венгрии. После Кёниггреца и объединения Германии по прусскому малогерманскому проекту возникший там вариант пангерманизма Г. фон Шёнерера (1842–1921) оказался в тупике. Военное поражение австрийцев, неудачи языковой политики44 и раскол австрийского пангерманского движения из-за арийского параграфа (Arierparagraph) Г. фон Шёнерера (1842–1921) привели к тому, что идея будущего европейского единства немцев переместилась в Германию. Признав «идейную разобщенность и кризис»45 пангерманизма в Австрии, немецкие пангерманцы единогласно признали Австрию самым важным «форпостом империи от наплыва славян», а ее спасение от славян, венгров и чехов – «делом первостепенной важности», включавшим «реорганизацию страны и изменения ее конституции» для подготовки к будущей аннексии Германией46.
Накануне войны Г. Класс не поддержал мнение Т. Райсман-Гроне, предостерегавшего от конфликта с Россией, но выступившего за присоединение к Германии Австро-Венгрии. Если в предстоящей войне Г. Класс видел в Австро-Венгрии единственного союзника, то Т. Райсман-Гроне предпочитал действовать одним германским государством. Он исходил из того, что, когда Австро-Венгрия аннексировала Боснию и Герцеговину в 1908 г., России был брошен вызов, который способствовал подъему антинемецких настроений. Сама аннексия спровоцировала раскол в внутри империи Габсбургов между австрийцами и чехами, а также между австрийцами и венграми. Поскольку внутренний кризис угрожал австрийским немцам, выход Т. Райсман-Гроне видел в том, что Германия введет войска в Австрию и присоединит ее, в чем он был един с венской группой пангерманцев Г. фон Шёнерера. Об этом плане должен был быть предупрежден рейхсканцлер, на имя которого предполагалось подать петицию. Такая петиция была составлена, но из-за споров внутри союза так и не была вручена адресату47.
Существенная часть воспоминаний Г. Класса посвящена рейхсканцлеру Т. Бетман-Гольвегу, отставки которого решили добиваться пангерманцы. Причина состояла в том, что осторожный и непоследовательный в своих действиях рейхсканцлер вовсе не подходил на роль военного диктатора, описанного председателем пангерманцев в уже упоминавшийся и растиражированной накануне войны брошюре «Если бы я был императором». Причину критики рейхсканцлера правыми З.К. Эггерт увязывает с противоречивостью его «политики диагонали», содержанием которой были постоянные компромиссы между правыми и левыми; как политик он был безоговорочно предан монархии, считая ее символом национального единства, но одновременно с этим Бетман-Гольвег верил и в возможности создания демократических структур власти48. Некоторые историки связывают критику пангерманцами рейхсканцлера и быстро начавшуюся эрозию доверия к его политике у разочарованной элиты с неспособностью Бетман-Гольвега внятно донести до нее свою программу военных целей, а также с нежеланием рейхсканцлера информировать общественность о реальном положении дел на фронте, чтобы не подорвать уверенность в победе49.
Хотя Г. Класс не называет истинную причину критики рейхсканцлера, ограничиваясь упоминанием его неспособности быть диктатором50 и заявлением о поиске пангерманцами военного генерала, способного таковым стать51, по тексту воспоминаний прослеживаются отдельные замечания: отсутствие политической воли, неудачная марокканская политика, попытка сближения с Великобританией, отказ рейхсканцлера от политических дискуссий в рейхстаге по вопросам подготовки к войне, введение превентивной военной цензуры, политика экономии военных ресурсов и ошибки с организацией продовольственного снабжения армии, намеренное затягивание войны, отказ от использования эффективных средств ведения войны и т.д. Одним из таких средств для пангерманцев, выступавших за скорейшее триумфальное завершение войны, являлись новейшие германские подводные лодки. Общее видение пангерманцев, на котором строилась их критика рейхсканцлера, фактически сформулировал вице-адмирал Андреас Михельсен (1869–1932) в рассуждениях о двойственном характере политики Т. Бетман-Гольвега: «Канцлер опасался энергичным вступлением наших лодок вызвать Англию на еще более суровые методы против немецкой торговли, не сознавая, очевидно, того, что это было неизбежным развитием плана войны; он боялся восстановить против Германии нейтральные державы – опасение, мало на чем основанное. Бетман даже не соглашался на предложение установить блокаду лодками побережья Франции, потому что таким актом, по его мнению, нарушалось снабжение Бельгии Америкой»52. Мнение вице-адмирала удивительно точно совпало с мнением самого Г. Класса: «Мы должны считать своими противниками тех, кто внутри или вне кабинетов препятствовал полному использованию наших самых эффективных средств ведения войны, поступая так либо из неуважения к общему мнению, либо из какого-то премудрого решения, что не следует провоцировать врага на крайности. Сколько раз мне приходилось слышать, что гордость Англии не должна уязвляться тем, что немцы стремятся к великой победе на море, – да, от чересчур умных людей также приходилось слышать, что и против Франции лучше не выступать так, чтобы это затрагивало их естественные национальные и этнические чувства»53.
Г. Класс отметил, что все пангерманцы были одинаково раздражены нежеланием рейхсканцлера с самого начала разыграть «военный козырь» и содействовать началу широкомасштабной подводной войны. В подтверждение этому Г. Класс описал встречу с историком и членом правления союза Дитрихом Шефером, с которым у него состоялся разговор о немецких подлодках у венского отеля «Империал»: «Я никогда прежде не видел этого спокойного фриза в таком возбуждении, как в тот раз. Провожая меня по ступенькам лестницы до комнаты, он возбужденно продолжал говорить о том, что …этим Бетман-Гольвег уничтожит Германию»54.
Заключая, что «Бетман-Гольвег должен уйти прочь!», Г. Класс сформулировал перед Пангерманским союзом задачу, которая состояла в том, чтобы любыми средствами довести до императора идею отставки рейхсканцлера и его замены военным диктатором П. Гинденбургом или Э. Людендорфом. При этом Г. Класс делал важную оговорку о том, что «император как благородный человек» никогда не допустит «публичного унижения государственного деятеля». В этой связи пангерманская пресса должна была донести до императора идею отставки прогнозами о том, что при Т. Бетман-Гольвеге война неизбежно окажется проигранной55.
В своих воспоминаниях о кануне и первых месяцах войны Г. Класс упоминает, что еще одной важной задачей для пангерманцев становится расширение контактов с ведущими чиновниками и генералитетом Германии и Австро-Венгрии56.
Одной из таких влиятельных персон стал князь Отто цу Зальм-Хорстмар (1867–1941), отставной офицер, член прусской палаты депутатов, второй президент Германского флотского союза (1901–1908), ставший после знакомства с Г. Классом членом Пангерманского союза. В воспоминаниях Г. Класс отметил, что знакомство, переросшее в дружбу, произошло по инициативе князя и после того, как тот одним из первых получил письмо с меморандумом председателя Пангерманского союза. Князь предложил Г. Классу встретиться лично и помочь с достижением отставки рейхсканцлера. План состоял в том, чтобы добиться аудиенции императора: «Князь осознал бесполезность Бетмана и министерства иностранных дел, опасаясь, что Германии и императору, которым он восхищался, будет нанесен вред (политикой рейхсканцлера. – А.Т.)»57.
На встрече в Берлине князь Зальм-Хорстмар заверил Г. Класса, что добьется аудиенции через императрицу. Ответ императрицы Августы Виктории (1858–1921), последовавший через несколько недель, «был полон трагического отказа»; «статная женщина» ответила тем, что «хорошо знает, как лояльны пангерманцы императору, как хорошо и без каких-либо скрытых мотивов они ведут свою борьбу исключительно ради отечества и дома Гогенцоллернов, что все в ее окружении настроены исключительно по-пангермански, однако даже с осознанием того, что поставлено на карту, она ничего не могла сделать, чтобы добиться аудиенции императора»58.
Несмотря на отказ императрицы, князь продолжил действовать с прежним энтузиазмом. Буквально за несколько дней он договорился о встрече с графом Филиппом цу Эйленбургом (1847–1921), удалившимся от двора после серии довоенных скандалов, но сохранившим дружбу императора и связи с высшей политической элитой. Согласившись принять и выслушать Зальм-Хорстмара, граф также отказал пангерманцам в помощи с аудиенцией59.
Энтузиазм князя Зальм-Хорстмара вдохновлял Г. Класса. На этот раз была высказана идея составления петиции от представителей крупной промышленности и высших армейских чинов. С ее помощью также следовало добиваться аудиенции императора. В отличие от устных договоренностей, в петиции требовалось было указать предмет будущего разговора, что могло повлиять на решение императора. Очень скоро она была составлена самим Г. Классом, начинаясь с того, что по убеждению высокопоставленных и влиятельных господ, обеспокоенных будущим отечества, настоящему положению германской монархии может быть нанесен значительный ущерб политикой рейхсканцлера. В числе тех, кто поставил свои подписи на петиции, были князь цу Зальм-Хорстмар, гросс-адмирал Э. фон Кнорр, тайный советник Д. Шефер, адмирал К.Ф. Грумме-Дуглас, промышленник Э. Кирдорф и др.60
После неудавшейся попытки высочайшей аудиенции с целью убедить монарха в необходимости отставки рейхсканцлера, весной 1915 г. Г. Класс сосредоточился на создании массового правого фронта – «Народного совета»61. Он должен был объединить влиятельные общественные организации, чтобы неполитическими методами добиться решения правительства о широкомасштабном применении подводных лодок, об использовании флота открытого моря, дирижаблей и бомбардировочных эскадрилий62. С этой целью Пангерманскому союзу предстояло выстроить отношения с руководством общественных объединений: председателем «Германского колониального общества» герцогом Иоганном Альбрехтом Мекленбургским (1887–1936), председателем «Флотского союза» адмиралом Гансом фон Кёстером (1844–1928), «отцом немецкого флота» гросс-адмиралом Альфредом фон Тирпицем (1849–1930), который с марта 1916 г. находился в отставке, проживая в своем имении Санкт-Блазиен в Баден-Вюртемберге.
На этом поприще пангерманцы также не добились успеха. Практически все руководители объединений отнеслись с сочувствием и пониманием к необходимости более активных действий на суше, море и в воздухе, но ответили отказом. Поездки Г. Класса по стране и личные встречи закончились тем, что идея открытого выступления против воли императора не нашла поддержки, так как расходилась с традиционными представлениями об офицерской чести (для Кёстера и Тирпица) или не соответствовала задачам объединений, которые исключали любое политическое участие63.
Гросс-адмирал со свойственной ему прямотой, хоть и сослался на расхождение взглядов с рейхсканцлером на методы ведения войны, все же высказал Г. Классу конкретные возражения личного характера по поводу плана создания «Народного совета». Г. Класс написал об этом так: «Сначала он объяснил, что политическая активность после отставки противоречила старой традиции прусских офицеров. Он вырос в этой традиции и придерживался ее. Что касается «Народного совета», о котором я говорил ему, то его участие могло быть воспринято как слишком очевидная попытка отмщения канцлеру»64.
Достижение военных целей Г. Класс связывал с навязчивой идеей отстранения рейхсканцлера и его заменой на военного диктатора, о чем он писал еще до войны и вновь повторил в своих воспоминаниях. Однако теперь речь шла не о личных качествах диктатора и его миссии, чему была посвящена целая глава Kaiserbuch65 – так сам Г. Класс называл свой довоенный труд «Если бы я был императором», – а о содержании его полномочий66 и поиске конкретного человека. Придя к пониманию, что такого человека следовало искать среди военных генералов, Г. Класс начал действовать с военного министра Германа фон Штейна (1854–1927), имевшего боевой опыт командования. Во время встречи с министром, к удивлению Г. Класса, тот не только сослался на «отсутствие интереса к политике», но и дал председателю Пангерманского союза отвод за всех генералов сразу: «Я не знаю ни одного прусского генерала, который мог бы стать диктатором. Я думаю, что могу ответить почти за всех генералов, что мы просто выполняем свой солдатский долг и никогда не занимаемся политикой»67. Г. Класс был крайне удручен отказом: «Самое ужасное, что военный министр, должность которого требовала политики, политики и еще раз политики в дополнение к его очевидной работе, заявил о своей явной неприязни к ней»68.
Отказ генерала и военного министра поддержать не только план диктатуры, но и цели пангерманцев объяснялся расхождением в их понимании. Пангерманцы настаивали на приоритетности расширении территорий для немецкой колонизации по всему периметру границ и удовлетворения потребностей немецкой промышленности во французской руде, в то время как военным чинам важно было сохранить и по возможности обеспечить концентрацию армии в местах активного военного противостояния69.
Дальше последовала встреча с Фридрихом фон Бернгарди (1849–1930), с которым Г. Класс познакомился за несколько месяцев до начала войны. Обсудив опубликованную до войны и «вызвавшую всеобщий ажиотаж» книгу Ф. Бернгарди о современной войне70, оба сошлись на необходимости отстранения рейхсканцлера. Ф. Бернгарди, ставший личным другом Г. Класса и вступивший в Пангерманский союз71, дал подробную характеристику на многих военных, которые, по его мнению, могли бы подойти на роль диктатора. В качестве кандидата, на котором позже сошлись пангерманцы, был выбран кавалерийский генерал барон Герман фон Фитингхоф (1851–1933), служивший заместителем командующего вторым армейским корпусом в Штеттине. Г. Класс дал генералу такую характеристику: «Человек, обладавший всеми качествами диктатора; этому выдающемуся офицеру пришлось внезапно остаться дома, потому что тяжелое ревматическое заболевание сделало его непригодным для военной службы, но в остальном он был физически здоров, обладал замечательной умственной силой, превосходным чутьем, верными суждениями и упорной энергией в великих традициях, в которых он вырос. Если бы нам удалось провести идею диктатуры с императором, тогда он был бы тем человеком, который смог бы это сделать»72.
Главным препятствием на пути диктатуры вновь стал рейхсканцлер. К 1916 г. Т. Бетман-Гольвег, несомненно, знал о планах пангерманцев по дискредитации политики правительства с его последующим смещением. Подтверждением этому является публикация в сентябре 1916 г. меморандума советника рейхсканцлера Курта Рицлера (1882–1955) с запоздалым разъяснением целей правительства в ответ на критику Пангерманского союза73. Помимо оправдания действий рейхсканцлера, советник упомянул, что «27 июля в одной из башен Изарских ворот в Мюнхене состоялось конфиденциальное совещание пангерманцев, на котором председатель сообщил, что различные попытки добраться до Его Величества через посредников с целью защитить его от пагубной политики рейхсканцлера потерпели неудачу. Поэтому для достижения цели было решено разжечь земельный партикуляризм. Этот путь был назван опасным и не прямым, хотя и соответствующим настоящим интересам отечества. Затем председатель вынес на чтение петицию, в которой земли империи информировались о финансовой опасности, грозившей им в том случае, если война не будет окончена в интересах пангерманцев крупными завоеваниями»74.
Вероятнее всего, придание огласки ближайшим планам пангерманцев затруднило их общение с представителями монархии и осложнило попытки действовать через депутатов Баварии. После неудачи связаться с императором, министрами и промышленной элитой Г. Класс пришел к пониманию легитимных путей достижения желаемой отставки рейхсканцлера с участием депутатов представительных органов государственной власти. По инициативе графа Каспара Прайзинга (1880–1918), члена рейхсрата от Баварии, был составлен план коллективной обструкции и подачи петиции на имя императора от имперских сенаторов. В течение всего 1916 г. К. Прайзинг активно действовал в рейхсрате, пока обстоятельства объективно не сложились в пользу пангерманцев к лету 1917 г. Парламентская критика слева и справа, а также ультиматум авторитетного военного чиновника из Генштаба 1-го генерал-квартирмейстера Э. Людендорфа привели к желаемой отставке рейхсканцлера 13 июля 1917 г.
Несмотря на то что преемники Т. Бетман-Гольвега – юрист Г. Михаэлис (1857–1936) и «изношенный старик»75 Г. фон Гертлинг (1843–1919) – также не соответствовали представлениям Г. Класса о сильной личности, способной реализовать военные цели Пангерманского союза, от активных действий после востребованной пангерманцами отставки рейхсканцлера в 1917 г. им пришлось отказаться. Это было вызвано отсутствием финансовых средств, продовольственной экономией и участием членов филиалов Пангерманского союза в боевых действиях на военных фронтах. Уже в 1918 г. Г. Класс был вынужден перебраться с семьей из Майнца в Вюрцбург; в его распоряжении не было ни еды, ни лекарств. Даже рурский магнат и член правления союза Э. Кирдорф не мог найти угля для отопления штаб-квартиры в Майнце, куда незадолго до этого она была перенесена из Берлина. Нехватка угля для отопления повсеместно приводила к ограничению собраний, что сделало для пангерманцев актуальными вопросы физического выживания76.
История радикального национализма в имперской Германии, основанного на территориальной экспансии и этнической однородности немцев в пределах расширенных европейских границ страны, в историографии традиционно рассматривается вместе с деятельностью Пангерманского союза. Более того, с точки зрения мобилизационных ресурсов и возможностей пангерманская идеология часто преподносится в связи с тем определяющим влиянием, которое она оказала на национал-социалистическое движение. Этот тезис вряд ли можно оспорить, учитывая, что националистическая мобилизация в конце XIX – начале ХХ в. была реакцией на быстрые социально-экономические изменения, политический подъем левых и желание восходящей элиты из среднего класса (Bildungsbürgertum) получить доступ к власти. Пангерманский союз действительно сыграл важную роль в радикализации националистических народнических ассоциаций накануне Первой мировой войны, поскольку его требования политической и культурной однородности, а также территориальной экспансии пользовались большой популярностью в немецком обществе.
Однако Пангерманский союз, вопреки сложившемуся в историографии мнению, не был ни всемогущим, ни автономным. Ему не удалось организовать общий националистический фронт правых сил и повлиять на процесс принятие политических решений, хотя начавшаяся европейская война вселяла в пангерманцев надежду на реализацию собственных утопических планов. Культурное и политическое единство, территориальная экспансия, создание Серединной Европы из номинально независимых государств под контролем Германии – все это казалось вполне достижимым.
Воспоминания председателя Пангерманского союза Г. Класса показывают, что непарламентский статус общества, разногласия в числе его руководства, отсутствие прочных организационных основ взаимодействия между правыми националистическими силами, а также неудачи военного времени травмировали пангерманцев, усугубив их чувство политической и социальной неустроенности. Война нанесла большой урон финансовым ресурсам Пангерманского союза и отняла жизни многих его членов. Исчерпание финансовых возможностей пангерманцев подорвало их стремление говорить от имени всего немецкого народа, а также заставило отказаться от части территориальных претензий. Методы убеждения монархии в необходимости учреждения временной диктатуры военных, как и попытки оказать влияние на саму военную элиту Германии, которая практически с самого начала войны создала параллельную систему управления, оттеснив гражданскую администрацию с канцлером, так же ни к чему не привели. Однако, несмотря на неудачи и объективные условия отставки рейхсканцлера, агитация пангерманцев достигла цели, спровоцировав кризис общественного доверия лично Т. Бетман-Гольвегу, а их попытки распространить в обществе мысли о диктатуре, вдохновляемые Г. Классом, позволили «кристаллизоваться будущему мифу о фюрере»77.
1 Цит. по: Фишер Ф. Рывок к мировому господству. Политика военных целей кайзеровской Германии в 1914–1918 гг. / пер. с нем. Л.В. Ланника. М., 2017. С. 122.
2 Hering R. Konstruierte Nation. Der Alldeutsche Verband 1890–1939. Hamburg, 2003. S. 457.
3 Цимбаев К.Н. «Великая Германия»: Формирование немецкой национальной идеи накануне Первой мировой войны. М., 2017. С. 178.
4 Snyder L. Macro-Nationalisms: A History of the Pan-Movements. London, 1984. P. 5−8.
5 Kruck A. Geschichte des Alldeutschen Verbandes 1890−1939. Wiesbaden, 1954. S. 223.
6 Wertheimer M. The Pan-German League. New York, 1923; Chickering R. We Men Who Feel Most German: A Cultural Study of the Pan-German League, 1886−1914. Boston, 1984; Blackbourn D., Eley G. Peculiarities of German History. Bourgeois Society and Politics in Nineteenth-Century Germany. Oxford; New York, 1984; Hofmeister B. Between Monarchy and Dictatorship: Radical Nationalism and Social Mobilization of the Pan-German League, 1914–1939: Ph. D. (History) Thesis. Washington (DC), 2012; Вырупаева А.П. Скованные одной цепью: патриотическое движение в Германии до и после Первой мировой войны // Pax Britannica: история британской империи и созданного ею мира: сборник научных работ к 60-летию профессора В.В. Грудзинского. Челябинск, 2016. С. 183–198; Киктева Е.В. Политическая повседневность общественной организации в Германии начала XX в.: на примере Германского флотского союза // Будущее нашего прошлого: история повседневности и повседневность историка: материалы Международной научной конференции, Москва, 27 ноября 2020 года. М., 2021. С. 54–62.
7 Bundesarchiv. R 8048: Alldeutscher Verband, 1891–1939. Bd. 633: Denkschrift von Heinrich Claß (Dezember 1914). Bl. 111–183.
8 Kruck A. Op. cit. P. 72.
9 Claß H. Denkschrift betreffend die national-, wirtschafts-, und sozialpolitischen Ziele des deutschen Volkes im gegenwärtigen Kriege. München, 1914.
10 Claß H. Zum deutschen Kriegsziel. Eine Flugschrift von Heinrich Claß. München, 1917.
11 Claß H. Politische Erinnerungen des Vorsitzenden des Alldeutschen Verbandes 1915–1933/36.Deutsche Geschichtsquellen des 19. und 20. Jahrhunderts (DGQ). Bd. 79. Berlin, 2022. S. 118–119.
12 Kruck A. Op. cit. P. 72.
13 Claß H. Wider den Strom. Vom Werden und Wachsen der nationalen Opposition im alten Reich. Leipzig, 1932. S. 309.
14 Spät R. Die “polnische Frage” in der öffentlichen Diskussion im Deutschen Reich, 1894–1918. Marburg, 2014. S. 214.
15 Frymann D. [Claß H.] Wenn ich der Каiser wäre. Politische Wahrheiten und Notwendigkeiten. Leipzig, 1912.
16 Ibid. P. 8, 95–97.
17 Claß H. Denkschrift... S. 249.
18 Claß H. Grundsätzliches zur polnischen Frage // Mitteilungen des Alldeutschen Verbandes. 1916. № 21. S. 185–188; Idem. An der Schwelle eines neuen Polen // Mitteilungen des Alldeutschen Verbandes. 1916. № 46. S. 433–436.
19 Claß H. Denkschrift… S. 31, 43–48.
20 Claß H. Grundsätzliches… S. 185–188.
21 Claß H. Wider den Strom... S. 320–327.
22 Сазонов С.Д. Воспоминания. Париж, 1927. C. 381.
23 Чернин О. В дни мировой войны. Мемуары министра иностранных дел Австро-Венгрии. СПб., 2005. С. 222–234.
24 Hartwig E. Zur Politik und Entwicklung des Alldeutschen Verbandes von seiner Gründung bis zum Beginn des ersten Weltkrieges (1891–1914): Diss. zur Erlangung des Doktorgrades, masch. Jena, 1966; Peters M. Der Alldeutsche Verband am Vorabend des Ersten Weltkrieges (1908–1914). Ein Beitrag zur Geschichte des Völkischen Nationalismus im spätwilhelminischen Deutschland. Frankfurt a.M., 1992; Hering R. Op. cit.; Müller T. Imaginierter Westen. Das Konzept des “deutschen Westraums“ im völkischen Diskurs zwischen Politischer Romantik und Nationalsozialismus. Bielefeld, 2009.
25 Hofmeister B. Radikaler Nationalismus und politische Öffentlichkeit. Der Alldeutsche Verband und die Alldeutschen Blätter // Krisenwahrnehmungen in Deutschland um 1900. Zeitschriften als Foren der Umbruchszeit im Wilhelminischen Deutschland / Hrsg. M. Grunewald, U. Puschner. Bern, 2010. S. 263–279; Турыгин А.А. Газета «Пангерманские листки» – печатный орган Пангерманского союза // Новая и новейшая история. 2013. № 5. С. 165–169.
26 Claß H. Wider den Strom... S. 309.
27 Claß H. Politische Erinnerungen...
28 Leicht J. Heinrich Claß 1868–1953. Die politische Biographie eines Alldeutschen. Paderborn, 2012. S. 179.
29 Hartwig E. Op. cit. Р. 29.
30 Bernhardi F. von. Deutschland und der nächste Krieg. Stuttgart; Berlin, 1913. S. 9–37.
31 Ibid. Р. 11–12.
32 Claß H. Wider den Strom... S. 306–307.
33 Leicht J. Op. cit. P. 181.
34 Claß H. Wider den Strom... S. 318.
35 Ibid. P. 343.
36 Claß H. Die Bilanz des neuen Kurses: Vortrag; gehalten auf dem Alldeutschen Verbandstag in Plauen am 12. Sept. 1903. Berlin, 1903.
37 Hering R. Op. cit. Р. 124–138.
38 Claß H. Politische Erinnerungen… S. 117–118.
39 Frymann D. Op. cit.
40 Ibid. Р. 74–78.
41 Jarausch K. Jacobmeyer W., Steininger R. Die Alldeutsche und die Regierung Bethmann Hollweg // Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte. 1973. № 21. S. 435–468.
42 Liebig H von. Die Politik von Bethmann-Hollweg. Eine Studie in 3 Teilen. München, 1917.
43 Bundesarchiv. R 8048: Alldeutscher Verband, 1891–1939. Bd. 448: Bündnispflicht gegenüber Österreich und zu Rußland; Auseinandersetzung über Veröffentlichung der alldeutschen Kriegsziele. Bl. 16–24.
44 Ратнер Н.Д. Очерки по истории пангерманизма в Австрии в конце XIX в. М., 1970. С. 102–120.
45 Alldeutscher Verbandstag in Leipzig // Zwanzig Jahre alldeutscher Arbeit und Kämpfe. Leipzig, 1910. S. 92–96.
46 Ibid. P. 94.
47 Frech S. Wegbereiter Hitlers? Theodor Reismann-Grone. Biographie eines völkischen Nationalisten (1863–1949). Paderborn, 2009. S. 210.
48 Эггерт З.К. Борьба классов и партий в Германии в годы первой мировой войны. (Август 1914 – октябрь 1917). М., 1957. С. 399.
49 Jarausch K., Jacobmeyer W., Steininger R. Op. cit. Р. 445.
50 Claß H. Politische Erinnerungen... S. 114–116.
51 Ibid. P. 115.
52 Михельсен А. Подводная война 1914–1918 гг. М.; Л., 1940. С. 35.
53 Claß H. Politische Erinnerungen... S. 113.
54 Ibid. P. 126–127.
55 Ibid. P. 113–116.
56 Ibid. P. 126.
57 Ibid. P. 138–139.
58 Ibid. P. 146–147.
59 Ibid. P. 148–149.
60 Ibid. P. 151–153.
61 Ibid. P. 179.
62 Ibid. P. 185.
63 Ibid. P. 181.
64 Ibid. P. 188.
65 Frymann D. Op. cit. P. 230–235.
66 Под диктатурой Г. Класс понимал исключительную должность, учрежденную императором для формирования правительства с прямым доступом ко всем государственным учреждениям; «символ репутации государства»: Claß H. Politische Erinnerungen… S. 196.
67 Ibid. P. 193.
68 Ibid. P. 195.
69 Ланник Л.В. Германская военная элита периода Великой войны и революции и «русский след» в ее развитии. Саратов, 2012. С. 137.
70 Бернгарди Ф. фон. Современная война: в 2-х т. СПб., 1912.
71 Claß H. Politische Erinnerungen... S. 201.
72 Ibid. S. 197.
73 Riezler K. Aufzeichnung über die Umtriebe der Alldeutschen vom 15. September 1916 // Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte. 1973. № 21. S. 452–468.
74 Ibid. P. 454.
75 Патрушев А.И. Германские канцлеры от Бисмарка до Меркель. М., 2009. С. 116.
76 Claß H. Politische Erinnerungen... S. 453–499.
77 Bracher K. D. Die Deutsche Diktatur: Entstehung, Struktur, Folgen des Nationalsozialismus. Köln, 1969. S. 20.
About the authors
Alexander A. Turygin
Kostroma State University
Author for correspondence.
Email: aturigin@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-0758-6422
Scopus Author ID: 57219485475
ResearcherId: Y-3378-2018
Cand. Sci. (Hist.), Associate Professor
Russian Federation, KostromaReferences
- Бернгарди Ф. фон. Современная война: в 2-х т. СПб., 1912.
- Вырупаева А.П. Скованные одной цепью: патриотическое движение в Германии до и после Первой мировой войны // Pax Britannica: история британской империи и созданного ею мира: сборник научных работ к 60-летию профессора В.В. Грудзинского. Челябинск, 2016. С. 183–198.
- Киктева Е.В. Политическая повседневность общественной организации в Германии начала XX в.: на примере Германского флотского союза // Будущее нашего прошлого: история повседневности и повседневность историка: материалы Международной научной конференции, Москва, 27 ноября 2020 года. М., 2021. С. 54–62.
- Ланник Л.В. Германская военная элита периода Великой войны и революции и «русский след» в ее развитии. Саратов, 2012.
- Михельсен А. Подводная война 1914–1918 гг. М.; Л., 1940.
- Патрушев А.И. Германские канцлеры от Бисмарка до Меркель. М., 2009.
- Ратнер Н.Д. Очерки по истории пангерманизма в Австрии в конце XIX в. М., 1970.
- Сазонов С.Д. Воспоминания. Париж, 1927.
- Турыгин А.А. Газета «Пангерманские листки» – печатный орган Пангерманского союза // Новая и новейшая история. 2013. № 5. С. 165–169.
- Фишер Ф. Рывок к мировому господству. Политика военных целей кайзеровской Германии в 1914–1918 гг. / пер. с нем. Л.В. Ланника. М., 2017.
- Цимбаев К.Н. «Великая Германия»: Формирование немецкой национальной идеи накануне Первой мировой войны. М., 2017.
- Чернин О. В дни мировой войны. Мемуары министра иностранных дел Австро-Венгрии. СПб., 2005.
- Эггерт З.К. Борьба классов и партий в Германии в годы первой мировой войны. (Август 1914 – октябрь 1917). М., 1957.
- Berngardi F. fon. Sovremennaia voina [Modern War]: v 2˗kh t. Sankt-Peterburg, 1912. (In Russ.)
- Chernin O. V dni mirovoi voiny. Memuary ministra inostrannykh del Avstro-Vengrii [In the days of the World War. Memoirs of the Minister of Foreign Affairs of Austria-Hungary]. Sankt-Peterburg, 2005. (In Russ.)
- Eggert Z.K. Bor’ba klassov i partii v Germanii v gody pervoi mirovoi voiny. (Avgust 1914 – oktiabr’ 1917) [The struggle of classes and parties in Germany during the First World War. (August 1914 – October 1917)]. Moskva, 1957. (In Russ.)
- Fisher F. Ryvok k mirovomu gospodstvu. Politika voennykh tselei kaizerovskoi Germanii v 1914–1918 gg. [A leap to world domination. The policy of military goals of Kaiser’s Germany in 1914–1918] / per. s nem. L.V. Lannika. Moskva, 2017. (In Russ.)
- Kikteva E.V. Politicheskaia povsednevnost’ obshchestvennoi organizatsii v Germanii nachala XX v.: na primere Germanskogo flotskogo soiuza [The political everyday life of a public organization in Germany at the beginning of the 20th century: on the example of the German Naval Union] // Budushchee nashego proshlogo: istoriia povsednevnosti i povsednevnost’ istorika: materialy Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, Moskva, 27 noiabria 2020 goda [The Future of our past: the history of everyday life and the everyday life of a historian: materials of an International scientific conference, Moscow, November 27, 2020]. Moskva, 2021. S. 54–62. (In Russ.)
- Lannik L.V. Germanskaia voennaia elita perioda Velikoi voiny i revoliutsii i “russkii sled” v ee razvitii [The German military elite of the Great War and Revolution period and the “Russian trace” in its development]. Saratov, 2012. (In Russ.)
- Mikhel’sen A. Podvodnaia voina 1914–1918 gg. [The Submarine War of 1914–1918]. Moskva; Leningrad, 1940. (In Russ.)
- Patrushev A.I. Germanskie kantslery ot Bismarka do Merkel’ [German Chancellors from Bismarck to Merkel]. Moskva, 2009. (In Russ.)
- Ratner N.D. Ocherki po istorii pangermanizma v Avstrii v kontse XIX v. [Essays on the history of Pan-Germanism in Austria at the end of the 19th century]. Moskva, 1970. (In Russ.)
- Sazonov S.D. Vospominaniia [Memoirs]. Paris, 1927. (In Russ.)
- Tsimbaev K.N. “Velikaia Germaniia”: Formirovanie nemetskoi natsional’noi idei nakanune Pervoi mirovoi voiny [“Great Germany”: Formation of the German national idea on the eve of the First World War]. Moskva, 2017. (In Russ.)
- Turygin A.A. Gazeta “Pangermanskie listki” – pechatnyi organ Pangermanskogo soiuza [The newspaper “Pan-German leaflets” – the printing organ of the Pan-German Union] // Novaya i Novejshaya Istoriya [Modern and Contemporary History]. 2013. № 5. S. 165–169. (In Russ.)
- Vyrupaeva A.P. Skovannye odnoi tsep’iu: patrioticheskoe dvizhenie v Germanii do i posle Pervoi mirovoi voiny [Chained together: the patriotic movement in Germany before and after the First World War] // Pax Britannica: istoriia britanskoi imperii i sozdannogo eiu mira: sbornik nauchnykh rabot k 60-letiiu prof. V.V. Grudzinskogo [Pax Britannica: the History of the British Empire and the world created by it: a collection of scientific papers for the 60th anniversary of Professor V.V. Grudzinsky]. Cheliabinsk, 2016. S. 183–198. (In Russ.)
- Bernhardi F. von. Deutschland und der nächste Krieg. Stuttgart; Berlin, 1913. S. 9–37.
- Blackbourn D., Eley G. Peculiarities of German History. Bourgeois Society and Politics in Nineteenth-Century Germany. Oxford; New York, 1984.
- Bracher K.D. Die Deutsche Diktatur: Entstehung, Struktur, Folgen des Nationalsozialismus. Köln, 1969.
- Chickering R. We Men Who Feel Most German: A Cultural Study of the Pan-German League, 1886−1914. Boston, 1984.
- Claß H. An der Schwelle eines neuen Polen // Mitteilungen des Alldeutschen Verbandes. 1916. № 46. S. 433–436.
- Claß H. Denkschrift betreffend die national-, wirtschafts-, und sozialpolitischen Ziele des deutschen Volkes im gegenwärtigen Kriege. München, 1914.
- Claß H. Die Bilanz des neuen Kurses: Vortrag; gehalten auf dem Alldeutschen Verbandstag in Plauen am 12. Sept. 1903. Berlin, 1903.
- Claß H. Grundsätzliches zur polnischen Frage // Mitteilungen des Alldeutschen Verbandes. 1916. № 21. S. 185–188.
- Claß H. Politische Erinnerungen des Vorsitzenden des Alldeutschen Verbandes 1915–1933/36.Deutsche Geschichtsquellen des 19. und 20. Jahrhunderts (DGQ). Bd. 79. Berlin, 2022.
- Claß H. Wider den Strom. Vom Werden und Wachsen der nationalen Opposition im alten Reich. Leipzig, 1932.
- Claß H. Zum deutschen Kriegsziel. Eine Flugschrift von Heinrich Claß. München, 1917.
- Frech S. Wegbereiter Hitlers? Theodor Reismann-Grone. Biographie eines völkischen Nationalisten (1863–1949). Paderborn, 2009.
- Frymann D. [Claß H.] Wenn ich der Каiser wäre. Politische Wahrheiten und Notwendigkeiten. Leipzig, 1912.
- Hartwig E. Zur Politik und Entwicklung des Alldeutschen Verbandes von seiner Gründung bis zum Beginn des ersten Weltkrieges (1891–1914): Diss. zur Erlangung des Doktorgrades, masch. Jena, 1966.
- Hering R. Konstruierte Nation. Der Alldeutsche Verband 1890–1939. Hamburg, 2003.
- Hofmeister B. Between Monarchy and Dictatorship: Radical Nationalism and Social Mobilization of the Pan-German League, 1914–1939: Ph. D. (History) Thesis. Washington (DC), 2012.
- Hofmeister B. Radikaler Nationalismus und politische Öffentlichkeit. Der Alldeutsche Verband und die Alldeutschen Blätter // Krisenwahrnehmungen in Deutschland um 1900. Zeitschriften als Foren der Umbruchszeit im Wilhelminischen Deutschland / Hrsg. M. Grunewald, U. Puschner. Bern, 2010. S. 263–279.
- Jarausch K., Jacobmeyer W., Steininger R. Die Alldeutsche und die Regierung Bethmann Hollweg // Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte. 1973. № 21. S. 435–468.
- Kruck A. Geschichte des Alldeutschen Verbandes. Wiesbaden, 1954.
- Leicht J. Heinrich Claß 1868–1953. Die politische Biographie eines Alldeutschen. Paderborn, 2012.
- Liebig H. von. Die Politik von Bethmann-Hollweg. Eine Studie: in 3 Teilen. München, 1917.
- Müller T. Imaginierter Westen. Das Konzept des “deutschen Westraums” im völkischen Diskurs zwischen Politischer Romantik und Nationalsozialismus. Bielefeld, 2009.
- Peters M. Der Alldeutsche Verband am Vorabend des Ersten Weltkrieges (1908–1914). Ein Beitrag zur Geschichte des völkischen Nationalismus im spätwilhelminischen Deutschland. Frankfurt a.M., 1992.
- Riezler K. Aufzeichnung über die Umtriebe der Alldeutschen vom 15. September 1916 // Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte. 1973. № 21. S. 452–468.
- Snyder L. Macro-Nationalisms: A History of the Pan-Movements. London, 1984.
- Spät R. Die “polnische Frage” in der öffentlichen Diskussion im Deutschen Reich, 1894–1918. Marburg, 2014.
- Wertheimer M. The Pan-German League. New York, 1923.
- Zwanzig Jahre alldeutscher Arbeit und Kämpfe. Leipzig, 1910.
Supplementary files