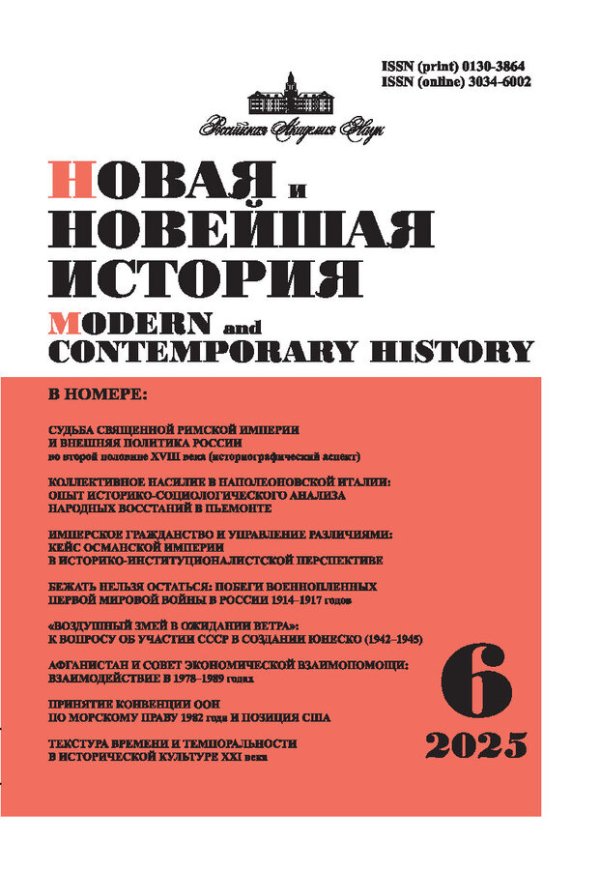Academy of Sciences and New Approaches to Economic Planning in the USSR (late 1950s – early 1960s)
- Authors: Safronov A.V.1,2
-
Affiliations:
- Safronov, Institute of World History, Russian Academy of Sciences
- Moscow State Institute of International Relations, University
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 103-117
- Section: 20th century
- URL: https://journal-vniispk.ru/0130-3864/article/view/255571
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0130386424010085
- ID: 255571
Cite item
Full Text
Abstract
In the article the author considers the emergence of new approaches to the planning of the national economy of the USSR in the second half of 1950-s – early 1960-s as a result of departmental struggle between the USSR Gosplan and academic economic institutes for influence on the economic policy of the country. Despite the abundance of historical works covering the planning debates of the 1920s, this subject is poorly covered in historiography in relation to the post-war period. The methodological basis of the article is Michel Kallon’s “sociology of translation”, according to which experts translate the problems of key clients into their language in such a way that their scientific programme and themselves are at the centre of the proposed solution to these problems. The author examines the process of weakening the role of the USSR Gosplan and the emergence of alternative centres of competence on economic policy issues. In accordance with the chosen approach, the rhetorical moves and political techniques that were used by major economists to promote new research directions (economic and mathematical methods, evaluation of capital investment efficiency, etc.) are highlighted. These political techniques were: inserting key words into party programme documents and/or speeches of the party leader; formation of broad coalitions; use of administrative resources of the Academy of Sciences; publishing and educational activities; repelling attempts of the Gosplan to fit into the new agenda, criticism of its staff as incapable of implementing the proposed ideas.
Full Text
К настоящему времени среди исследователей сложился определенный консенсус в понимании того, что экономические решения в СССР принимались под воздействием бюрократического лоббизма, который во взаимоотношениях министерств и ведомств с Госпланом принимал форму торга за ресурсы и плановые задания.
Среди наиболее известных концепций такого рода – «административный рынок» С.Г. Кордонского1 и «бюрократический рынок» В.А. Найшуля2, а также работы М. Олсона по теории малых групп3. Ведомственность как причину экономических проблем также упоминали П.Р. Грегори, Ю.Я. Ольсевич, Ю.В. Яременко и многие другие исследователи. П.Р. Грегори определял ее как преследование частных интересов (narrow interests) вместо государственных интересов (encompassing interests)4.
Стремление отстаивать «выгодные» плановые задания и получать больше ресурсов для их выполнения было свойственно наркоматам еще до Великой Отечественной войны5, но в послевоенные годы подобные процессы усилились – отчасти из-за децентрализации управления после смерти И.В. Сталина (в частности, создания совнархозов в 1957 г.) и особенно в результате косыгинской реформы 1965 г., превратившей предприятия в обособленных экономических агентов6, отчасти из-за ослабления централизующей роли партии7.
В вышеупомянутых работах по умолчанию предполагалось, что Госплан готовил научно обоснованные проектировки, а затем в процессе согласования и утверждения ведомства стремились изменить их в собственных интересах. При этом до настоящего времени в исторической литературе не находил должного отражения вопрос о ведомственности внутри самих плановых органов. Между тем сама функция составления планов, обязательных для исполнения хозяйственными органами, была важным властным ресурсом, и логично предположить, что было много желающих им завладеть.
В 1950-е годы в ходе хрущёвских реформ возникло несколько центров экономической мысли, которые занимались вопросами планирования.
Основной гипотезой настоящей работы является предположение, что с середины 1950-х годов процесс начального составления планов, формирования методологии планирования стал подвергаться такому же лоббистскому воздействию, как процесс их согласования и утверждения. Для ее проверки были изучены конфликты, споры и различные точки зрения по вопросам методологии планирования, тактики действий сторон и их отношения друг с другом. Взаимодействия эти рассматриваются с учетом экономического и идейного контекста эпохи.
Методология настоящей работы отчасти заимствована из социологии, в частности из работ М. Каллона по «социологии перевода»8. Его основной идеей служит мысль, что ученые навязывают вовлеченным в проблему группам себя и собственную интерпретацию проблемной ситуации так, чтобы стать незаменимыми и представить свою программу исследований как единственное решение проблемы. Для этого они определяют роли каждой группы и предлагают ее членам что-то, ради чего последние согласились бы эти роли играть.
В рамках выбранного подхода изменения в методологии планирования рассматриваются как результат того, что группа ученых, ратовавшая за новый подход к планированию, успешно решила изложенную выше задачу (представить свою научную программу как решение проблемы и убедить достаточное число заинтересованных лиц поддержать их в этом).
В пользу такой трактовки свидетельствует примерно 20-летний разрыв между публикацией первых работ по линейному программированию и математическим подходам к оценке эффективности капитальных вложений и началом применения этих идей в практике планирования. Авторы новаторских работ (Л.В. Канторович и В.В. Новожилов), очевидно, были не в состоянии создать такую коалицию, эту задачу решили за них В.С. Немчинов и Т.С. Хачатуров, ставшие организаторами новых научных школ.
Источниковую базу составили публикации в экономической периодике тех лет, мемуары крупных советских академических экономистов (Н.П. Федоренко, Ю.В. Яременко и др.) и плановиков-практиков (Я.М. Уринсон, В.В. Коссов и др.), а также материалы коллегий Госплана СССР, хранящиеся в фонде Госплана СССР в Российском государственном архиве экономики.
Формирование альтернативных центров экономической мысли во второй половине 1950-х годов
Методология планирования складывалась в 1920-е годы в ходе творческого поиска, дискуссий и взаимной критики экономистами, работавшими в различных советских учреждениях.
В наркомате земледелия СССР (наркомземе) пытались на принципах индикативного планирования составлять планы развития еще не коллективизированного сельского хозяйства, в Высшем совете народного хозяйства СССР (ВСНХ) составляли планы развития отдельных отраслей промышленности, в наркомате финансов СССР (наркомфине) – финансовые планы, имевшие особое значение в условиях нэпа. Госплан СССР развивал балансовый метод и год за годом подступался к задаче планирования народного хозяйства в целом.
Все эти ведомства постоянно спорили друг с другом о методах планирования. ВСНХ, к примеру, регулярно упрекал Госплан в чрезмерной осторожности, предлагая повышенные, против госплановских, плановые задания9. Первая пятилетка была сверстана в двух вариантах, которые отражали неизжитые разногласия между Госпланом и ВСНХ касательно темпов развития10.
В конце 1920-х годов дискуссии о приемлемых темпах развития перешли в политическую плоскость, многие плановики были осуждены, Госплан подвергся «чистке», его прежний руководитель Г.М. Кржижановский был «сослан» в Академию наук, а новым руководителем стал В.В. Куйбышев, который ранее на посту председателя ВСНХ защищал сверхвысокие темпы. С 1931 г., когда завершилась «чистка» Госплана, дискуссии о методологии планирования почти прекращаются. П.Р. Грегори писал: «Практически нет документов, которые указывали бы на отклонение Госплана от соблюдения государственных интересов в 1930-е годы»11. Госплан не оспаривал государственные задания, а ведомства не оспаривали подходы Госплана к планированию. Альтернативные мнения были представлены докладными записками отдельных энтузиастов, к примеру Л.В. Канторович в 1943 г. направил в Госплан свою статью «Показатели работы предприятий нуждаются в пересмотре», которая обсуждалась на совещании в ЦСУ Госплана СССР с участием автора12. Предложения были отклонены, а Леонид Витальевич в одиночку, конечно, не мог лоббировать их продвижение.
Первый же конфликт между Госпланом СССР и правительством по вопросам планирования, возникший в 1949 г., привел к отставке и расстрелу главы Госплана Н.А. Вознесенского. Формальной стороной дела был вопрос, на какой базе формировать плановое задание – ожидаемого или фактического исполнения предыдущего года. Однако в качестве альтернативной методологии планирования этот конфликт вряд ли подходит.
Ситуация изменилась после смерти Сталина, когда новый председатель Совета Министров СССР Г.М. Маленков, а затем Н.С. Хрущёв начали процесс децентрализации управления, из-за чего радикально снизилась детализация планов. За 1953–1955 гг. количество показателей сократилось до уровня 1940 г.13 Поскольку с того времени возникли новые отрасли и виды производств, действительная степень детализации планирования сократилась еще больше.
Вместе с сокращением отчетности сокращались штаты и целые подразделения Госплана. В период между 1950 и 1954 гг. в Госплане исчез Сводный отдел перспективных планов, к началу 1954 г. вопросами перспективного планирования занимался сектор в составе четырех человек14. В 1951 г. была ликвидирована Гостехника, а в 1953-м – Госснаб и Госпродснаб с передачей их функций Госплану. В результате последний столкнулся одновременно с перегрузкой задачами снабжения и нехваткой информации о происходящем на местах.
ЦК КПСС 20 декабря 1954 г. поручил председателю Госплана СССР М.З. Сабурову подготовить записку «О перестройке работы Госплана и мерах по улучшению государственного планирования». Сабуров направил ее в Президиум ЦК 5 февраля 1955 г. Он писал, что объединение Госплана и Госснаба не оправдало себя, Госплан задыхается в массе текущих вопросов и не способен осуществлять свою главную задачу – перспективное планирование. Решение Сабуров видел в создании двух плановых органов15.
4 июня 1955 г. было принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, в соответствии с которым Госплан делился на Госэкономкомиссию (Государственную экономическую комиссию по текущему планированию народного хозяйства) и собственно Госплан СССР (Государственную комиссию Совета Министров СССР по перспективному планированию народного хозяйства СССР). Хрущёв объяснял, что Госэкономкомиссия понадобилась, чтобы придать текущему планированию больше гибкости, оперативнее корректировать планы в процессе их исполнения с учетом творческой инициативы трудящихся16.
Эти новации в конечном счете дезорганизовали работу Госплана и привели к тому, что план шестой пятилетки (1956–1960) оказался не сбалансирован и чрезмерно амбициозен. Директивы шестой пятилетки были подготовлены к XX съезду КПСС (февраль 1956 г.), но уже через несколько месяцев стало ясно, что они не выполняются.
В декабре 1956 г. на пленуме, посвященном пересмотру шестой пятилетки, председатель Госэкономкомиссии Сабуров прямо указывал на причины сложившегося положения: Госэкономкомиссия не выдержала натиска министерств, чему содействовали и местные руководители. «Плохо то, что мы не даем отпора... и в этом наша беда», – сетовал он17. По итогам декабрьского пленума Сабурова на этой должности сменил А.Н. Косыгин. На февральском пленуме 1957 г., принципиально одобрившем идею Хрущёва о совнархозной реформе, он доложил, что Госэкономкомиссия только в январе 1957 г. получила 13,5 тыс. вопросов как с мест, так и от министерств и ведомств. Качественно проработать такой объем было практически невозможно.
Хрущёв сравнил сложившееся положение с «трубой, через которую пытаются пропустить мощный поток, превышающий ее сечение»18. Решение он видел в дальнейшей децентрализации. Складывался порочный круг: реорганизации Госплана приводили к сбоям в его работе и давали поводы для новой критики и новых реорганизаций.
С перестройкой управления промышленностью и строительством по территориальному принципу Госэкономкомиссия была ликвидирована, ее функции вернули Госплану СССР, а республиканские госпланы, считавшиеся его филиалами, получили дополнительные обязанности по гармонизации планов совнархозов, которые теперь разрабатывались на местах, в экономических районах, на которые была поделена страна. Ход планирования оказался инвертирован: теперь не хозяйственные органы пытались корректировать спускаемые им установки Госплана, а Госплан должен был увязывать воедино планы совнархозов. Шестая пятилетка под предлогом перестройки управления промышленностью была отменена, вместо нее началась разработка семилетки на 1959–1965 гг.
Для разработки семилетнего плана при Госплане СССР были созданы межведомственные комиссии по основной экономической задаче СССР, по повышению уровня жизни, по вопросам труда и заработной платы, по финансовым проблемам, по развитию важнейших отраслей народного хозяйства, по проблемам развития науки и ряд других. В состав комиссий вошли работники Академии наук, ЦСУ, отраслевых НИИ, вузов и др. Материалы комиссий должны были создать основу для разработки семилетнего плана19. Таким образом, семилетка стала первым перспективным планом, для разработки которого привлекалась широкая научная общественность.
В.Л. Некрасов предложил для их описания модель авторитарного реформатора, который занимается институциональным дизайном, конструирует «новые органы и учреждения, способные разработать предложения по реформированию управления советской экономикой и в итоге “изобрести” новую модель экономического развития»20. По его мнению, в СССР в середине 1950-х годов не было научных центров, которые бы могли разработать программу экономических реформ. Создание альтернативных центров экономической экспертизы, которые бы институционально конкурировали друг с другом, становилось вполне сознательной стратегией решения этой проблемы.
Среди глав межведомственных комиссий было двое академиков, которые в скором времени возглавили новые направления в советской экономической науке: В.С. Немчинов и Т.С. Хачатуров21.
Комиссии образовывались по прикладным вопросам семилетки. Но академики вскоре воспользовались возможностью участия в работе плановых органов, чтобы заявить, что сам подход к планированию нуждается в пересмотре. Хачатуров встал во главе разработки вопросов эффективности капитальных вложений. А Немчинов стал «крестным отцом» всего экономико-математического направления в советской экономической науке22. Таким образом, в 1957–1959 гг. на фоне совнархозной реформы и постоянных реорганизаций Госплана появляются центры экономической экспертизы, продвигающие альтернативные подходы к планированию.
Тактики утверждения новых научных направлений (конец 1950-х – начало 1960-х годов)
Хотя первые публикации по применению метода линейного программирования в экономике появились на рубеже 1930–1940-х годов23, в практике планирования эти идеи игнорировались до появления коллективных экономических субъектов, которые взяли их на вооружение и стали продвигать, одновременно утверждая себя.
М. Каллон выделяет следующие составляющие утверждения учеными себя и своей исследовательской программы24:
1) презентация своей программы исследований как способа решения некоей проблемы (для чего зачастую происходит реинтерпретация самой проблемы, «перевод» ее на язык «своей» научной дисциплины);
2) предложение лицам, которых беспокоит эта проблема, определенных ролей, отведенных им в программе ученых;
3) вербовка заинтересованных в решении проблемы групп на эти роли;
4) мобилизация представителей от каждой группы для реализации программы исследований в соответствии с их ролями.
Попробуем наложить эту аналитическую сетку на два следующих сюжета:
1) развитие подходов к определению эффективности капитальных вложений;
2) развитие экономико-математических исследований в целом.
1. Расчеты эффективности капитальных вложений
Н.С. Хрущёв известен яркими, но не всегда успешными инициативами, среди которых «догнать и перегнать Америку по производству основных продуктов питания» и «построить основы коммунистического общества к 1980 году». И то и другое требовало как можно более быстрого результата.
В то же время совнархозная реформа усугубила проблему распыления капитальных вложений по множеству одновременно начинаемых строек, из-за чего росли объемы незавершенного строительства (недостроя), сроки строительства удлинялись, а отдача на рубль вложений падала. В 1963 г. в сравнении с 1958 г. объем незавершенного строительства вырос на 53%, а к 1950 г. – в 3,25 раза! Не было введено 40% запланированных мощностей, а значит недостроенные заводы не давали предусмотренной планом продукции, которую ждали смежники. Если в начале семилетки на 1 руб. производственного накопления приходилось 44 коп. прироста национального дохода, то в 1963 г. эта величина составила 25 коп., т.е. снизилась более чем на 40%25.
При этом признать провал совнархозной реформы Хрущёв и его сторонники не могли. Тут-то ученые и сделали свой ход. 10 августа 1958 г. Хрущёв выступил с речью на митинге строителей Волжской ГЭС. В ней он отметил, что хотя киловатт-час электроэнергии, выработанной на гидростанциях, дешевле, чем на тепловых, но строительство ГЭС гораздо дороже и дольше, чем ТЭС сопоставимой мощности. И если учитывать и текущие, и капитальные затраты, то, вероятно, ТЭС строить выгоднее, так как тот же объем установленной мощности можно построить дешевле и быстрее, а чем раньше народное хозяйство получит дополнительные киловатты, тем быстрее будет расти производительность труда, которая перекроет дороговизну тепловой электроэнергии26. Поскольку ни до, ни после Хрушёв по вопросам сопоставления текущих и капитальных затрат не высказывался, можно предположить, что этот тезис попал в его речь усилиями заинтересованных лиц, которые получили мощный аргумент за развитие изучения вопросов эффективности капитальных вложений.
Практически одновременно, в июне 1958 г., состоялась Всесоюзная научно-техническая конференция по проблемам определения экономической эффективности капитальных вложений и новой техники в народном хозяйстве СССР, проведенная Институтом экономики АН СССР и ВЦСПС. В работе конференции приняло участие свыше 800 человек27. Основным ее результатом стали рекомендации. Хотя их редакцию провела комиссия Института экономики и ВЦСПС под председательством Т.С. Хачатурова, формально это были рекомендации всех участников, представлявших почти все центры экономической экспертизы.
На основе рекомендаций Институт экономики при участии ряда ведомств разработал проект типовой методики определения экономической эффективности. Этот проект был одобрен в январе 1959 г. Научным советом по проблеме экономической эффективности капитальных вложений и новой техники, обсужден Президиумом Академии наук СССР, по его поручению согласован с Госпланом СССР, Госстроем СССР, ГНТК СССР, ЦСУ СССР и Стройбанком СССР и 22 декабря 1959 г. утвержден Президентом Академии наук СССР академиком А.Н. Несмеяновым как «Типовая методика определения экономической эффективности капитальных вложений и новой техники в народном хозяйстве СССР»28. После этого уже имеющий достаточно статусную поддержку проект согласовывался с экономистами-практиками в Госплане, Госстрое и других ведомствах.
Сама типовая методика открывается перечислением организаций и особо крупных ученых, принявших участие в ее обсуждении, что вообще-то для методических документов не характерно. Смысл этих абзацев достаточно ясен: показать статусных сторонников нового подхода.
В типовой методике было утверждено, что на ее основе должны были быть разработаны отраслевые методики. Это означало, что министерства и ведомства с высокой вероятностью будут заказывать такие документы авторам типовой методики или как минимум привлекать последних к разработке. За два года активных действий группа ученых во главе с Т.С. Хачатуровым обеспечили себя долгосрочным потоком заказов.
Таким образом, ученые во главе с Т.С. Хачатуровым действовали несколькими путями, формируя поддержку:
1) «сверху» (добившись оглашения нужных идей политическим лидером);
2) «снизу» (рекомендации от имени широкой научной общественности);
3) по каналам Академии наук (одобрение специально созданным Научным советом, затем Президиумом).
2. Экономико-математические методы (ЭММ)
Процесс организационного оформления экономико-математического направления шел схожим образом. Проблемой, которую новое направление вызывалось решить, были все те же последствия совнархозной реформы: местничество, снижение директивности планов, ухудшение использования основных фондов, направление капитальных вложений на объекты, не предусмотренные планом.
В новой системе республиканские госпланы должны были гармонизировать планы совнархозов, но они оказались не готовы к этой роли. В мае 1958 г. председатель Госплана РСФСР В.Н. Новиков жаловался в Совмин РСФСР, что 10 из 67 российских совнархозов до сих пор не предоставили в Госплан планы капитального строительства на 1958 г., т.е. Госплан РСФСР просто не знает, что строится в республике29. Попытки регулирования работы совнархозов приводили к перегрузке госпланов текущими вопросами. Только за два месяца 1959 г. в Госплан РСФСР из совнархозов приехало 5 тыс. человек командированных, и каждый «пробивал» какие-то решения30. В июле 1959 г. председатель Совмина РСФСР Д.С. Полянский направил Хрущёву записку, в которой заявил, что ни республиканский Совмин, ни республиканский Госплан не справляются с валом мелких запросов с мест, посвященных текущей деятельности совнархозов. Он просил создать специальный комитет по координации и оперативному управлению совнархозами, который взял бы на себя рассмотрение управленческих проблем, которые совнархозы не могли или не хотели решать самостоятельно31. Начиная с 1960 г. все более явно обозначились тенденции к обратной централизации управления, но полностью возврата к предыдущей системе хрущёвское руководство не желало.
Ученые предложили соблазнительный компромисс: с помощью математики так подобрать цены на продукцию, чтобы предприятия, стремясь получить максимальную прибыль, производили бы именно то, что требуется народному хозяйству 32.
В конце 1958 г. В.С. Немчинов создал лабораторию экономико-математических методов, для подготовки кадров в 1959–1960 гг. началось преподавание математики экономистам в ведущих вузах.
В 1958 г. вышел русский перевод книги В.В. Леонтьева «Исследование структуры американской экономики», знакомивший читателей с методом межотраслевого баланса, а в 1959 г. под редакцией В.С. Немчинова вышел первый том будущего трехтомника «Применение математики в экономических исследованиях», где были перепечатаны ранние работы Л.В. Канторовича и В.В. Новожилова, а также доказывалось, что математика не противоречит марксистской политэкономии.
В 1959 г. глава Академии наук СССР А.Н. Несмеянов на XXI съезде КПСС заявил, что экономическая наука должна стать «точной наукой в полном смысле этого слова, широко использовать новейшие средства вычислительной техники, стать прожектором в планировании народного хозяйства».
А в 1961 г. была принята третья программа КПСС, поставившая цель создания к 1980 г. основ коммунизма. В ней говорилось: «Главное внимание …должно быть сосредоточено на наиболее рациональном и эффективном использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов, природных богатств и устранении излишних издержек и потерь. Достижение в интересах общества наибольших результатов при наименьших затратах – таков непреложный закон хозяйственного строительства». В этой формулировке нетрудно увидеть постановку в общем виде оптимизационной задачи линейного программирования. Энтузиасты нового направления и тут постарались, чтобы нужные слова попали в важные политические документы.
В апреле 1960 г. состоялось научное совещание о применении математических методов в экономических исследованиях и планировании, подготовку которого возглавлял В.С. Немчинов. Совещание приняло координационный план работы по применению математических методов и ЭВМ в экономике и рекомендовало организовать в АН СССР институт экономико-математических методов33. В соответствии с рекомендацией совещания 20 мая 1960 г. в АН СССР был создан Научный совет по применению математики и вычислительной техники в экономических исследованиях и планировании, который возглавил все тот же Немчинов34.
Упоминание вычислительной техники в названии Научного совета не случайно – на совещании один из пионеров советской кибернетики И.С. Брук отметил необходимость создания сети вычислительных центров по сбору, хранению и обработке информации и указал, что только использование ЭВМ могло обеспечить широкое применение математических методов. Экономисты-математики, таким образом, вошли в альянс с кибернетиками и производителями вычислительной техники. Альянс закрепило появление нового понятия – «экономической кибернетики»35.
В 1961 г. было проведено первое координационное совещание по вопросам применения математики и вычислительной техники в экономических исследованиях и планировании с участием 56 организаций. Во втором таком совещании, прошедшем в 1962 г., участвовало уже более 70 организаций. В 1962 г. в Новосибирске состоялась первая конференция по оптимальному планированию, а в 1963 г. на базе ряда научных учреждений был создан Центральный экономико-математический институт АН СССР (ЦЭМИ) во главе с Н.П. Федоренко36.
То же постановление правительства, которым был учрежден ЦЭМИ, предписывало разработать Единую государственную сеть вычислительных центров (ЕГСВЦ), т.е. закрепляло связку «развитие матметодов – развитие компьютеров для их применения». Координацией действий экономистов, математиков, кибернетиков и производственников должно было заниматься специально созданное Главное управление по внедрению вычислительной техники при Государственном комитете по координации научно-исследовательских работ СССР (ГУВВТ)37.
Этап организационного оформления нового направления завершился38 большим совещанием 1964 г. «Экономисты и математики за круглым столом». На нем о перспективности применения новых методов говорили экономисты, математики, кибернетики, а немногочисленных скептиков редакторы сборника в примечаниях выставляли ретроградами. Было заявлено о возможности расчета таких цен, применение которых управляло бы стремлением каждого предприятия получать максимальный доход так, чтобы автоматически заставить его работать в режиме максимального удовлетворения общественных потребностей39.
На мой взгляд, это обещание – создать систему, которая бы автоматически, без административного принуждения решила бы проблему ведомственности/местничества, – и позволило добиться поддержки нового экономического направления политическими лидерами. В то же время утверждалось, что пока такая общесоюзная система не создана, следует применять принципы оптимизации для решения локальных задач, для чего хозяйственникам (директорам предприятий и главам совнарохозов) нужно дать максимальную свободу действий40. Следует помнить, что этот экономический либерализм разворачивался на фоне уже начатой в ГДР рыночной реформы41 и подготовки косыгинской реформы в СССР.
Материалы совещания демонстрируют высокую интерпретативную гибкость)42. Разные участники презентовали перспективы развития экономико-математических методов и моделей (ЭММ) немного по-разному, стараясь привлечь одновременно и сторонников централизации, и сторонников децентрализации, представляя программу одновременно как средство обеспечить научность централизованного планирования и оперативную самостоятельность низовых звеньев.
На совещании была сформулирована амбициозная программа работ на будущее: построение Единой государственной системы оптимального планирования и управления народным хозяйством (ЕГСПУ) на базе автоматизированной системы сбора, передачи и переработки экономической информации (которая позднее станет известна как Общегосударственная автоматизированная система, ОГАС)43. Выполнение этой программы означало заказы для всех групп действующих лиц на годы вперед и «замах» на изменение сущности плановой системы как таковой.
Инициативой прочно завладели академические экономисты, которые стремились стать практиками. «Старые» плановики в то время, с одной стороны, не были готовы эффективно возражать им, а с другой – явно проигрывали, если сами пытались играть на новом поле. Показательна тут история начальника вычислительного центра (ГВЦ) Госплана СССР Н.И. Ковалева. В 1964 г. он выпустил книгу «Вычислительная техника в планировании (вопросы теории и практики)», на которую работавший в ЦЭМИ И.Я. Бирман подготовил разгромную рецензию, вышедшую в «Известиях» за подписью ни много ни мало трех академиков44. Тогда же Ковалев опубликовал статью «Экономико-математическая модель планирования рациональной структуры производства экономического района»45. В январском номере «Вопросов экономики» за 1965 г. вышла совместная статья девяти крупных экономистов с жесткой критикой модели Н.И. Ковалева46. Последнему пришлось отвечать на критику в апрельском номере журнала.
Таким образом, тактики утверждения экономико-математических методов были аналогичны тактикам утверждения нового подхода к оценке эффективности капитальных вложений, изложенного выше. Группа ученых во главе с В.С. Немчиновым добилась:
1) включения нужных идей в наиболее «статусные» документы (новую программу КПСС);
2) представления своей научной программы как решения объективной проблемы, беспокоившей власти (снижение эффективности централизованного планирования в условиях совнархозной реформы);
3) формирования широкой коалиции сторонников новых методов, куда, наряду с экономистами, вошли кибернетики, а также руководители предприятий и совнархозов. Обоим группам посулили выгоды от поддержки нового научного направления (развитие компьютерной техники и увеличение самостоятельности);
4) использования административных ресурсов Академии наук для создания ряда новых структур (научные советы и институты), смысл функционирования которых заключался в развитии новых методов планирования;
5) защиты «своей» повестки от перехвата со стороны плановиков.
Новая философия планирования
К середине 1960-х годов новое направление уже не довольствовалось «частными» задачами по экономии ресурсов. В.С. Немчинов и его сторонники предложили новую модель планирования, в которой от государственных заданий следовало перейти к государственным заказам, распределяемым между предприятиями на конкурсной основе.
Предприятия сообщали бы плановому органу свои производственные возможности с учетом собственных планов повышения производительности труда и снижения себестоимости. Эти данные закладывались бы в огромную оптимизационную задачу, охватывающую всю экономику, в результате чего заказы на производство продукции распределялись бы между ними оптимальным образом47. При изменении технических условий на предприятиях весь план должен был пересчитываться.
Управление экономикой сохранило бы централизованный характер, но лишилось бы волюнтаристского начала (управленческое решение заменяется обезличенным результатом оптимизационного расчета). Управляющее воздействие производилось бы через цены и госзаказ, а не прямыми распоряжениями, сохраняя за директорами предприятий полную оперативную свободу в рамках взятых на себя производственных обязательств.
Переход к планам-заказам и косвенному экономическому регулированию предприятий через цены, назначаемые на основе так называемых объективно обусловленных оценок, получаемых при решении глобальной задачи линейного программирования, уместно называть программой-максимум сторонников ЭММ (в отличие от программы-минимум, заключавшейся в применении ЭММ для решения локальных задач).
Эти идеи были изложены в брошюре В.С. Немчинова «О дальнейшем совершенствовании планирования и управления народным хозяйством», которая в 1963 г. открыла новую серию книг с красноречивым названием «Обсуждаем проблемы совершенствования планирования». Ни один из авторов первых 10 книг этой серии не работал в Госплане (!). Если бы этот подход был реализован, сама функция планирования от Госплана СССР перешла бы к Академии наук СССР.
В середине 1960-х годов могло показаться, что так и будет. Во всяком случае при разработке очередной, восьмой пятилетки сторонники новых методов планирования уже должны были, что называется, играть первую скрипку. На заседании коллегии Госплана СССР 10 мая 1963 г. был одобрен проект приказа о порядке и сроках разработки новой пятилетки на 1966–1970 гг.48 Этим приказом поручалось: «Научно-исследовательскому экономическому институту (НИЭИ) Госплана СССР подготовить совместно с отделами Госплана СССР и с участием СОПС, ИКТП, Вычислительного центра Госплана СССР и научно-исследовательскими экономическими институтами госпланов союзных республик проект основных методических положений к составлению плана, учтя в них результаты научных исследований и итоги дискуссии по совершенствованию методов планирования (курсив мой. – А.С.), а также необходимость широкого внедрения в практику плановых расчетов, математических методов современной вычислительной техники и представить на рассмотрение коллегии Госплана СССР к 1 ноября 1963 г.»49.
В перечень проблем, связанных с составлением проекта нового пятилетнего плана, в числе прочих входили задания по всем «новым» направлениям экономической мысли:
1) обоснование темпов, оптимальных пропорций и отраслевой структуры народного хозяйства до 1970 г.;
2) разработка планового межотраслевого баланса. Разработка коэффициентов прямых затрат;
…
5) экономические расчеты темпов роста производительности труда в отраслях народного хозяйства на 1966–1970 гг. по важнейшим факторам [производства]50;
…
7) определение экономической эффективности капитальных вложений на период до 1970 г.;
8) предложения по более эффективному использованию капитальных вложений в 1966–1970 гг.;
9) воспроизводство основных фондов СССР в 1966–1970 гг. и повышение эффективности их использования;
…
15) основные методические положения и предложения по системе показателей пятилетнего плана51.
Исполнителем по всем перечисленным пунктам стоял НИЭИ Госплана «совместно с экономическими институтами». Это означало государственное финансирование исследований в области ЭММ и практическое применение их результатов. Новая пятилетка должна была готовиться на методической базе, сформированной приверженцами новых направлений экономической мысли в дискуссиях начала 1960-х годов, а сами они получали и влияние на Госплан, и заказ на продолжение деятельности.
Это была убедительная победа. Но после отставки Хрущёва ее результаты стали подвергаться пересмотру.
В конце 1950-х годов при прямом участии Н.С. Хрущёва сформировался новый механизм участия экономистов АН СССР в работе плановых органов, который был использован энтузиастами экономико-математических методов для попытки утверждения альтернативных подходов к планированию. Рассмотрение процесса организационного оформления новых направлений экономической мысли на двух примерах (расчеты эффективности капитальных вложений и использование ЭММ в целом) позволяет выделить схожие тактики сторонников этих программ, которые за несколько лет позволили им сформировать новые мощные течения в экономической науке:
1) демонстрация поддержки сверху путем включения нужных формулировок в программные партийные документы и/или речи вождей;
2) демонстрация поддержки снизу путем формирования коалиций. Для этого использовалась «интерпретативная гибкость», акценты при объяснении своей научной программы менялись, чтобы привлечь как можно более широкие слои (от сторонников централизации до сторонников децентрализации, от ученых-кибернетиков до руководителей предприятий);
3) использование административного ресурса Академии наук (создание многочисленных комиссий и советов, принимающих нужные резолюции, официальная поддержка со стороны Президиума академии);
4) широкая издательская и образовательная деятельность для привлечения молодежи в ряды сторонников новых подходов;
5) защита от попыток Госплана «встроиться» в новую повестку, критика плановиков как неспособных реализовать предложенные идеи.
Все эти тактики в полном соответствии с трактовкой М. Каллона работали на главную задачу: представление своей научной программы как способа решения проблем и политических лидеров (им обещалось повышение темпов роста, корректировка побочных эффектов совнархозной реформы без ее отмены), и пользователей компьютеров (объединение усилий для наращивания выпуска ЭВМ), и хозяйственников (повышение эффективности управления без увеличения прямого административного контроля, обеспечение большей операционной самостоятельности руководителям предприятий, ориентация на максимизацию прибыли). Активность академических экономистов принесла плоды: восьмая пятилетка должна была разрабатываться при их участии целиком на новой методической базе. Однако отставка Хрущёва и восстановление единого Госплана СССР привели к слому едва сложившегося институционального механизма участия академических экономистов в практической плановой работе.
Забегая вперед, можно отметить, что Госплан СССР во второй половине 1960-х годов стал использовать для борьбы за теоретическое лидерство в сфере планирования те же тактики, что и академические экономисты в первой половине 1960-х годов. Но этот «реванш» заслуживает отдельной статьи.
1 Кордонский С.Г. Рынки власти: административные рынки СССР и России. М., 2006. С. 6.
2 Найшуль В.А. Высшая и последняя стадия социализма // URL: http://www.libertarium.ru/l_libnaul_brezhnev (дата обращения: 25.10.2018).
3 Олсон М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теория групп. М., 1995.
4 Грегори П.Р. Политическая экономия сталинизма. М., 2008. С. 175.
5 Маркевич А.М. Отраслевые наркоматы и главки в системе управления советской экономикой в 1930-е гг. // Экономическая история: Ежегодник. 2004. М., 2004. С. 123.
6 Ольсевич Ю.Я., Грегори П.Р. Плановая система в ретроспективе. Анализ и интервью с руководителями планирования СССР. М., 2000. С. 42.
7 Яременко Ю.В. Экономические беседы. М., 1998. С. 28.
8 Каллон М. Некоторые элементы социологии перевода: приручение морских гребешков и рыболовов бухты Сен-Брие // Философско-литературный журнал «Логос». 2017. Т. 27. № 2 (117). С. 49–94.
9 Гладков И.А. К истории первого пятилетнего народнохозяйственного плана // Плановое хозяйство. 1935. № 4. С. 114.
10 Фельдман М.А. «Прения должны быть гильотинированы»: съезды советов госпланов СССР и проблема выбора пути развития // Российская история. 2020. № 5. С. 108–123.
11 Грегори П.Р. Указ. соч. С. 177.
12 Канторович Л.В. Показатели работы предприятий нуждаются в пересмотре: К 80-летию академика Л.В. Канторовича. Часть I // Оптимизация: сб. трудов Института математики СО АН СССР. 1991. № 50 (67). С. 16–44.
13 Российский государственный архив экономики (далее – РГАЭ). Ф. 4372. Оп. 55. Д. 69. Л. 3.
14 Некрасов В.Л. Советский экономический реформизм эпохи Н.С. Хрущёва: авторитарный реформатор, партийно-государственная система и академическое сообщество // Новый исторический вестник. 2017. № 4 (54). С. 75.
15 Благих И.А. Хозяйственные реформы Н.С. Хрущёва: волюнтаризм или необходимость? // Из истории экономической мысли и народного хозяйства России. Ч. 1. М., 1993. С. 193.
16 Правда. 19.V.1955. С. 1–2.
17 Мерцалов В.И. Происхождение и эволюция реформы управления промышленностью и строительством, 1957–1965 гг. Чита, 2015. С. 89.
18 Там же. С. 88.
19 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 56. Д. 344. Л. 002.
20 Некрасов В.Л. Указ. соч. С. 72.
21 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 56. Д. 344. Л. 002.
22 Ставчиков А.И. 110 лет со дня рождения B.C. Немчинова – основоположника экономико-математических исследований в России // Экономическая наука современной России. 2004. № 2. С. 145–148
23 Белых А.В. История российских экономико-математических исследований: первые сто лет. М., 2007. С. 139.
24 Каллон М. Указ. соч. С. 49.
25 Архив РАН. Ф. 1849. Оп. 1. Д. 51. Л. 2.
26 Правда. 11.VIII.1958. С. 2–3.
27 Экономическая эффективность капитальных вложений и новой техники / ред. Т.С. Хачатуров. М., 1959. С. 8.
28 Типовая методика определения экономической эффективности капитальных вложений и новой техники в народном хозяйстве СССР. М., 1960.
29 Мерцалов В.И. Указ. соч. С. 149.
30 Там же. С. 158.
31 Региональная политика Н.С. Хрущёва. ЦК КПСС и местные партийные комитеты. 1953–1964 гг. Документы советской эпохи / ред. О.В. Хлевнюк. М., 2009. С. 371.
32 Сафронов А.В. Мираж оптимальности: внедрение математических методов в экономику как ответ на проблемы реформы управления промышленностью 1957 года // Экономическая история. 2016. № 1 (32). С. 76–86.
33 Белых А.В. Указ. соч. С. 150. 151.
34 Ставчиков А.И. Указ. соч. С. 149.
35 Белых А.В. Указ. соч. С. 155.
36 Там же. С. 152.
37 Кутейников А.В. Академик В.М. Глушков и проект создания принципиально новой (автоматизированной) системы управления советской экономикой в 1963–1965 гг. // Экономическая история. Обозрение. 2011. № 15. С. 139–156.
38 Белых А.В. Указ. соч. С. 152; Козырев А.Н. Три утопии и призрак коммунизма за круглым столом // URL: https://medium.com/cemi-ras/три-утопии-и-призрак-коммунизма-за-круглым-столом-1-eaf2adb3b6ac (дата обращения: 08.06.2019).
39 Экономисты и математики за круглым столом / ред. Ю. Давыдов, Л. Лопатников. М., 1965. С. 64.
40 Там же. С. 158.
41 Джалилов Т.А., Пивоваров Н.Ю. Москва и экономические реформы в ГДР и ЧССР в 1960-е гг. // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2020. Т. 11. № 12 (98). Ч. 1 (дата обращения: 26.07.2022).
42 Богатырь Н.В. Современная технокультура сквозь призму отношений пользователей и технологий // Этнографическое обозрение. 2011. № 5. С. 31.
43 Экономисты и математики... С. 199.
44 Бирман И.А. Я – экономист (о себе любимом). 2-е изд. М., 2001. С. 231.
45 Mathematics and computers in soviet economic planning: Yale Russian and East European Studies. Vol. 5 / ed. J.P. Hardt et al. New Haven; London, 1967. P. 187.
46 Волконский В.А., Гольштейн Е., Дадаян В., Коссов В., Мас В., Фридман А., Хрытский Е., Юсупов М., Яковлев Е. По поводу статьи Н. Ковалева // Вопросы экономики. 1965. № 1. С. 153–155. Большинство авторов были сотрудниками ЦЭМИ.
47 Немчинов В.С. О дальнейшем совершенствовании планирования и управления народным хозяйством. 2-е изд. М., 1965. С. 7.
48 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 65. Д. 35. Л. 48.
49 Там же. Л. 49–50.
50 То есть начало применения аппарата производственных функций.
51 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 65. Д. 35. Л. 71–92.
About the authors
Alexey V. Safronov
Safronov, Institute of World History, Russian Academy of Sciences; Moscow State Institute of International Relations, University
Author for correspondence.
Email: aleksei.safronov@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-3301-9974
Scopus Author ID: 57225900531
ResearcherId: N-5883-2017
Cand. Sci. (Hist.)
Russian Federation, Moscow; MoscowReferences
- Belykh A.A. Istoriia rossiiskikh ekonomiko-matematicheskikh issledovanii: pervye sto let [History of Russian economics and mathematics research: the first hundred years]. Moskva, 2007. (In Russ.)
- Birman I.A. Ia – ekonomist (o sebe liubimom) [I am an economist (about my beloved self)]. Moskva, 2001. (In Russ.)
- Blagikh I.A. Khoziaistvennye reformy N.S. Khrushcheva: voliuntarizm ili neobkhodimost’? [Economic reforms of N.S. Khrushchev: voluntarism or necessity?] // Iz istorii ekonomicheskoi mysli i narodnogo khoziaistva Rossii [From the history of economic thought and the national economy of Russia]. Part 1. Moskva, 1993. S. 190–214. (In Russ.)
- Bogatyr’ N.V. Sovremennaia tekhnokul’tura skvoz’ prizmu otnoshenii pol’zovatelei i tekhnologii [Contemporary technoculture through the prism of the relationship between users and technologies] // Etnograficheskoe Obozrenie [Ethnographic Review]. 2011. № 5. S. 30–39. (In Russ.)
- Dzhalilov T.A., Pivovarov N.Iu. Moskva i ekonomicheskie reformy v GDR i ChSSR v 1960-e gg. [Moscow and Economic Reforms in East Germany and Czechoslovakia in the 1960s] // Elektronnyj nauchno-obrazovatel’nyj zhurnal “Istoriya” [Electronic scientific and educational Journal “History”]. 2020. T. 11. Iss. 12 (98). Part 1. URL: https://history.jes.su/s207987840012980-7-1/ (access date: 14.12.2020). (In Russ.)
- Ekonomicheskaia effektivnost’ kapital’nykh vlozhenii i novoi tekhniki [Economic efficiency of capital investments and new equipment] / red. T.S. Khachaturov. Moskva, 1959. (In Russ.)
- Ekonomisty i matematiki za kruglym stolom [Economists and mathematicians at the round table] / red. Iu. Davydov, L. Lopatnikov. Moskva, 1965. (In Russ.)
- Fel’dman M.A. “Preniia dolzhny byt’ gil’otinirovany”: s’ezdy sovetov gosplanov SSSR i problema vybora puti razvitiia [“The debate must be guillotined”: Soviet state planning congresses and the problem of choosing the path of development] // Rossiiskaia Istoriia [Russian history]. 2020. № 5. S. 108–123 (In Russ.)
- Gladkov I.A. K istorii pervogo piatiletnego narodnokhoziaistvennogo plana [On the history of the first five-year national economic plan] // Planovoe khoziaistvo [Planning Economy]. 1935. № 4. S. 106–142. (In Russ.)
- Gregori P.R. Politicheskaia ekonomiia stalinizma [The political economy of Stalinism]. Moskva, 2008. (In Russ.)
- Iaremenko Iu.V. Ekonomicheskie besedy [Economic talks]. Moskva, 1998. (In Russ.)
- Kallon M. Nekotorye elementy sotsiologii perevoda: priruchenie morskikh grebeshkov i rybolovov bukhty Sen-Brie [Some Elements of a Sociology of Translation; Domestication of the Scallops and the Fishermen of St. Brieuc Bay] // Filosofsko-literaturnyi zhurnal “Logos” [Philosophical and Literary Journal “Logos”]. 2017. T. 27. № 2 (117). S. 49–94. (In Russ.)
- Kantorovich L.V. Pokazateli raboty predpriiatii nuzhdaiutsia v peresmotre: K 80-letiiu akademika L.V. Kantorovicha [The performance indicators of enterprises need to be revised: On the occasion of the 80th anniversary of Academician L.V. Kantorovich]. Part I // Optimizatsiia: sb. trudov Instituta matematiki SO AN SSSR [Optimization: collection of works of the Institute of Mathematics of the Siberian Branch of the USSR Academy of Sciences]. 1991. № 50 (67). S. 16–44. (In Russ.)
- Kordonskii S.G. Rynki vlasti: administrativnye rynki SSSR i Rossii [Markets of power: administrative markets of the USSR and Russia]. Moskva, 2006. (In Russ.)
- Kozyrev A.N. Tri utopii i prizrak kommunizma za kruglym stolom [Three utopias and the specter of communism at the round table] // URL: https://medium.com/cemi-ras/tri-utopii-i-prizrak-kommunizma-za-kruglym-stolom-1-eaf2adb3b6ac (access date: 08.06.2019). (In Russ.)
- Kuteinikov A.V. Akademik V.M. Glushkov i proekt sozdaniia printsipial’no novoi (avtomatizirovannoi) sistemy upravleniia sovetskoi ekonomikoi v 1963–1965 gg. [Academician V.M. Glushkov and the project to create a fundamentally new (automated) system for managing the Soviet economy in 1963–1965] // Ekonomicheskaia istoriia. Obozrenie [Economic history. Review]. 2011. № 15. S. 139–156. (In Russ.)
- Markevich A.M. Otraslevye narkomaty i glavki v sisteme upravleniia sovetskoi ekonomikoi v 1930-e gg. [Industry people’s commissariats and central boards in the management system of the Soviet economy in the 1930s.] // Ekonomicheskaia istoriia: Ezhegodnik [Economic History: Yearbook]. 2004. Moskva, 2004. S. 118–140. (In Russ.)
- Mertsalov V.I. Proiskhozhdenie i evoliutsiia reformy upravleniia promyshlennost’iu i stroitel’stvom, 1957–1965 gg. [Origin and evolution of industrial and construction management reform, 1957–1965]. Chita, 2015. (In Russ.)
- Naishul’ V.A. Vysshaia i posledniaia stadiia sotsializma [The highest and final stage of socialism] // URL: http://www.libertarium.ru/l_libnaul_brezhnev (access date: 25.10.2018). (In Russ.)
- Nekrasov V.L. Sovetskii ekonomicheskii reformizm epokhi N.S. Khrushcheva: avtoritarnyi reformator, partiino-gosudarstvennaia sistema i akademicheskoe soobshchestvo [Soviet Economic Reformism of the Khrushchev Era: The Authoritarian Reformer, the Party-State System, and the Academic Community] // Novyi istoricheskii vestnik [New Historical Bulletin]. 2017. № 4 (54). S. 71–91. (In Russ.)
- Nemchinov V.S. O dal’neishem sovershenstvovanii planirovaniia i upravleniia narodnym khoziaistvom [On further improvement of planning and management of the national economy]. Moskva, 1965. (In Russ.)
- Ol’sevich Iu.Ia., Gregori P.R. Planovaia sistema v retrospektive. Analiz i interv’iu s rukovoditeliami planirovaniia SSSR [The planned system in retrospect. Analysis and interviews with USSR planning leaders]. Moskva, 2000. (In Russ.)
- Olson M. Logika kollektivnykh deistvii. Obshchestvennye blaga i teoriia grupp [The logic of collective action. Public Goods and the Theory of Groups]. Moskva, 1995. (In Russ.)
- Regional‘naia politika N.S. Khrushcheva. TsK KPSS i mestnye partiinye komitety. 1953–1964 gg. [Regional policy N.S. Khrushchev. CPSU Central Committee and local party committees. 1953–1964] / red. O.V. Khlevniuk. Moskva, 2009. (In Russ.)
- Safronov A.V. Mirazh optimal’nosti: vnedrenie matematicheskikh metodov v ekonomiku kak otvet na problemy reformy upravleniia promyshlennost’iu 1957 goda [The optimality mirage. Implementation of mathematical methods in economics as a response to problems Caused by the Reform of the Management of Industry in 1957] // Ekonomicheskaia Istoriia [Economic history]. 2016. № 1 (32). S. 76–86. (In Russ.)
- Stavchikov A.I. 110 let so dnia rozhdeniia V.S. Nemchinova – osnovopolozhnika ekonomiko-matematicheskikh issledovanii v Rossii [110th anniversary of the birth of V.S. Nemchinov – the founder of economic and mathematical research in Russia] // Ekonomicheskaia nauka sovremennoi Rossii [Economic Science of Contemporary Russia]. 2004. № 2. (In Russ.) S. 145–148.
- Mathematics and computers in soviet economic planning: Yale Russian and East European Studies / ed. J.P. Hardt at al. New Haven; London, 1967.
Supplementary files