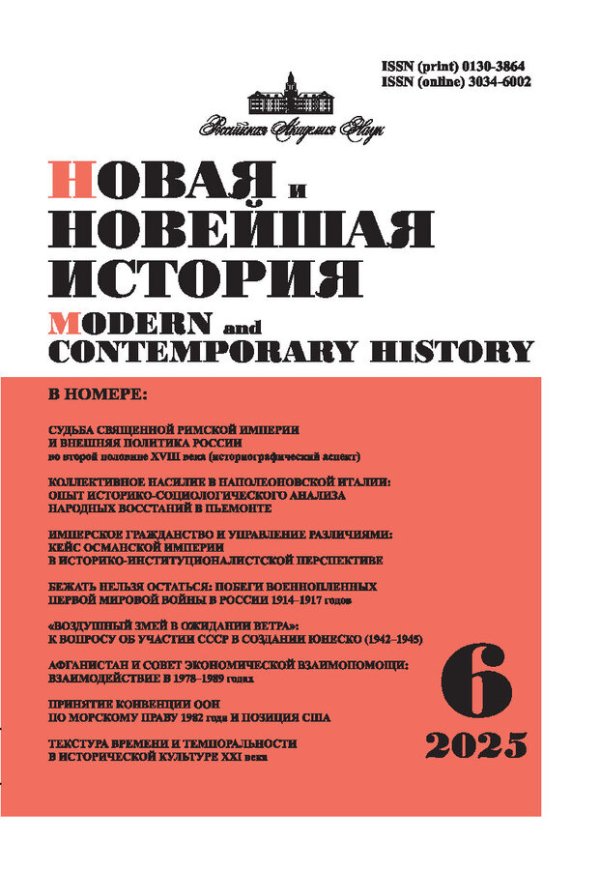Polish diplomats on the situation of the catholic church in the USSR. Rec. ad op.: Bolszewicy w walce z religią. Kościół rzymskokatolicki w związku sowieckim w polskich dokumentach dyplomatycznych 1922–1938 / Redakcja naukowa R. Dzwonkowski, A. Szabaciuk. Warszawa: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2021. 334 s.
- Authors: Matveev G.F.1, Matveeva E.Y.2
-
Affiliations:
- Lomonosov Moscow State University
- Institute of Scientific Information on Social Sciences, Russian Academy of Sciences
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 232-235
- Section: Reviews
- URL: https://journal-vniispk.ru/0130-3864/article/view/255581
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0130386424010182
- ID: 255581
Cite item
Full Text
Full Text
В 2021 г. в Варшаве был издан сборник польских дипломатических документов, касающихся взаимоотношений Советского государства и католической церкви в СССР в период между двумя мировыми войнами. Научная редакция сборника осуществлена сотрудниками Люблинского католического университета им. Иоанна Павла II профессором Р. Дзвонковским, членом конгрегации паллотинов, членом Польской академии наук и Польской академии знаний, специалистом по истории католической церкви в СССР, а также доцентом А. Шабацюком, занимающимся проблемами постсоветского пространства. Cоставители сборника, если это не те же научные редакторы, не указаны.
Всего в сборник включено 106 документов: 104 – из фондов Архива Польского института и музея генерала В. Сикорского в Лондоне, Архива Гнезнинской архидиэцезии, варшавского Архива новых актов, 1 – из Президентского архива РФ (предоставлен анонимным бывшим сотрудником администрации Б.Н. Ельцина), 1 – из хранящейся в отделе рукописей библиотеки Люблинского католического университета коллекции католического священника Б. Уссаса, служившего в Советской России в начале 1920-х годов.
Большинство документов сборника расположены в хронологическом порядке, но в тех случаях, когда несколько созданных в разное время документов относятся к одному сюжету, их, нарушив временную последовательность, разместили рядом. Количество опубликованных документов по годам разнится: за 1922 г. – 30; 1923 г. – 24; 1924 г. – 2; 1925 г. – 24; 1926 г. – 24; 1927 г. – 4; 1929 г. – 4; 1930 г. – 18; 1932 г. – 2; 1933 г. – 34; 1934 г. – 1; 1937 г. – 2; 1936 г. – 1; 1938 г. – 11. По словам научных редакторов, сборник не вместил всех имеющихся в их распоряжении документов по проблеме, в связи с чем они намерены издать еще один том.
Сборник подготовлен с соблюдением правил публикации польских дипломатических документов: каждый снабжен порядковым номером, издательским заголовком, отражающим основное содержание, датой создания, а также архивным адресом. Сохранены особенности стиля и орфографии, характерные для польского языка времени создания документа, ошибки и неточности отмечены как в тексте, так и в подробных примечаниях в конце сборника. Издание сопровождается указателем сокращений, списком архивных и опубликованных источников и литературы предмета на польском, русском и других языках, фотографиями некоторых священников и дипломатов.
Сборник открывают два предисловия. Первое, небольшое по объему – вступительное слово примаса Польши, Гнезнинского митрополита архиепископа В. Поляка. В нем рассказано о внимании, которое примас Польши в 1926–1948 гг. кардинал А. Хлонд уделял судьбе католической церкви и ее служителей в СССР, а также дана высокая оценка публикации, которая будет «служить не только углублению исторических знаний, но и показу тех ценностей, благодаря которым католическая церковь, ликвидированная в этом государстве [СССР] в институциональной форме, сохранилась в нем как духовная реальность» (с. 14).
Второе предисловие, названное введением, подписано научными редакторами, причем как на обложке и титуле, так и в данном случае фамилия Дзвонковского не взята в рамку, хотя книга вышла уже после его кончины. Введение состоит из трех частей. Первая часть начинается с краткого очерка неблагоприятного, но не безнадежного положения диоцезов католической церкви, оказавшихся после разделов Речи Посполитой непосредственно в составе империи Романовых. Этот очерк мало информативен и дан во введении, видимо, с единственной целью: выпуклее показать катастрофическую ситуацию этой конфессии после Октября 1917 г. О масштабах проблемы говорят фактические данные: после подписания Рижского мира 1921 г. в СССР оставалось 1,6 млн католиков (в их числе по разным данным от 600 до 950 тыс. были поляками, т.е. около половины всех католиков). Католики были организованы в пять диоцезов, два апостольских викариата, ординариат Армянской католической церкви и экзархат католиков восточного обряда, к их услугам было 620 храмов, около 600 часовен и ораториев, порядка 400 священников, принадлежащих к десяти национальностям (больше всего было поляков).
Признавая очевидный факт, что католики по численности были в СССР четвертой конфессией, существенно уступавшей другим традиционным вероисповеданиям, научные редакторы делают неожиданный вывод: «католическая церковь… была, однако, для советских властей серьезной политической и общественной проблемой, несравнимо более важной, чем церкви других конфессий» (с. 19). В подтверждение этого положения они приводят цитату из предисловия достаточно известного в 1920-е годы партийного публициста М. Павловича (Вельтман (Волонтер) Михаил Лазаревич) к книге А. Метелева «Ватикан» (Л., 1926): «Среди всех церквей: православной, протестантской, еврейской, мусульманской и других, особым могуществом отличается католическая церковь» (с. 19). Причем приводят эту цитату на языке оригинала, хотя во всех других случаях русские цитаты даны в переводе. Вне всякого сомнения, за этим кроется намерение убедить читателей, прежде всего польских, в том, что католическая церковь преследовалась в СССР жестче других вероисповеданий. С этой же целью они объясняют причины такого отношения: принадлежность к всемирному католическому сообществу, международный авторитет папы и Ватикана, поддерживающего дипломатические отношения с правительствами западных государств, а самое главное, что «руководящий центр католической церкви, осуждающий коммунистические религиозные преследования, находился вне границ этого государства и вне всякого контроля. Поэтому он считался советскими властями самым грозным противником и главным препятствием в их стремлении к введению коммунистического устройства» (с. 17). На самом же деле Павлович говорил о вселенской церкви как таковой, а не о католической церкви в СССР, крайне ограниченной в возможностях общения с Ватиканом даже после международного признания советского правительства государствами с преобладанием населения, исповедующего латинский католицизм. Хотя хорошо известно, что в СССР одинаково жестко преследовались все конфессии, трактовавшиеся властями как организационные структуры, пропагандирующие альтернативную марксизму идеологию, а самыми опасными противниками и препятствиями в деле строительства социализма для советского правительства были православие и ислам1 просто в силу численности исповедующих эти вероучения людей (в 1926 г. только восточнославянское население насчитывало 113 725 023 человека, среди 9 437 502 «остальных» (народы Поволжья, Сибири, Дальнего Востока) также было немало православных, не менее 15 млн человек исповедовали ислам)2.
Хотя первый документ сборника датируется 17 апреля 1922 г., научные редакторы достаточно подробно осветили взаимоотношения государства и католической церкви с момента введения в жизнь декрета Совнаркома РСФСР от 23 января 1918 г. об отделении церкви от государства. С этой целью они использовали включенный в сборник меморандум МИД Польши от июня 1923 г. о преследовании Римско-католической церкви в СССР и московском процессе архиепископа Я.Ф. Цепляка (J. Cieplaka), апостольского администратора Могилевского архидиоцеза и Минского диоцеза, фактического руководителя католической церкви в Советском Союзе.
Включение в введение сюжета о начальном этапе противостояния Советского государства и католической церкви понадобилось авторам для объяснения причин, почему открытое в 1921 г. в Москве польское посольство лишь фиксировало факты гонения на католическую церковь, но предпочитало не ставить этот вопрос перед НКИД СССР самостоятельно, без участия дипломатов других католических стран (док. 87), или же рекомендовало, чтобы протесты исходили от прихожан или клира, и только в случае их игнорирования властями могло бы последовать вмешательство посольства. Исходя из публикуемых документов, они называют несколько причин. Во-первых, потому что католическая церковь имеет вселенский, а не национальный характер, в связи с чем всеми вопросами ее деятельности в СССР должен был заниматься Ватикан, а не Варшава, хотя существенная часть католиков в Советском Союзе была поляками (док. 21). Во-вторых, в ст. VII Рижского мирного договора 1921 г. было записано, что православная церковь в Польше и католическая церковь в советских республиках «имеют право, в пределах внутреннего законодательства, самостоятельно устраивать свою внутреннюю церковную жизнь»3, т.е. они должны были действовать в полном соответствии с внутренним законодательством стран проживания (док. 1, 3). Поэтому попытки втянуть советскую сторону в диалог о притеснении польского клира и прихожан не давали результата. Более того, как следует из документов, польский клир, по крайней мере в 1922 г., считал, что Рижский договор дал ему право руководствоваться в своей религиозной практике не советским, а польским внутренним законодательством (док. 1, 7), и это конечно же приводило к конфликту с советскими органами власти. В-третьих, польские дипломаты в СССР констатировали, что Ватикан в ослаблении православной церкви в СССР увидел для себя шанс поглощения православной церкви католической, поэтому старался поддерживать хорошие отношения с советским правительством и отказывался от решительных протестов в связи с преследованием католической церкви (док. 13, 39 и др.).
Во введении достаточно подробно освещены такие вопросы, как арендные платежи церковных общин за пользование национализированными церковными зданиями, сопротивление клира и мирян решению властей об изъятии церковных ценностей в связи с голодом 1921–1923 гг. (авторы почему-то датируют его только 1923 г. и географически ограничивают лишь южными районами СССР, хотя, как известно, особо катастрофическим положение было в Поволжье), а также формальная ликвидация католических приходов и их замена инициативными группами прихожан, так называемыми «двадцатками».
Наивысшим проявлением борьбы Советского государства с католической церковью авторы предисловия совершенно обоснованно называют судебные процессы против духовенства, самым громким и показательным из которых был суд 21–23 марта 1923 г. над 14 священниками (док. 39, 40, 43, 44, 45) во главе с архиепископом Я.Ф. Цепляком, завершившийся суровыми приговорами вплоть до смертной казни одного из осужденных. Наиболее болезненным последствием этих процессов они называют уничтожение в СССР католической иерархии, явно исполняющей свои функции. Правда, из документов сборника следует, что Ватикан с таким положением не смирился и периодически проводил тайные процедуры рукоположения в епископы.
Совершенно естественно, учитывая преобладание поляков среди католиков в СССР, что репрессированных священников-поляков в абсолютных цифрах было больше, чем католических священников иных национальностей. Но это не значит, что католические священники, окормлявшие паству иных национальностей, например немцев Поволжья, Украины, меньше преследовались властями. Преследования в Советском Союзе в межвоенный период церквей и религиозных организаций, в том числе католических, имели системный, а не выборочный характер. Поэтому именно как предвзятостью нельзя объяснить утверждение авторов введения, что «репрессии в отношении католической церкви и несоблюдение властями гарантий Рижского трактата советская пропаганда обосновывала антисоветской деятельностью его духовенства польской национальности», которое они подкрепляют ссылкой на статью в киевской польскоязычной газете «Серп» от 28 февраля 1928 г. Совершенно естественно, что газета для поляков писала о ксендзах-поляках. Более весомой представляется ссылка на работу французского автора 1930 г., который, в свою очередь, ссылался на не названную московскую газету: «Каждый ксендз – антиреволюционер, каждое религиозное действие – антисоветское, каждый идущий в костел виновен в оскорблении революции и ее принципов» (цитата корявая из-за тройного перевода: с русского на французский, потом на польский и снова на русский). Газета писала о католических священниках как таковых, но не о поляках, т.е. и в этом случае напрашивается вывод, что авторы введения стремятся убедить читателей, что именно поляки-католики подвергались в СССР наибольшим репрессиям. Но эта точка зрения не подтверждается публикуемыми документами. Так, 11 февраля 1930 г. политический советник польского посольства в Москве А. Пониньский доносил в Варшаву: «Мнение некоторых католических сфер, якобы репрессии против католицизма в СССР были вызваны исключительно польскостью большей части духовенства или же какой-то особой связью священников поляков с Польской республикой, не только ошибочно, но и отвечает намерениям Советов, которые хотели бы свести широкую проблему будущего католицизма в России к скромным рамкам польско-советского спора, как бы то ни было имеющего в международных отношениях второстепенный характер» (док. 70).
Во второй части введения перечисляются польские дипломаты, авторы наиболее глубоких аналитических документов о положении католической церкви в СССР (Р. Кнолль, С. Патек и А. Пониньский), показывается деятельность МИД Польши и польского епископата по ознакомлению западных правительств и Ватикана с имеющимися у них сведениями о судьбе католической церкви и католиков в СССР. Этот раздел написан достаточно корректно, если не считать грубейшей ошибки, допущенной авторами введения. В числе перечисляемых ими польских министров иностранных дел неожиданно оказался Владислав Скшиньский, который никогда этот пост не занимал. Министром иностранных дел был его брат, Александр Скшиньский. О том, что это не случайная описка, свидетельствуют приводимые даты жизни В. Скшиньского – 1873–1938 гг., в то время как в действительности он умер годом раньше, а А. Скшиньский – еще раньше, в 1931 г. Есть и другие досадные оплошности. Например, применительно к началу 1920-х годов Петроград многократно называется Петербургом. Интересно, как бы реагировали польские читатели, если бы Катовице и после 1956 г. российские авторы продолжали называть Сталиногрудом? Очень странно, что этих ошибок не заметили и рецензенты, один из которых, В. Матерский, занимается историей польско-советских отношений уже более полувека. Немало в сборнике и опечаток, что свидетельствует о недостаточно тщательной редакторской работе.
Последняя, третья часть введения имеет сугубо археографический характер, о ее содержании мы уже писали в начале рецензии.
Особо следует сказать о примечаниях в количестве 1147 ссылок. Они сделаны на хорошем профессиональном уровне, приводимые в них сведения биографического, географического, событийного и прочего характера хорошо выверены и могут быть полезными российским исследователям.
Подробная характеристика включенных в сборник документов представляется нам излишней, тем более что документы далеко не равноценны по значимости. Наибольший интерес представляют аналитические справки, подготовленные польскими дипломатами (док. 3, 11, 13, 16, 26, 29, 30, 34, 35, 39, 41, 43, 57, 59, 60, 70, 76, 87, 90, 102). Они не только характеризуют положение католической церкви в СССР, но и обогащают источниковую базу исследований о положении других церквей (док. 76, 86) и религиозных организаций в Советском Союзе в период острейших на них гонений. Поэтому эти свидетельства могут быть интересны и полезны не только российским, но и украинским и белорусским исследователям. Кстати, с текстом сборника при большом желании можно познакомиться в сети Интернет.
1 Показательно в этом отношении заявление члена коллегии Наркоминдела РСФСР Я. Ганецкого польским дипломатам в 1922 г.: «Положение католического костела будет лучше, чем православной церкви в Польше... Прежде всего мы боремся с церковью и с ней у нас трудности» (док. 2).
2 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_СССР (дата обращения: 02.09.2023).
3 Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. III. Апрель 1920 г. – март 1921 г. М., 1965. С. 527.
About the authors
Gennadij F. Matveev
Lomonosov Moscow State University
Email: gfmatveev@yandex.ru
Dr. Sci. (Hist.), Professor
Russian Federation, MoscowElena Yu. Matveeva
Institute of Scientific Information on Social Sciences, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: len.mat2009@yandex.ru
Cand. Sci. (Hist.)
Russian Federation, MoscowReferences
- Dokumenty i materialy po istorii sovetsko-pol’skih otnoshenij. T. III. Aprel’ 1920 g. – mart 1921 g. [Documents and materials on the history of Soviet-Polish relations. Vol. III. April 1920 – March 1921]. Moskva, 1965. (In Russ.)
Supplementary files