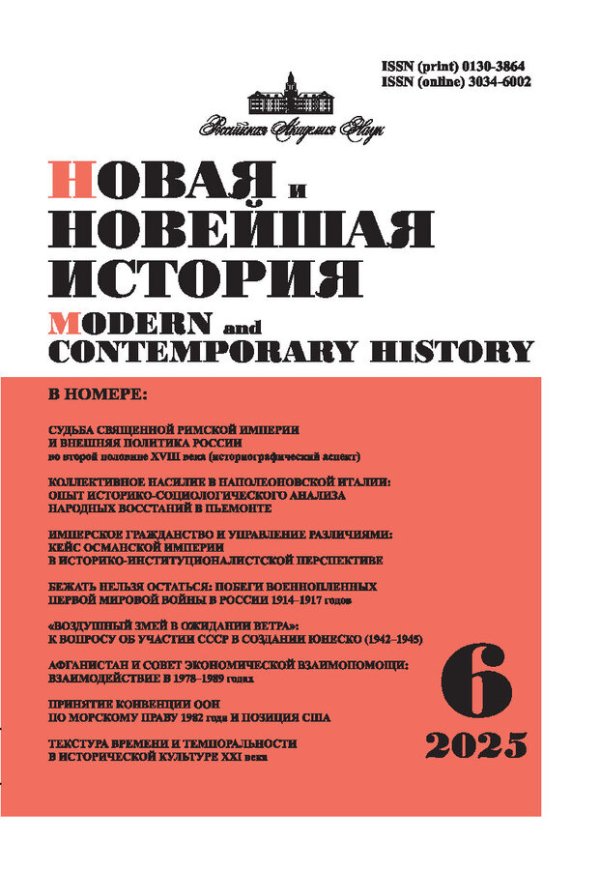“Mr. Thiers’ Republic” in the Assessments of Russian Diplomatians, August 1871 – October 1872
- Authors: Cherkasov P.P.1
-
Affiliations:
- Institute of World History, Russian Academy of Sciences
- Issue: No 3 (2024)
- Pages: 78-94
- Section: Modern history
- URL: https://journal-vniispk.ru/0130-3864/article/view/259818
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0130386424030079
- ID: 259818
Cite item
Full Text
Abstract
The author explores the history of the establishment of the republican system in France in the early 1870s. The period is associated with the activities of the first President of the Third Republic, Adolphe Thiers (1871–1873). Russian diplomats in Paris, Ambassador Prince Nikolai Orlov and Embassy Counselor Grigory Okunev, witnessed first-hand Thiers’ efforts to stabilise France after its defeat in the War of 1871. They developed a trusting relationship with Thiers, who initiated Russian diplomats into his plans. For this reason, the study of dispatches, letters, and analytical notes regularly sent from the Paris Embassy to St. Petersburg is of particular interest to those who study the initial period of the formation of the Third Republic. Until recently, this type of sources has attracted little attention on the part of researchers. This article fills up this obvious gap. The study of diplomatic communications demonstrates that Russian diplomats were quite objective in their analysis of the internal political processes taking place in France after the end of the Franco-German War. They gave a balanced assessment of Thiers’ work, tracing the evolution of his views from constitutional monarchist to conservative republican. The chronological framework of the article covers the period from Thiers’ election as President of the Republic in August 1871 to October 1872, when a crisis arose in his relations with the monarchist majority of the National Assembly.
Full Text
Осенью 1871 г. на развалинах рухнувшей Второй империи появились первые очертания Французской республики – третьей по счету в истории Франции. Республиканский режим, провозглашенный в Париже в сентябре 1870 г., многим тогда казался неустойчивым и недолговечным. Временный характер имело и сформированное правительство «национальной обороны» во главе с генералом Ж. Трошю, а также сменившее его в феврале 1871 г. правительство А. Тьера, старого либерала-орлеаниста, одного из столпов Июльской монархии Луи-Филиппа. Окончательный выбор государственного строя Франции должен был определиться с принятием новой конституции, которую еще предстояло разработать.
После заключения 10 мая 1871 г. Франкфуртского мира, завершившего войну с Германией, самым авторитетным политиком во Франции считался «глава исполнительной власти» А. Тьер (1797–1877)1. Консервативно настроенные «благонамеренные французы», пережившие ужасы Парижской коммуны, видели в нем «Спасителя Отечества».
Поэтому, когда Национальное собрание решило учредить пост президента республики, подавляющее большинство депутатов – республиканцы, орлеанисты и даже легитимисты – согласилось с тем, что главой государства до принятия конституции должен стать именно Тьер. Правда, образовавшаяся консервативная коалиция не была едина в отношении будущего политического режима во Франции.
Республиканцы желали окончательного утверждения республики, а монархисты (орлеанисты и легитимисты) рассматривали спонтанно провозглашенный в сентябре 1870 г. республиканский строй как вынужденный промежуточный этап к восстановлению монархии Бурбонов – старшей или младшей (Орлеанской) ветви династии.
О реставрации монархии, но только в виде бонапартистской империи, мечтали и сторонники свергнутого Наполеона III. Между этими тремя монархическими течениями существовали серьезные противоречия. Именно это и обусловило их вынужденный компромисс: согласие с кандидатурой Тьера на пост временного президента Франции. Для орлеанистов он был историческим лидером, а легитимисты рассматривали его как наименьшее зло по сравнению с последовательными республиканцами.
31 августа 1871 г. Национальное собрание приняло «закон Риве» 2(491 – «за», 94 – «против»), продлив властные полномочия А. Тьера, но уже в качестве главы государства. Закон состоял из трех статей. Первая гласила: «Глава исполнительной власти примет титул президента Французской республики и будет продолжать исполнять под контролем Национального собрания, поскольку оно не завершило своей работы, функции, которые ему были предоставлены декретом от 17 февраля 1871 г.». Вторая статья определяла полномочия президента: осуществление контроля над исполнением законов; назначение и снятие министров при подотчетности совета министров перед парламентом; каждый из актов главы государства должен предварительно быть завизирован соответствующим министром; глава государства наделяется правом прямого обращения к Национальному собранию всякий раз, когда он сочтет это необходимым. Третья статья закона фиксировала ответственность президента республики перед Национальным собранием3.
Хотя полномочия Тьера как главы государства были существенно ограничены парламентом, тем не менее личный авторитет и богатый политический опыт позволяли ему нередко выходить за рамки своих прерогатив без риска быть обвиненным в превышении власти. Основным инструментом его тактики в нужный момент были прямые обращения к депутатам, которых обычно ему удавалось убедить в правильности своих действий.
Умело он пользовался и предоставленным правом назначения министров. Так, уже 1 сентября 1871 г., на следующий день после избрания президентом, Тьер поставил во главе Кэ д’Орсе своего давнего друга и ровесника графа Ш. де Ремюза, получив возможность контролировать и направлять действия французской дипломатии. Тщательно Тьер подбирал и других претендентов на министерские посты. Руководство текущей работой правительства Тьер возложил на Л. Дюфора, своего давнего соратника еще времен Июльской монархии. Дюфор получил ранг вице-председателя совета министров.
Так или иначе влияние Тьера на государственные дела первое время было преобладающим даже в условиях его подконтрольности Национальному собранию. В парламентских кулуарах, как свидетельствует Ш. де Мазад, один из биографов Тьера, говорили: «В монархических странах король царствует, но не управляет, а у нас г-н Тьер не царствует, но управляет»4. «Президент [Тьер], – отмечает современный французский политолог и историк, – обладает королевскими полномочиями в парламентской системе, но продолжает нести ответственность перед собранием, осуществляя исполнительную власть под своим контролем, имея право быть заслушанным ею, когда он этого пожелает»5.
Поскольку устройство центральных властей, включая президентство, до принятия во Франции новой конституции продолжало оставаться временным, республиканский строй, возникший на обломках Второй империи, французские историки часто называют «Республикой господина Тьера» (La République de Monsieur Thiers), учитывая определяющую роль первого президента Третьей республики в ее становлении.
В данной статье рассматриваются первые девять месяцев существования «Республики господина Тьера», как она виделась русским дипломатам в Париже – послу князю Н.А. Орлову и советнику посольства Г.Н. Окуневу6. Их депеши и аналитические записки составили документальную основу проведенного исследования. Хронологические рамки охватывают период от избрания Тьера президентом республики в августе 1871 г. до обострения кризиса в его отношениях с монархическим большинством Национального собрания в сентябре-октябре 1872 г., когда противниками главы государства было принято решение о его смещении.
Россия официально признала республиканское правительство Франции в феврале 1871 г., а уже летом того же года в Санкт-Петербург прибыл французский посол генерал Ле Фло7. На исходе сентября того же года Александр II признал Тьера в статусе президента Французской республики. Этому решению предшествовала официальная нота, врученная генералом Ле Фло 29 сентября 8 товарищу министра иностранных дел России В.И. Вестману9, который замещал отсутствовавшего в столице князя Горчакова. «Имею честь информировать вас, – говорилось в ноте, – что Национальное собрание Франции, учитывая выдающиеся заслуги господина Тьера перед страной на протяжении последних шести месяцев, а также гарантии, определяющие продолжительность полномочий, которыми он уже был наделен, даровало ему… титул Президента Французской Республики. Доводя до сведения российского правительства эту новую политическую квалификацию главы моего правительства, считаю своим долгом заверить его в том, что, полностью разделяя взгляды прославленного Президента Республики, я приложу все свои усилия к тому, чтобы заботиться о сохранении и укреплении дружеских отношений и доброго согласия, существующих между Францией и Российской империей»10.
Ответом на это обращение стало признание Россией президентского статуса Тьера, после чего встал вопрос о назначении посла в Париж, тем более что генерал Ле Фло уже находился в Санкт-Петербурге.
Выбор Александра II и князя Горчакова остановился на генерал-адъютанте князе Николае Алексеевиче Орлове (1827–1885), который в то время представлял Россию при дворе королевы Виктории. Поскольку Орлову предстояло более восьми лет возглавлять российское посольство во Франции и он станет для царя и канцлера Горчакова основным источником информации из Третьей республики, назначенный посол заслуживает более подробного представления.
Сын одного из самых влиятельных вельмож николаевского царствования, грозного начальника Третьего отделения, а впоследствии сподвижника Александра II, поручившего Алексею Федоровичу Орлову в 1856 г. переговоры в Париже о завершении Крымской войны, Орлов-младший был одновременно военачальником, дипломатом и государственным деятелем11. Получив домашнее образование, он прослушал вместе с великим князем Константином Николаевичем курс законоведения, прочитанный специально для них бароном М.А. Корфом. Определенный в камер-пажи высочайшего двора, юный Орлов в 1843 г. выдержал офицерский экзамен при Пажеском корпусе12, после чего получил назначение в лейб-гвардии Конный полк в чине корнета. Через год он уже флигель-адъютант, поручик, состоящий при великом князе Константине Николаевиче, которого сопровождал в поездках за границу.
Во время Венгерской кампании 1849 г. принимал участие в боевых действиях; в 1854 г. был произведен в полковники и направлен в Дунайскую армию, где участвовал в войне против турок. При осаде Силистрии в мае 1854 г. Орлов получил девять тяжелых ранений и лишился глаза. Был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени и золотым оружием с надписью «За храбрость». В 1856 г. произведен в генерал-майоры с назначением в свиту Е.И.В., а три года спустя отправлен чрезвычайным и полномочным посланником к Бельгийскому двору, где провел шесть лет. В декабре 1869 г. генерал-адъютант Орлов был назначен посланником в Вену, а в мае 1870-го переведен в Лондон, откуда в начале декабря 1871 г. был отозван, получив назначение в Париж.
Помимо военной и дипломатической деятельности, князь Орлов известен как военный историк и приверженец либеральных реформ. В написанной им работе «Мысли о расколе», содержавшей заметку «О евреях в России», он проводил мысль о необходимости большей веротерпимости.
В 1861 г. Орлов выступил с инициативой отмены в России телесных наказаний, которые он считал очевидным злом – «в христианском, нравственном и общественном отношениях». Телесные наказания, по его убеждению, не только унижали достоинство человека, но и не соответствовали духу времени. Это его предложение было рассмотрено Государственным советом и в 1863 г. принято с некоторыми поправками в виде законодательного акта.
Перед отъездом в Париж Орлов получил составленную Горчаковым и утвержденную Александром II инструкцию, датированную 11 декабря 1871 г.13 В этом документе был четко обозначен подход Российской империи к молодой Французской республике. Главное, чего в Петербурге ожидали от побежденной и ослабленной Франции, так это скорейшего ее восстановления как важного элемента европейского баланса сил, нарушенного в результате войны 1870–1871 гг. в пользу Германской империи. При этом послу предписывалось предостерегать Францию от реваншистских устремлений с целью не допустить ее новой войны с Германией. В 1870-е годы, в результате разочарования в попытках сближения со Второй империей14, приоритетное значение для Петербурга приобрели отношения с Берлином, а Парижу еще предстоял долгий путь, чтобы завоевать доверие России и претендовать на союзнические с ней отношения.
Первейшим условием возрождения Франции Александр II и канцлер Горчаков считали внутреннюю стабилизацию страны, недопущение в ней новых потрясений. Именно в этом направлении, как считали в Петербурге, действует президент Тьер, пытающийся бороться одновременно с двумя угрозами – революционной и реваншистской, что заслуживает всяческой поддержки со стороны России15.
«Наш августейший государь вдохновляется самыми дружественными намерениями в отношении Франции, какое бы правительство ею не управляло. Вы должны будете руководствоваться этим в своей деятельности. Его Императорское Величество желает, чтобы эта страна восстановилась и вернула себе принадлежащее ей место в Европе. И в этом по мере возможности ей будет обеспечена наша моральная поддержка», – с таким напутствием князь Орлов в середине января 1872 г. отправился в Париж16.
20 января он прибыл в столицу Франции, а уже на следующий день поехал в Версаль, где в присутствии Ремюза вручил верительные грамоты президенту Тьеру. Как сообщал в Петербург Орлов, вручение грамот прошло на удивление буднично, можно сказать, запросто. Приняв верительные грамоты, Тьер предложил Орлову позавтракать с ним, а затем пригласил посла вместе отправиться в Париж в своем экипаже. Дорога заняла около часа. Все это время Тьер оживленно беседовал с послом17.
Спустя несколько дней президент Тьер вновь пригласил к себе князя Орлова и вручил ему адресованное Горчакову личное письмо. В нем он выразил признательность своему «доброму другу» за столь удачный выбор посла и одновременно высказал надежду на взаимодействие Франции и России в укреплении мира в Европе, к чему стремится правительство Французской республики. «Я никогда не забуду той услуги, – добавил в заключение Тьер, – которую Его Величество Царь Александр оказал мне в прошлом году18, когда пытался помочь нам в организации переговоров о заключении перемирия. Прошу Вас поднести к его ногам дань моего глубокого уважения и признательности»19.
С приездом в Париж князя Орлова дипломатические отношения между Россией и Францией были восстановлены в полном объеме. Теперь депеши из французской столицы будут направляться в Петербург в основном за подписью посла, хотя составлялись все они, особенно первое время, статским советником Г.Н. Окуневым, который, отойдя на второй план, продолжал играть важнейшую роль в работе посольства20.
* * *
Первейшей задачей Тьера как президента республики оставалось преодоление катастрофических последствий войны с Германией. Он успешно начал, заключив 26 февраля 1871 г. с Бисмарком прелиминарный мирный договор, подтвержденный 10 мая того же года Франкфуртским миром21.
Утрата двух богатейших провинций – Эльзаса и Лотарингии – усугублялась обязательством Франции выплатить Германии до марта 1874 г. 5 млрд контрибуции (с дополнительными 5% годовых). К этому добавлялись возложенные на Францию расходы по содержанию германских оккупационных войск, остававшихся на ее территории вплоть до полной выплаты контрибуции.
Здесь на помощь А. Тьеру пришел барон А. де Ротшильд, крупный парижский банкир. Он убедил его в том, что Франция сможет без особых усилий выплатить эту колоссальную сумму, если государство под свои гарантии начнет выпускать займы. Тьер прислушался к совету Ротшильда. В июне 1871 г. с согласия Национального собрания Тьер санкционировал размещение первого займа на 2 млрд фр. Результаты превзошли все ожидания. Вдохновленная разгромом Парижской коммуны буржуазия была исполнена благодарности к «спасителю» и активно поддержала инициированную Тьером «патриотическую акцию». Число подписчиков по стране превысило 332 тыс. человек. В результате один только Париж принес казне 2,5 млрд фр. 22
Еще более успешным оказалось размещение второго займа, выпущенного в 1872 г. Собранные по подписке средства в 13 раз (!) превысили установленный правительством объем займа (3,5 млрд фр.). «Скажите, какая монархия могла бы добиться большего в столь короткий срок?» – так прокомментировало это событие консервативное издание Le Journal de débats23.
Все это позволило досрочно выплатить контрибуцию и дало Тьеру формальные основания добиваться вывода последних частей германских оккупационных войск с территории Франции. 15 марта 1873 г. на этот счет была подписана двусторонняя конвенция. Процесс вывода войск оккупантов завершился в июле того же года, уже после отставки Тьера, которого post factum назовут «Освободителем территории» и даже «Освободителем Франции». Впрочем, для него это будет слабым утешением после утраты власти.
«Республика, возглавлявшаяся Тьером, была таковой лишь по форме, но не по содержанию. Это была республика без республиканцев, ибо все важнейшие административные должности оказались в руках монархистов», – справедливо констатировала В.И. Антюхина-Московченко, авторитетный советский франковед24.
Принимаемые правительством и Национальным собранием решения нередко имели демонстративно антиреспубликанский характер: отмена празднования Дня провозглашения республики (4 сентября 1870 г.) и памятной даты установления Первой республики (22 сентября 1792 г.), разоружение Национальной гвардии и чистка ее командного состава, запрет деятельности Интернационала на территории Франции, тюремное заключение на срок от двух до пяти лет за пропаганду социалистических идей, разрешение принцам Орлеанского и Бурбонского домов вернуться из изгнания и возвращение им конфискованной в 1832 и 1848 гг. собственности. Большинство этих решений, за редким исключением, принималось с благословения президента Тьера25.
На всем протяжении его президентства в 39 департаментах сохранялось военное положение, введенное еще в июле 1870 г. Принимаемые меры, помимо прочего, должны были, по замыслу Тьера, произвести благоприятное впечатление на монархическую Европу с целью ослабления дипломатической изоляции Франции.
Деятельность Тьера как главы исполнительной власти, а затем президента республики протекала на фоне развернувшейся в Национальном собрании ожесточенной борьбы по вопросу государственного устройства Франции. Монархическое большинство (214 орлеанистов и 180 легитимистов из 645 депутатов) 26сочло, что после подавления Парижской коммуны и заключения мира с Германией настал желанный момент покончить с неустойчивой республикой. Правда, между двумя этими течениями не было согласия относительно модели монархии и кандидатуры будущего короля – станет ли им граф Парижский, внук Луи-Филиппа, или граф де Шамбор, внук Карла X.
Со своей стороны, бонапартисты, чья фракция в Национальном собрании насчитывала всего 20 депутатов, мечтали о восстановлении империи. Они связывали свои надежды если не с низложенным и больным Наполеоном III, то с его 15-летним наследником Эженом Луи Жаном Жозефом («принцем Лулу»). Оба они, как и бывшая императрица Евгения, нашли убежище в Англии.
Пока шли эти споры, старый орлеанист Тьер представлялся противникам республики единственно приемлемой для них компромиссной фигурой.
А что же сам Адольф Тьер? Какова была его собственная позиция в происходивших спорах о государственном устройстве Франции, и как он отнесся к своему избранию президентом республики?
В душе Тьер оставался все тем же умеренным либералом, считавшим конституционную монархию лучшим политическим режимом для Франции. Но трагические потрясения, связанные с Парижской коммуной, произвели необратимые изменения в его мировоззрении. В отличие от подавляющего большинства своих единомышленников-орлеанистов, не говоря уже о легитимистах и бонапартистах, «палач Коммуны» сумел глубоко проанализировать недавние события и сделать для себя неутешительный, но безоговорочный вывод: немедленная реставрация монархии чревата новым революционным взрывом. Поэтому он полагал необходимым сохранить по крайней мере на какой-то срок республику, но республику сугубо консервативную.
Когда-то давно, выступая в феврале 1850 г. в Законодательном собрании, Тьер, имея в виду реставраторские устремления Луи-Наполеона к возрождению бонапартистской империи, говорил: «Республика – это форма правления, которая сеет между нами наименьшую рознь»27.
Вот и теперь, в 1871 г., он считал, что сохранение республиканского строя поможет успокоить страсти, после чего только и можно будет подумать о восстановлении конституционной монархии. Сколь долго продлится этот переходный период? На этот вопрос у него не было ответа. Но именно в умиротворении возбужденного и разобщенного французского общества он видел свою главную миссию.
Разумеется, Тьер первое время должен был скрывать свои истинные намерения даже от единомышленников-орлеанистов. Он погрузился в текущие дела, проводя реформы, которые считал первоочередными. Для восстановления деморализованной поражением армии была введена всеобщая воинская повинность сроком в пять лет, по примеру Германии, обновлен ее высший командный состав. Закон от 22 июля 1872 г. лишил военнослужащих, среди которых было немало как республиканцев, так и монархистов (в большинстве бонапартистов), права участвовать в выборах, превратив армию в «Великую немую» (la Grande Muette). В рамках административной реформы прежний порядок прямых выборов мэров крупных городов – потенциальных очагов волнений – был заменен их назначением правительством.
Мятежная столица была наказана упразднением должности мэра и введением особого порядка управления. Высшим должностным лицом в Париже отныне становился назначаемый правительством префект департамента Сена, куда была включена столица Франции. Расширенные полномочия получили префекты других департаментов, подотчетные только центральной исполнительной власти. Финансовая политика главы государства, озабоченного выплатой контрибуции, характеризовалась введением новых косвенных налогов.
Процесс становления республиканского строя во Франции до приезда в Париж князя Орлова находился в фокусе внимания российского поверенного Окунева. Русский дипломат имел возможность получать информацию из первых рук, причем не только от министра иностранных дел Ж. Фавра и сменившего его на этом посту Ш. де Ремюза, но и от самого президента А. Тьера, который довольно часто принимал Г.Н. Окунева. При этом Тьер был с ним достаточно откровенен, не скрывая сложности своих отношений с Национальным собранием. На одной из встреч, состоявшейся вскоре после избрания президентом, Тьер признался Окуневу, что испытывает двойное давление – со стороны правых и левых, выдвигающих несовместимые требования не только по принципиальным вопросам будущего государственного устройства Франции, но и по менее значимым. Так, республиканцы настаивали на немедленном возвращении центральной власти (президента, правительства и парламента) из Версаля в Париж. Монархисты решительно возражали, считая, что столица все еще не оправилась от потрясений Коммуны и представляет угрозу для безопасности формировавшегося режима28.
В этом вопросе Тьер склонялся на сторону монархистов, хотя понимал, что дальнейшее пребывание правительства в Версале, во-первых, создает в стране и за ее пределами невыгодное впечатление об устойчивости нового режима; во-вторых, позволяет радикалам чувствовать себя в Париже хозяевами; в-третьих, затрудняет административную, финансовую и экономическую деятельность. Бюрократический аппарат, многократно разросшийся в годы империи, частично перебрался в Версаль, а другая его часть оставалась в столице, что тормозило принятие неотложных решений. Намерение же сосредоточить все органы управления в Версале, как предлагали правые, представлялось Тьеру нереалистичным, так как в этом небольшом городке не было достаточно площадей для размещения всех правительственных учреждений29.
Лавируя между монархистами и республиканцами, Тьер с первых дней президентства вынужден был нередко прибегать к голосованию о доверии, чтобы добиться утверждения принимаемых им решений. «Он [Тьер] сказал мне, – докладывал Окунев в Петербург, – что изменения, недавно внесенные в организацию исполнительной власти, вызывались настойчивыми требованиями подавляющего большинства во Франции, которое в высшей степени чувствовало потребность в стабильности и хотело любой ценой выйти из состояния неопределенности, в которое ввергало страну соперничество партий. Франция проявила к нему [Тьеру] большее расположение, нежели Собрание, хотя у него и не было особых оснований жаловаться на него; всего лишь тридцать четыре голоса высказались против декларации о доверии, которого он добивался»30.
Противоречия между президентом и монархическим большинством парламента, как сообщал в Петербург Окунев, затрагивали и такой болезненный для Франции вопрос, как судьба бывших коммунаров и их сторонников. Правые требовали предельной жесткости в осуждении участников Коммуны и обвиняли правительство Тьера в недопустимой слабости, поощрявшей якобы «радикальную партию». Сам же Тьер после подавления Коммуны и наказания активных ее участников считал необходимым ради успокоения страны ограничить деятельность военных судов, продолжавших выносить смертные приговоры. Положение осложнялось тем, что учрежденная Национальным собранием Комиссия по помилованиям в подавляющем большинстве состояла из монархистов и была настроена на продолжение репрессий. Об этом Окуневу рассказал Ремюза. Он же доверительно сообщил русскому дипломату, что сам «господин Тьер… склоняется к умеренности»31.
В вопросе о судьбе коммунаров неожиданно возник один деликатный вопрос, затрагивавший интересы России. В ходе «кровавой недели» (21–28 мая 1871 г.) версальцы чинили расправу над парижскими коммунарами, среди арестованных оказались семеро поляков, считавшихся российскими подданными. Впоследствии были арестованы еще 20 поляков-коммунаров, тоже российских подданных, о чем Окунев сообщал в Петербург32. Он докладывал также, что Тьер, демонстрирующий «искренне расположение» к России, вместе с тем вынужден оглядываться и на польскую эмиграцию во Франции, традиционно настроенную антироссийски. Окунев напомнил также, что французские консульства в Леванте с давних пор возглавляются поляками, которые активно противодействуют российским интересам на Востоке. Посмотрим, заключал русский представитель в Париже, насколько уверения здешнего правительства в его расположенности к России окажутся искренними33.
Требование России о выдаче ей поляков-коммунаров так и не было удовлетворено. Тьер не решился на громкий конфликт с польской диаспорой в Париже, пользующейся широкой поддержкой во французском обществе.
Первым после избрания в феврале 1871 г. Национального собрания тестом на устойчивость нового режима стали выборы в Генеральные советы (органы местного самоуправления) департаментов, состоявшиеся в два тура – 8 и 15 октября 1871 г. По всей стране было избрано 2860 советников и 86 (по числу департаментов) председателей департаментских Генеральных советов. Результаты выборов показали, что две трети избранных советников ориентировались на умеренных республиканцев, а среди председателей Генеральных советов департаментов 56 оказались консерваторами, 18 – левыми республиканцами, 12 – радикалами34.
В состав Генеральных советов прошло всего пять бонапартистов, что показало крайне низкий уровень доверия к сторонникам восстановления империи35. В целом же итоги проведенных выборов укрепили позиции Тьера перед лицом монархического большинства Национального собрания.
Первая сессия новых Генеральных советов в составе председателей их департаментских отделений открылась в Париже 23 октября 1871 г. Ее работа продолжалась до конца ноября.
Разумеется, общенациональные выборы в Генеральные советы не прошли мимо внимания Окунева. Своими наблюдениями и соображениями он поделился с руководством министерства иностранных дел36.
Главный вывод, который сделал русский дипломат, сводился к тому, что «в подавляющем большинстве случаев результаты состоявшихся выборов оказались благоприятными для действующего правительства, благоразумно не поставившего своих сторонников перед дилеммой: Монархия или Республика. Как орлеанисты, так и республиканцы вынуждены были поддержать политику господина Тьера».
Что касается легитимистов, в большинстве своем крупных землевладельцев, то они, можно сказать, потерпели неудачу, констатировал русский поверенный. В Генеральные советы не прошли даже многие из «самых известных депутатов от правых в Национальном собрании»37. Окунев сделал вывод, что итоги выборов в органы местного самоуправления показали возросшую популярность на местах президента Тьера и низкий уровень доверия к депутатам-легитимистам. Одновременно русский дипломат отметил, что многие французы воздержались от участия в голосовании, что «свидетельствовало об усталости страны, которую слишком часто ставят перед выбором, а также, возможно, о ее инертности и недостатке гражданской ответственности (civisme), что проявилось и на последних муниципальных выборах, и ранее на выборах в Национальное собрание».
Результаты выборов в Генеральные советы придали Тьеру больше уверенности в его начинавшемся противоборстве с монархистами. 26 декабря 1871 г. в обращении к Национальному собранию Тьер впервые публично высказался о своих предпочтениях относительно государственного устройства Франции. Президент призвал депутатов «дать республике честную попытку», проявить к ней «лояльность» и «не уподобляться актерам, примеряя, словно роли, ту или иную форму правления с подсознательным желанием неудачи». «Я обращаюсь к тем, – заявил Тьер, – кто хочет, чтобы попытка [утверждения республиканского строя] увенчалась успехом. Я обращаюсь ко всему Собранию и особенно к тем, кто обеспокоен продолжением существования республики. И я один из них»38.
Сигнал, поданный главой государства, был услышан, но по-разному воспринят соперничающими фракциями Национального собрания. Республиканцы не поверили в искренность Тьера, для которых он продолжал оставаться чужим, а монархисты, включая орлеанистов, перестали считать его своим.
Вторым тестом на устойчивость «Республики господина Тьера» стали частичные выборы в Национальное собрание, состоявшиеся 7 января 1872 г. Из 15 депутатских вакансий республиканцы заполнили 10, включая 1 место от Парижа39. Это можно было записать в актив не только республиканской партии, расширившей свое представительство в Национальном собрании, но и президенту Тьеру. «Что касается нас, республиканцев, – заметил один из них по результатам выборов, – то нам остается теперь доказать, что республика совместима с порядком и что он будет обеспечен навсегда»40. А порядок многие французы связывали прежде всего с президентом Тьером.
Успехом для правительства Тьера счел итоги частичных выборов и Окунев. Особое значение он придавал победе республиканского кандидата в Париже, обратил внимание и на успех республиканцев-радикалов на юге Франции. Одновременно он фиксировал углублявшийся раскол в консервативной коалиции, когда стало трудно достигнуть договоренности не только между двумя ее фракциями – орлеанистской и легитимистской, – но и внутри каждой из этих фракций. Отсутствие единства, по мнению Окунева, побудило какую-то часть монархического электората отдать предпочтение бонапартистам, получившим в результате три дополнительных места в Национальном собрании.
Внутренние распри Окунев наблюдал и в рядах умеренных республиканцев. Зато у радикалов, как заметил русский дипломат, царили единодушие и дисциплина. «Все это, – резюмировал Окунев в депеше, отправленной в Петербург, – позволяет сделать вывод, что победа досталась крайним партиям – радикалам и бонапартистам. Это лишний раз свидетельствует о невозможности достоверно предвидеть будущее Франции. Это будущее ее имеет тем более смутные очертания, что межпартийная разобщенность лишь усиливается»41.
Сколь бы ни были обнадеживающими для Тьера результаты выборов в Генеральные советы и довыборов в Национальное собрание, продолжение его деятельности на посту главы государства в решающей степени зависело от его отношений с парламентом, а они становились все более напряженными.
Когда в январе 1872 г. собрание отклонило предложенные президентом новые налоги, призванные, как он полагал, улучшить финансовую ситуацию, Тьер прибегнул к своему проверенному инструменту. Он объявил, что намерен подать в отставку.
В этот момент на его стороне неожиданно выступили республиканцы. Они предупредили депутатов-монархистов о возможности гражданской войны в случае ухода президента. Эти угрозы подогревались разговорами об активизации бонапартистов. Вспомнили, что армейским корпусом, дислоцированным неподалеку от Версаля, командует бывший генерал-адъютант Наполеона III генерал Доней. Не был уверен в надежности армии и маршал Мак-Магон, заявивший 20 января, что в случае отставки Тьера армия могла бы потребовать возвращения императора Наполеона III.
Обо всем этом Тьер поведал князю Орлову, прибывшему в Париж как раз в разгар министерского кризиса. Принимая у себя русского посла, Тьер отметил вызывающее поведение горячих приверженцев восстановления монархии и высказал опасение, что «всякая попытка нарушения “пакта Бордо” 42 могла бы разжечь пламя междоусобной войны»43. В этом вопросе Тьер был солидарен с республиканцами. В результате монархисты вынуждены были отступить. На этот раз партия осталась за Тьером.
В ходе встречи с русским послом Тьер высказал предположение, что Александр II вряд ли приветствовал бы возвращение Наполеона III к власти. Затем он неожиданно поинтересовался мнением Орлова: кого император Александр хотел бы видеть во главе Франции?
Удивленный откровенностью Тьера, Орлов, не задумываясь, ответил с улыбкой: «Если бы Император был французским избирателем, могу предположить, что он голосовал бы за графа де Шамбора»44.
На одной из последующих встреч А. Тьер признался русскому послу, что по его поручению министр внутренних дел В. Лефран подготовил законопроект, существенно ограничивающий активность монархистов, включая их печатные издания. В этой законодательной инициативе президент рассчитывает в Национальном собрании на поддержку левых. «Если монархисты победят, я немедленно уйду», – сказал Тьер. А потом добавил: «От кризиса, по моему убеждению, выиграет только Наполеон»45.
22 февраля 1872 г. «закон Лефрана» был внесен на рассмотрение парламента. Как и ожидалось, монархисты – и легитимисты, и орлеанисты – решительно воспротивились его принятию, пригрозив свергнуть правительство Тьера. Одновременно они настаивали на том, чтобы законодательно определить существующий режим как «Временную Республику».
Президент попытался перехватить инициативу. Явившись 8 марта в законодательную комиссию, он заявил, что немедленно сам уйдет в отставку в случае отклонения «закона Лефрана» или внесения в него каких-то изменений.
Но в этот момент появились новые обстоятельства, вынудившие Тьера дать обратный ход. Ему стало известно, что монархисты, в том числе орлеанисты, активно подыскивают, кем бы его заменить на посту главы государства46. Одним из таких кандидатов называли 50-летнего графа Парижского (герцога Омальского), предпоследнего из пяти сыновей покойного короля Луи-Филиппа.
Кроме того, пошли разговоры о предполагаемой высадке на берегу Нормандии Наполеона III и одновременном десантировании в Провансе Иностранного легиона, размещенного в Алжире. Легионеров, как утверждали, мог бы повести на Париж принц Наполеон-Жером – тот самый, кто неудачно баллотировался в Национальное собрание от Корсики.
Как докладывал в Петербург князь Орлов, президент Тьер скептически оценивал вероятность бонапартистской интервенции, но все же распорядился ввести в Ла-Манш четыре военных корабля для обеспечения безопасности французского побережья.
Сам Орлов не склонен был разделять скепсис Тьера в отношении бонапартистской угрозы. «Большинство моряков, находящихся на этих кораблях, бонапартисты, – отмечал посол. – Я собрал очень точные сведения. Армия настроена примерно так же. Молодые офицеры только и мечтают о возвращении императора, а большинство их начальников втайне желают того же»47.
Гораздо больше бонапартистской угрозы Тьер опасался объединения против него монархистов. Поэтому он посчитал целесообразным не доводить конфликт до разрыва. 11 марта президент вновь явился в парламентскую комиссию и объявил, что согласен с внесенными депутатами в «закон Лефрана» поправками.
Уступчивость Тьера во многом объяснялась его желанием не расшатывать неустойчивый режим до полного вывода немецких оккупационных войск с территории Франции. Тем не менее сделанная им уступка многими была расценена как личное поражение Тьера, чем не преминули воспользоваться его противники из правого лагеря.
Опасения главы государства относительно намерения вчерашних единомышленников-орлеанистов подыскать ему замену не были беспочвенными. В мае 1872 г. орлеанисты, разочаровавшиеся в Тьере, решили выдвинуть на пост президента герцога Омальского, возвращению которого из изгнания в 1871 г. активно способствовал сам Тьер. Именно с ним орлеанисты отныне связывали надежды на восстановление либеральной монархии. «Орлеанисты решительно недовольны господином Тьером, которого они обвиняют, и не без оснований, в повороте влево, – сообщал в Петербург князь Орлов. – Один из их лидеров дал мне понять, что воцарение графа Парижского 48 пока еще не представляется возможным из-за оппозиции легитимистов. Необходимо, чтобы страна прошла через переходный период. Герцог Омальский, поставленный во главе Республики, как сказал мне представитель орлеанистов, спокойно, но уверенно восстановит монархию»49.
В другой депеше Орлов подтвердил, что «сторонники Орлеанского дома считают герцога Омальского своим вождем»50. Они ждут лишь удобного случая, чтобы предложить его кандидатуру Национальному собранию51.
В то время, когда орлеанисты затеяли интригу против своего недавнего лидера, сам Тьер боролся с поразившим его бронхитом, представлявшим серьезную угрозу для 74-летнего президента. Доктора опасались, что болезнь затронет легкие. Но в тот раз все обошлось. Через полтора месяца Тьер оправился от болезни и вернулся к активной политической деятельности. Он делает еще один шаг, отдаляющий его от вчерашних единомышленников.
12 июля, накануне закрытия парламентской сессии, президент появляется перед депутатами и предлагает им прекратить затянувшиеся дискуссии о государственном строе Франции. «Господа, – напоминает он, – вы сами дали нам форму правления под названием Республика». «Разумеется, Республику консервативную», – добавил он, обозначив свою позицию52.
«Президент Республики, по всей видимости, окончательно стал республиканцем, – констатировал князь Орлов, комментируя заявление Тьера в Национальном собрании. – Ему, видимо, пришлась по душе роль Вашингтона, и он использовал ошибки, допущенные монархической партией, для продвижения к окончательному утверждению республиканской формы правления. Заявление, которое президент только что сделал с трибуны, это открытый вызов, который он бросил монархистам»53.
Тогда, летом 1872 г., монархистам не удалось свергнуть Тьера. В значительной степени это объяснялось острыми разногласиями между орлеанистами и легитимистами. Последние воспротивились намерению почитателей герцога Омальского провести его на пост президента Республики. Легитимисты в принципе не принимали республиканский режим, считая его временным. Вместе с тем они исходили из того, что их вождь, граф де Шамбор, называвший себя Генрихом V, никогда не согласится стать преемником Тьера во главе республики. Поэтому они подыскивали своего кандидата, согласного в переходный период от республики к монархии подготовить почву для возвращения «Генриха V» на трон Бурбонов. Лучше всех на эту роль подходил маршал Мак-Магон, председатель Высшего военного совета, который как будто даже соглашался занять президентский кабинет до того момента, когда легитимисты и орлеанисты наконец договорятся между собой. Данное обстоятельство и помешало выдвижению графа Парижского (герцога Омальского) на роль преемника Тьера.
Но и Тьер, как сообщал Орлов, не терял времени даром. Получив информацию о готовящемся сговоре легитимистов с орлеанистами, он вызвал к себе маршала Мак-Магона и получил от него заверение в том, что тот не участвует в монархическом заговоре54.
Свои наблюдения за разгоравшимся в стране очередным политическим кризисом князь Орлов обобщил в развернутой записке, отправленной в Петербург55.
В ней посол рассуждает о том, какая форма правления – монархия или республика – имеет больше шансов утвердиться во Франции, душа которой, по замечанию Орлова, в равной степени формировалась как Бурбонами при Старом порядке, так и революцией 1789 г. С самого начала Орлов в записке определил свое отрицательное отношение к идее восстановления во Франции монархического режима. «Невозможно вернуться туда, откуда ушли, – писал он, имея в виду французскую монархию. – Республика… в наименьшей степени разделяет страну и потому может стать приемлемой для всех формой правления. Напротив, монархия объединит против себя республиканцев. Ничто не сможет помешать республиканцам сформировать мощную и грозную партию и успешно действовать, пока монархисты пребывают в сонном состоянии, и компенсировать недостающую численность смелостью их предприятия и настойчивостью их пропаганды».
Напомнив старую истину, что «каждый народ имеет тот режим, которого заслуживает», Орлов подчеркнул: «Никогда ни в одной монархической стране верховная власть не допускала столько злоупотреблений, как это сделали Бурбоны во Франции. Они разрушили ее финансовое благополучие, привели к падению численности населения и порче нравов, они жертвовали интересами сельского населения ради великолепия двора, они разрушили провинциальные и коммунальные свободы, убили жизнь на местах, сломали независимость французского характера, одним словом, они подготовили страну к деспотизму террора и к военному деспотизму двух империй, и, наконец, ко всем последующим несчастьям… Нужно ли после этого удивляться, что монархия не имеет больше корней во Франции! Она так часто терпела крах, что потеряла всякий престиж. Но что еще более серьезно, никто больше не верит в ее жизнеспособность. Складывается впечатление, что даже в глазах ее сторонников монархия больше не гарантирует стабильности, которая считалась ее главным достоинством. Как же в таких условиях можно говорить о ее восстановлении и возможности существования на сколь-нибудь продолжительный период?».
По убеждению Орлова, республика во Франции более жизнеспособна, нежели монархия – либеральная и тем более легитимная. К тому же республиканская Франция представляет меньшую угрозу для своих соседей, т. е. для спокойствия Европы. «Республика, – писал русский посол, – могла бы полностью сосредоточиться на улучшении своего внутреннего положения, в частности на обеспечении в ней социального порядка.
Республика – это сама нация, и как таковая она может использовать репрессивные силы, запрещенные монархии, которой никто не простит кровь, пролитую для своей защиты. Это уже было доказано. Республики 1848 и 1871 годов ценой ожесточенной борьбы и безжалостных казней разгромили беспрецедентно мощные восстания. Только коллективные и анонимные правительства, способные на подобного рода репрессии, могут взять на себя такую ответственность».
Из сказанного Орлов делает предельно четкий вывод: «Свержение нынешней республики неизбежно приведет к новой внутренней войне с двумя перспективами – социальной революции… как в 1870 г., и к новому расчленению страны». Франция, заключал русский посол, «должна сохранить республику, не боясь подвергнуться кризисам и катастрофам, пусть даже более ужасным, чем те, которые она только что пережила».
«Есть еще кое-что, – продолжал Орлов. – Державы, желающие сохранить мир хотя бы на несколько лет, должны надеяться, что во Франции не возникнет соблазна монархической реставрации. Кроме того, названием “республика” уже нельзя напугать иностранцев. Эта форма правления была в конце восемнадцатого века для одних предметом пылкого энтузиазма, а для других – яростного отвращения, смешанного со страхом. Эти чувства почти полностью исчезли. Великая проблема нашего времени – экономическая и социальная, а не политическая».
Орлов обратил внимание Петербурга, что Франция переживает болезненный процесс утверждения республики. «Французская нация склонна бросаться из одной крайности к другой; она никогда не видела завтрашнего дня», – заметил посол.
Что касается Тьера, то, как подчеркнул Орлов, президент занят исключительно политическими и административными реформами и «не задумывается о социальных реформах, гораздо более неотложных, чем реформы политические».
Подводя итоги завершившейся в июле 1872 г. парламентской сессии, русский посол констатировал сохраняющуюся неустойчивость республиканского режима и уязвимость президента Тьера, испытывающего давление и справа, и слева. «Две трети собрания, – напомнил Орлов, – представляют монархистов, треть его республиканского состава глубоко разобщена, а умеренные в глубине души не хотели бы ничего лучшего, как сплотиться вокруг монархии, способной защитить их от бесчинств красной партии…
Умеренные левые вновь стали республиканцами, и г-н Тьер, внутренне больше расположенный к правым, нежели к левым, тем не менее решительно встал на сторону последних. Этот государственный деятель думает только о дне сегодняшнем и почти не задумывается о будущем. Ему неизвестно понятие веры».
По мнению посла, многое во Франции в тот момент зависело от президента республики, состояние здоровья которого в последнее время вызывает дополнительные опасения. Если бы он вдруг решил перейти на сторону правых, то возможность восстановления монархии стала бы более реальной. «Политическая обстановка во Франции весьма неоднозначна и будущее совершенно неопределенно, несмотря на баснословный успех с размещением займа и оптимистические прогнозы правительственной прессы», – завершал свой анализ князь Орлов56.
В последующих депешах Орлов укрепляется в убеждении об окончательном республиканском выборе главы государства. «Господин Тьер говорил со мной о монархических партиях. Он сожалеет о невозможности слияния двух ветвей [Бурбонов] и считает, что легитимисты и орлеанисты никогда не смогут договориться. Президент делает вывод о необходимости учреждения консервативной республики»57.
В республиканский выбор Тьера, как сообщал в Петербург князь, в конце концов, поверил даже лидер левых республиканцев Л. Гамбетта, с которым Г.Н. Орлов имел случай встретиться в доме известного парижского дантиста. «Тьер сделал решительный шаг к окончательному утверждению республики», – удовлетворенно сказал Гамбетта князю Орлову. Это тем более важно, добавил Гамбетта, что президент «никогда не разделял “радикальных мнений”»58.
Встреча с лидером левых дала возможность Орлову ознакомиться с его политическим видением. Гамбетта выказал уверенность в неизбежном утверждении во Франции республиканского строя, которому симпатизирует большинство французов. Упрочению республики, по его убеждению, способствовало бы утверждение в стране всеобщего избирательного права и светского образования, на чем настаивают республиканцы. Резюмируя свои впечатления от этой встречи, русский посол констатировал: «Что меня больше всего в нем поразило, так это его уверенность в своем будущем и в том, что однажды он займет первое место в государстве»59.
В очередной записке, направленной в Петербург на исходе октября 1872 г., Орлов обобщил свои наблюдения и размышления о перспективах развития политической ситуации во Франции60. В резюмирующей части этой записки он отмечал: «Практический вывод из всего сказанного состоит в том, что будущее Франции неизбежно и неопределенно долго будет заключаться в двух понятиях – революция и реакция, анархия и деспотизм! Заболевание вступило в острую стадию. И пусть Европа признается себе в этом»61.
Развязка конфликта между президентом Тьером и монархическим большинством Национального собрания ожидалась на осенне-зимней парламентской сессии, где глава государства намеревался представить свой проект «консервативной республики». Незадолго до открытия сессии князь Орлов проинформировал Петербург об основных очертаниях этого проекта, конфиденциально ставшего ему известным62.
Исходным моментом для Тьера, по мнению Орлова, была его убежденность в неспособности двух соперничающих между собой монархических партий сформировать устойчивое правительство. В этом отношении «консервативная республика» представлялась главе государства более жизнеспособной. Для укрепления ее устойчивости Тьер намеревался уравновесить чрезмерное влияние Национального собрания созданием второй (верхней) палаты парламента, избираемой Генеральными советами департаментов, на лояльность которых к исполнительной власти не без оснований рассчитывал глава государства. «Вторая палата, действуя в согласии с президентом Республики, – сообщал Орлов, – была бы наделена правом роспуска Национального собрания. Как полагает Тьер, выборы принесут победу консервативному республиканскому большинству, которое и осуществит заветную мечту семидесятилетнего президента»63. Тем самым Тьер, как полагал Орлов, надеялся освободиться от гнетущей опеки собрания, которое в любой момент могло отстранить его от власти.
У русского посла были серьезные сомнения относительно успеха проекта Тьера. «Я лично сильно сомневаюсь в возможности установления во Франции стабильной республики, – писал он в Петербург. – Этому противятся нравы, характер и инстинкты французского народа. Крупное государство вряд ли способно сохранить республиканскую форму правления, иначе как посредством федерации. Однако Франция – это образчик централизации. Единство является основой его институтов, и мы не можем коснуться его, не разрушив все правительственное здание. При этом мы должны признать, что рано или поздно централизация вернет монархию, которая служит ее живым воплощением. Господин Тьер не согласен с этим, он утверждает, что президент, вооруженный теми полномочиями, которыми он обладает сегодня, так же способен управлять централизованной страной, как и самый абсолютный монарх»64.
Трудно представить, продолжал размышлять Орлов, что традиции якобинства и Коммуны умерли. «Они непременно напомнят о себе, как только старик Тьер сойдет в могилу. Более того, само создание консервативной республики до сих пор остается нерешенной проблемой. Господину Тьеру придется бороться с монархистами, которые очень сильны в нынешнем собрании». К тому же, отметил в заключение посол, его левые попутчики крайне ненадежны, их отличает склонность к демагогии, и они могут преждевременно выдать планы Тьера65.
Окончательный разрыв президента Тьера с парламентским большинством Национального собрания, предопределивший в мае 1873 г. крушение его политической карьеры, произойдет 13 ноября 1872 г., когда депутаты возобновят свою работу после летних каникул. Но это уже тема для отдельного исследования.
Изучение дипломатической корреспонденции российского посольства в Париже с Санкт-Петербургом в период президентства А. Тьера показывает, что дипломаты (посол князь Н.А. Орлов и советник посольства Г.Н. Окунев) достаточно объективно освещали сложный, сопровождаемый конфликтами процесс становления Третьей республики во Франции.
Оба дипломата давали вполне взвешенную оценку действиям А. Тьера, направленным на стабилизацию положения во Франции после поражения в войне с Германией, на необходимость выплаты огромной контрибуции без нанесения недопустимого ущерба собственной стране, а также на преодоление социально-политических последствий Парижской коммуны.
В заслугу дипломатическим представителям самодержавной Российской империи во Франции можно отнести их способность отрешиться от классовых предубеждений в анализе происходившего там политического процесса. Они достаточно убедительно, хотя и с понятными в их положении оговорками, говорили о предпочтительности для Франции республиканской формы правления перед монархией. Из их докладов в Петербург следовало, что исход борьбы между республиканцами и монархистами по вопросу государственного устройства Франции далеко еще не предрешен, но личный выбор президента Тьера в пользу республики, безусловно, повышает шансы ее сторонников. В то же время разрыв старого монархиста-либерала Тьера со своими прежними политическими друзьями, по мнению русских дипломатов, был чреват крахом его карьеры, что и случится в мае 1873 г.
1 О нем см.: Dreyfus R. Monsieur Thiers contre l’Empire, la guerre, la Commune 1869–1871. Paris, 1928; Descaves P. Monsieur Thiers. Paris, 1960; Christophe R. Le Siècle de Monsieur Thiers. Paris, 1966; Guillemin H. L’avènement de Monsieur Thiers, suivi de Réflexions sur la Commune. Paris, 1971; Guiral P. Adolphe Thiers ou De la nécessité en politique. Paris, 1986; Игнатченко И.В. Адольф Тьер: судьба французского либерала первой половины XIX века. М., 2017.
2 По имени его разработчика, Г. Риве, близкого к Тьеру депутата-левоцентриста. См.: Duclert V. La République imaginée 1870–1914. Paris, 2015. P. 98.
3 Guiral P. Op. cit. P. 439.
4 Цит. по: Антюхина-Московченко В.И. Третья республика во Франции. 1870–1918. М., 1985. С. 120.
5 Grévy J. La République des opportunists. 1870–1885. Paris, 1998. P. 25.
6 О статском советнике Г.Н. Окуневе и его оценках положения во Франции после крушения Второй империи см.: Черкасов П.П. Рождение Третьей республики во Франции глазами русского дипломата (сентябрь 1870 года – май 1871 года) // Новая и новейшая история. 2023. № 6. С. 77–94. DOI: 10.31857/S013038640028926–6
7 Ле Фло, Адольф Шарль Эмманюэль (1807–1887) – французский государственный и военный деятель, дивизионный генерал, бывший депутат, военный министр, посланник в России в 1848–1849 гг. 1 июня 1871 г. был назначен чрезвычайным и полномочным послом Франции в России. На этом посту он проработал семь с половиной лет. В феврале 1879 г. по состоянию здоровья Ле Фло добровольно вышел в отставку. Его служебное досье см.: Archives des Affaires Etrangères. Personnel. 1-ère série. № 2496.
8 Здесь и далее даты из дипломатической переписки приводятся по новому стилю.
9 Вестман, Владимир Ильич (1812–1875) – русский дипломат (на службе с 1829 г.), камергер, сенатор, тайный советник, ближайший сподвижник канцлера А.М. Горчакова, которого, начиная с 1866 г., время от времени замещал во главе МИД России. О нем см.: Архив внешней политики Российской империи (далее – АВПРИ). Ф. 159 (Департамент личного состава и хозяйственных дел – ДЛСХД). Оп. 464. Д. 636.
10 Ле Фло – Вестману, 29 сентября 1871 г. // АВПРИ. Ф. Канцелярия. Оп. 470. Д. 46. Л. 32–32 об.
11 Послужной (формулярный) список Н.А. Орлова см.: АВПРИ. Ф. 159 (ДЛСХД). Оп. 464. Д. 2490. См. также: Русский биографический словарь. Обезьянинов – Очкин. СПб., 1905. Репринтное воспр. М., 1997. С. 350–381.
12 Из формулярного списка князя Н.А. Орлова (1859): «Воспитывался при родителях и по выдержании в Пажеском корпусе офицерского экзамена в качестве камер-пажа, знает науки: Закон Божий, языки – русский, французский и немецкий; алгебру, геометрию, синтетическую статистику, практическую механику, естественную историю, физику, химию, географию, статистику, всеобщую и русскую историю, хронологию, законоведение и военное судопроизводство, артиллерию, фортификацию, тактику, черчение ситуационных планов, рисование и гимнастику». См.: АВПРИ. Ф. 159 (ДЛСХД). Оп. 464. Д. 2490. Л. 13 об.
13 Текст инструкции см.: АВПРИ. Ф. Канцелярия. Оп. 470. Д. 94. Л. 502–513 об.
14 См. об этом: Черкасов П.П. Александр II и Наполеон III. Несостоявшийся союз (1856–1870). М., 2015.
15 Подход российской дипломатии к Франции в первой половине 1870-х годов подробно проанализирован в монографии: Борисов Ю.В. Русско-французские отношения после Франкфуртского мира. 1871–1875 / под общ. ред. академика Е.В. Тарле. М., 1951.
16 АВПРИ. Ф. Канцелярия. Оп. 470. Д. 94. Л. 511 об. –512.
17 «Весьма оригинально» (c’est original) – так прокомментировал Александр II на полях депеши Орлова описанную послом церемонию вручения им верительных грамот: Орлов – Горчакову, 26 января 1872 г. // Там же. Д. 79. Л. 2.
18 Тьеру изменила память. Упоминаемая им «услуга» была оказана в сентябре 1870 г., когда он приезжал в Петербург.
19 Письмо Тьера – Горчакову от 27 января 1872 г. // АВПРИ. Ф. Канцелярия. Оп. 470. Д. 42. Л. 2–3 об.
20 Князь Орлов дал самую высокую оценку работе Окунева в качестве поверенного в делах России во Франции. В одной из депеш, адресованных канцлеру Горчакову, он отмечал, что Окунев заслуживает всяческого поощрения и отличия. На полях депеши есть пометка императора о необходимости отметить Окунева: Орлов – Горчакову, 26 января 1872 г. // Там же. Д. 80 (I). Л. 10.
21 О деятельности главы исполнительной власти и его правительства см.: Hanotaux G. Le Gouvernement de M. Thiers. 1870–1873. T. I–II. Paris, 1925.
22 Duclert V. Op. cit. P. 94.
23 Démier F. La France du XIXe sciècle. 1814–1914. Paris, 2000. P. 302.
24 Антюхина-Московченко В.И. Указ. соч. С. 117.
25 Тьер, в частности, возражал против разоружения Национальной гвардии, опасаясь общественного возмущения. Однако монархическое большинство собрания настояло на фактической ликвидации Национальной гвардии, обвиненной в «нелояльности» в период Парижской коммуны.
26 По итогам выборов 8 февраля 1871 г. республиканцы провели в Национальное собрание 150 депутатов, т. е. составляли парламентское меньшинство.
27 Guiral P. Op. cit. P. 562.
28 Окунев – Вестману, 10 сентября 1871 г. // АВПРИ. Ф. Канцелярия. Оп. 470. Д. 94. Л. 92 об. –93 об.
29 Окунев – Горчакову, 7 декабря 1871 г. // Там же. Л. 234–236 об. Впоследствии, в разговоре с Орловым Тьер весьма оригинально объяснил свое затянувшееся пребывание в Версале: «Я должен был обзавестись квартирой в Версале, так как ночные поездки [из Парижа в Версаль] были слишком утомительны для моей жены». Орлов – Горчакову, 26 января 1872 г. // Там же. Д. 80 (I). Л. 9 об.
30 Окунев – Вестману, 10 сентября 1871 г. // Там же. Д. 94. Л. 92–92 об.
31 Окунев – Горчакову, 7 ноября 1871 г. // Там же. Л. 192–193 об.
32 См. его донесения от 10 августа, 11 сентября и 3 октября 1871 г. // Там же. Л. 308–308 об, 326–326 об, 334–335 об.
33 Окунев – Вестману, 11 сентября 1871 г. // Там же. Л. 327.
34 Hanotaux G. Op. cit. T. II. P. 32–34.
35 В Генеральный совет Корсики попытался избраться принц Наполеон-Жером Бонапарт (кузен Наполеона III). Намерению Бонапарта энергично воспрепятствовал Тьер, отдавший соответствующие инструкции префекту департамента Ш. Ферри. Президент даже распорядился для устрашения сочувствующих бонапартистам корсиканцев ввести в порт Аяччо эскадру военных кораблей. По инициативе Тьера, Национальное собрание в срочном порядке подтвердило запрет принцу Наполеону-Жерому находиться на территории Франции. В результате тот вынужден был спешно покинуть остров и выехать в Италию.
36 Окунев – Вестману, 19 октября 1871 г. // АВПРИ. Ф. Канцелярия. Оп. 470. Д. 94. Л. 121–124 об.
37 По давней традиции французский политик мог одновременно избираться на разных уровнях представительной власти: местной, региональной и национальной.
38 Duclert V. Op. cit. P. 99.
39 Rémond R. La vie politique en France depuis 1789. T. 2 (1848–1879). Paris, 2005. P. 328. От Парижа (департамент Сена) в парламент прошел умеренный республиканец М. Вотрен, председатель столичного муниципального совета, сумевший обойти двух своих соперников – маршала П. де Мак-Магона, кандидата от монархистов, и Виктора Гюго, которого оппоненты обвиняли в симпатиях к Коммуне.
40 Цит. по: Guiral P. Op. cit. P. 457.
41 Окунев – Горчакову, 12 января 1872 г. // АВПРИ. Ф. Канцелярия. Оп. 470. Д. 79. Л. 3–10.
42 10 марта 1870 г. депутаты избранного в Бордо Национального собрания, состоявшего из монархического большинства и республиканского меньшинства, договорились, что вопрос государственного устройства Франции будет решаться только после заключения мирного договора с Германией. Эта договоренность и получила название «пакта Бордо».
43 Орлов – Горчакову, 26 января 1872 г. // АВПРИ. Ф. Канцелярия. Оп. 470. Д. 80 (1). Л. 7–9.
44 Там же. Л. 9. Любопытна пометка императора на полях депеши Орлова: très vrais (так и есть).
45 Секретная телеграмма Орлова от 19 февраля 1872 г. // Там же. Л. 155.
46 Антюхина-Московченко В.И. Указ. соч. С. 121.
47 Орлов – Горчакову, 8 марта 1872 г. // АВПРИ. Ф. Канцелярия. Оп. 470. Д. 80 (1). Л. 7–9.
48 Титул, который герцог Омальский принял после смерти в 1850 г. своего отца, свергнутого короля Луи-Филиппа. Тем не менее многие продолжали по-прежнему называть его герцогом Омальским.
49 Орлов – Горчакову, 28 мая 1872 г. // АВПРИ. Ф. Канцелярия. Оп. 470. Д. 79. Л. 7–9.
50 Там же. Л. 169.
51 Там же. Л. 143.
52 Hanotaux G. Op. cit. T. II. P. 161.
53 Орлов – Вестману, 16 июля 1872 г. // АВПРИ. Ф. Канцелярия. Оп. 470. Д. 79. Л. 175.
54 Там же Л. 172 об. –173 об.
55 Записка Орлова от 24 июля 1872 г. // Там же. Д. 81 (II). Л. 373–393.
56 Орлов – Вестману, 16 августа 1872 г. // Там же. Д. 79. Л. 178–180 об.
57 Орлов – Вестману, 24 сентября 1872 г. // Там же. Д. 80 (I). Л. 121 об.
58 Орлов, 15 октября 1872 г. // Там же. Д. 81 (III). Л. 508 об.
59 Там же. Л. 509 об.
60 “Quelques reflections sur l’état morale et politique de France”. Орлов, 24 октября 1872 г. // Там же. Л. 518–527.
61 Там же. Л. 526 об. –527.
62 Орлов – Вестману, 31 октября 1872 г. // Там же. Д. 79. Л. 251–254 об.
63 Там же. Л. 252.
64 Там же. Л. 252 об.
65 Там же. Л. 253 об. –254.
About the authors
Peter P. Cherkasov
Institute of World History, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: ptch46@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-3723-1657
доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник
Russian Federation, MoscowReferences
- Antiukhina-Moskovchenko V.I. Tret’ya respublika vo Francii [Third Republic in France]. 1870–1918. Moskva, 1985. (In Russ.)
- Borisov Yu.V. Russko-francuzskie otnosheniya posle Frankfurtskogo mira [Russian-French relations after the Frankfurt Peace]. 1871–1875. Moskva, 1951. (In Russ.)
- Cherkasov P.P. Aleksandr II i Napoleon III. Nesostoyavshijsya soyuz [Alexander II and Napoleon III. Failed Union] (1856–1870). Moskva, 2015. (In Russ.)
- Cherkasov P.P. Rozhdenie Tret’ej respubliki vo Francii glazami russkogo diplo-mata (sentyabr’ 1870 goda – maj 1871 goda) [The birth of the Third Republic in France through the eyes of a Russian diplomat (September 1870 – May 1871)] // Novaya i Novejshaya Istoriya [Modern and Contemporary History]. 2023. № 6. S. 77–94. doi: 10.31857/S013038640028926-6 (In Russ.)
- Amson D. Gambetta ou le rêve brisé. Paris 1994.
- Azéma J.-P., Winock M. La IIIe République. Paris, 1976.
- Démier F. La France du XIXe siècle. 1814–1914. Paris, 2000.
- Hanotaux G. Le Gouvernement de M. Thiers. 1870–1873. T. I–II. Paris, 1925.
- Grévy J. La République des opportunistes. 1870–1885. Paris, 1998.
- Rémond R. La vie politique en France. 1848–1879. Paris, 2005.
Supplementary files