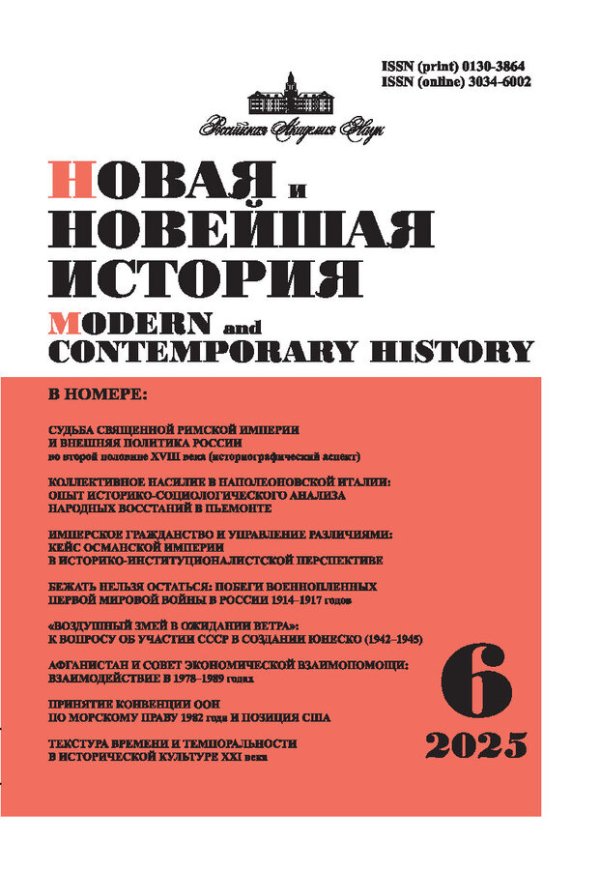Everyday Life vs. Politics: The Image of Joan of Arc in the Cinema of the Twentieth
- Authors: Togoeva O.I.1
-
Affiliations:
- Institute of World History, Russian Academy of Sciences
- Issue: No 3 (2024)
- Pages: 95-106
- Section: 20th century
- URL: https://journal-vniispk.ru/0130-3864/article/view/259820
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0130386424030087
- ID: 259820
Cite item
Full Text
Abstract
The article draws on a unified corpus of historical feature films released in the twentieth century and centred on a single subject, namely the story of Joan of Arc (1412?–1431), the heroine of the Hundred Years’ War. In modern historiography (études johanniques) such comprehensive studies practically have not yet been conducted: researchers prefer to analyze each film separately, thereby missing possible connections and intersections of their creators’ ideas. In this article, the author aims to examine the extent to which these films conform to one of the most important principles of historical drama, that is, the principle of authenticity, which requires that the daily life of a particular historical era be portrayed on the screen with the utmost accuracy. These observations lead the author to conclude that, in most cases, realism is not a priority for the makers of films about Joan of Arc. Rather, their task is to follow the current historical moment in which a particular screenplay is conceived and implemented. At the beginning of the twentieth century, on the eve of the official canonisation of the Maid of Orleans (1920), the films about her had a distinctly hagiographical character, but over the following decades their semantic load kept changing, ranging from criticism of the European judicial system to criticism (or exaltation) of the existing political system.
Full Text
Исторические сюжеты всегда оставались одними из самых востребованных в кинематографе XX в. Реальные события прошлого легли в основу многих ранних европейских фильмов – как отечественных («Понизовая вольница» 1908 г., «Смерть Иоанна Грозного» 1909 г., «Петр Великий» 1910 г.), так и зарубежных («Дело Дрейфуса» 1900 г., «Убийство герцога Гиза» 1908 г., «Битва» 1911 г.)1. В 1920–1940-х годах наступил расцвет так называемого батального кино2, на смену которому в 1950–1960-х годах явились «пеплумы» – картины, посвященные античной и библейской истории и снимавшиеся преимущественно в Италии и в США3, где примерно в то же время начал активно развиваться и жанр вестерна4. Последняя же волна популярности исторических фильмов пришлась, как отмечают исследователи, на 1990-е – начало 2000-х годов5.
Согласно ставшей уже признанной классификации Роберта Розенстоуна6, любой исторический фильм обладает рядом устойчивых характеристик. Прежде всего ему свойственна идея прогресса, когда создатели убеждают зрителя в том, что ему не придется жить в ту далекую/сложную/переломную эпоху, о которой ему рассказывают. Не менее распространенным является предельное внимание к частной судьбе индивида, представленной как сугубо типичная. Историческому фильму также присуща законченность сюжета, что не предполагает альтернативного прочтения событий прошлого. Вместе с тем обычно присутствуют личный, эмоциональный подход сценаристов и режиссеров к избранному ими сюжету, а также склонность к обобщенному изображению фактов. Наконец, одной из важнейших отличительных черт подобных картин становится внимание к исторической достоверности, т. е. попытки максимально точно отразить на экране особенности повседневной жизни той эпохи, о которой идет речь.
Именно на этом аспекте проблемы, реалистичности исторического кинематографа, мне бы и хотелось остановиться. В рамках статьи мною будет рассмотрен сравнительно небольшой корпус фильмов, созданных в XX в. и посвященных одному сюжету – эпопее Жанны д’Арк, героини Столетней войны. Несмотря на общую тематику, картины эти крайне неоднородны и по своим техническим характеристикам, и по времени и стране появления, и по политическим и религиозным симпатиям их авторов, а потому представляется интересным понять, до какой степени они соответствуют принципу достоверности и нашим знаниям о прошлом, можно ли рассматривать их как специфический исторический источник, и, если да, какую именно эпоху каждый из них отражает.
Само имя Орлеанской Девы, одной из наиболее популярных и узнаваемых героинь эпохи Средневековья7, заставляет думать, что количество посвященных ей фильмов должно было бы быть весьма внушительным. Картины о ней действительно начали сниматься уже в конце XIX в., на заре существования самого кинематографа, продолжают появляться они и по сей день. Тем не менее специалистам доподлинно известно о довольно небольшом числе реализованных проектов: полнометражных художественных фильмов о Жанне д’Арк с конца XIX в. по конец XX в. было снято всего шестнадцать8.
К ним прежде всего относятся работы, вышедшие на широкий экран в период, когда Дева уже была объявлена Достопочтенной (1894) и Блаженной (1909) и дело шло к ее официальной канонизации как новой покровительницы Франции (1920)9. В 1898 г. появилась «Казнь Жанны д’Арк» (Exécution de Jeanne d’Arc) Жоржа Ато (Франция). В 1908 г. была закончена «Жизнь Жанны д’Арк» (La vie de Jeanne d’Arc) Альбера Капеллани (Франция), а в 1909 г. – «Жизнь Жанны д’Арк» (Vita di Giovanna d’Arco) итальянца Марио Казерини. Наконец, в 1913 г., также в Италии, режиссером Убальдо Мария дель Колле была снята «Жанна д’Арк» (Giovanna d’Arco). Однако до нас эти фильмы, к сожалению, не дошли10.
Из 12 сохранившихся картин некоторые также имели сложную судьбу. В 1900 г. публике была представлена 15-минутная лента классика раннего европейского кинематографа Жоржа Мельеса «Жанна д’Арк» (Jeanne d’Arc)11. Эта работа оказалась впоследствии утеряна, но ее раскрашенную от руки копию обнаружили в 1982 г. В 1928 г. по заказу французского правительства датский режиссер Карл Теодор Дрейер снял «Страсти Жанны д’Арк» (La passion de Jeanne d’Arc), которая также долгое время считалась утраченной: ее единственная уцелевшая копия была найдена в 1981 г. в Осло. Та же участь постигла и «Чудесную жизнь Жанны д’Арк, дочери Лотарингии» (La merveilleuse vie de Jeanne d’Arc, la fille de Lorraine) 1929 г. французского режиссера Марко де Гастина. В годы Второй мировой войны фильм был утерян, однако его удалось частично восстановить в 1983 г.
Все остальные картины дошли до нас в первозданном виде. В 1917 г. на экраны вышла «Жанна-женщина» (Joan the Woman) знаменитого американского режиссера Сесила Демилля. Затем последовали «Дева Жанна» (Das Mädchen Johanna) Густава Учицки (Германия, 1935 г.), «Жанна д’Арк» (Joan of Arc) Виктора Флеминга (США, 1948 г.), «Жанна д’Арк на костре» (Giovanna d’Arco al rogo) Роберто Росселлини (Италия, 1954 г.), «Святая Жанна» (Saint Joan) Отто Премингера (США, 1957 г.), «Процесс Жанны д’Арк» (Procès de Jeanne d’Arc) Робера Брессона (Франция, 1962 г.), «Начало» Глеба Панфилова (СССР, 1970 г.) и «Жанна-Дева» (Jeanne la Pucelle) Жака Риветта (Франция, 1994 г.). Наконец, в 1999 г. на экраны вышел последний на сегодняшний день полнометражный фильм, посвященный истории французской национальной героини, – «Посланница: история Жанны д’Арк» (The Messenger: The Story of Joan of Arc) Люка Бессона12.
В рамках одной статьи не представляется возможным рассказать об истории создания всех этих картин или подробно остановиться на содержании хотя бы нескольких из них. В то же время их комплексный анализ способен пролить свет на то, при помощи каких приемов создатели киноэпопеи о Жанне д’Арк пытались добиться эффекта реальности при изображении исторического антуража: географического пространства, деталей средневекового быта, манеры поведения и внешнего вида персонажей (костюмов, причесок, оружия и украшений), событий Столетней войны.
Вне всякого сомнения, историку-медиевисту в любом фильме, посвященном той эпохе, которой он занимается профессионально, в первую очередь бросаются в глаза неувязки сугубо содержательного характера. Присутствуют они и во всех без исключения картинах о Жанне д’Арк. Так, в фильме Жоржа Мельеса 1900 г. уход героини из ее родной деревни Домреми «во Францию» зимой 1429 г. – на помощь дофину Карлу (будущему Карлу VII) и его войску – происходил с ведома и при поддержке родителей. В действительности девушка самовольно покинула отчий дом, что, с точки зрения ее современников, являлось грехом непослушания и потребовало отдельных слушаний в ходе процесса по реабилитации 1455–1456 гг., когда для оправдания столь сомнительного поступка была использована аналогия с Иисусом Христом, оставившим семью во исполнение высшей цели13. Столь же ошибочно решение Жанны интерпретировано и в фильме Люка Бессона 1999 г., где оно объяснялось не тайным общением Девы с ее «голосами» (архангелом Михаилом и святыми Екатериной и Маргаритой), о чем она прямо заявляла на обвинительном процессе 1431 г.,14 но выдуманной историей об изнасиловании англичанами Екатерины, старшей сестры героини, и о ее последующей гибели. И если в подходе Ж. Мельеса легко угадывалась попытка оправдать поступок Жанны д’Арк ввиду ее грядущей канонизации, то для трактовки Л. Бессона оказывалось характерным желание избежать обращения к наиболее важному, хотя и спорному, моменту всей эпопеи Орлеанской Девы – к вопросу о ее мистицизме.
Примеров ошибочных интерпретаций исторических фактов в рассматриваемых фильмах можно привести не один десяток: и для специалиста, и для любого начитанного человека они очевидны. Однако в том, что касается воссоздания средневекового антуража, проблема решается не столь просто. Можно сказать, что в данном случае зрители становятся свидетелями весьма любопытного явления: достоверная информация, подтверждение которой находится в источниках, буквально на глазах начинает дробиться, распадаясь на правдивую, правдоподобную и, наконец, полностью вымышленную.
Данный эффект хорошо заметен, в частности, по тому, как изображалось в картинах о Жанне д’Арк географическое пространство, в котором разворачивалась ее эпопея. Речь шла о Французском королевстве первой трети XV в., а конкретно – о нескольких населенных пунктах, в обязательном порядке присутствовавших практически во всех фильмах. Это – родная деревня девушки Домреми в Лотарингии; замок Шинон, где героиня впервые встретилась с дофином Карлом; Орлеан – место ее крупнейшей военной победы в мае 1429 г., в результате которой она получила свое легендарное прозвище Pucelle d’Orléans; Реймс, где 17 июля того же года состоялась коронация дофина под именем Карла VII; Париж, так и не открывший ворота перед войсками, ведомыми Жанной, в сентябре 1429 г.; и, наконец, Руан – место суда над Девой и ее казни в мае 1431 г.
При анализе особенностей кинематографического прочтения этих географических локаций следует учитывать одно важное обстоятельство. Все без исключения имеющиеся в нашем распоряжении фильмы, безусловно, комплиментарны по отношению к главной героине, их авторы стремились любыми способами представить ее эпопею в идеальном свете. Вот почему только в двух из них (причем самых поздних по времени появления) присутствовал эпизод с осадой Парижа, захватить который французским королевским войскам так и не удалось. Жак Риветт в 1994 г. и Люк Бессон в 1999 г. попытались в том числе и таким образом сохранить в своих произведениях определенную историческую объективность. Все прочие авторы при обращении к теме Столетней войны данную сцену опустили, не желая, по всей видимости, напоминать зрителям о событии, послужившем поводом для охлаждения отношений между Девой и ее королем15.
Из этого визуального ряда выпадают всего три картины, поскольку посвящены они исключительно ходу обвинительного процесса над Жанной д’Арк, состоявшегося в Руане в феврале – мае 1431 г. Как следствие, никаких иных населенных пунктов мы в этих фильмах не найдем, хотя и столицы Нормандии также не увидим: и К.Т. Дрейер в 1928 г., и Р. Брессон в 1962 г., и Г.А. Панфилов в 1970 г. полностью отказались от каких бы то ни было панорамных планов. В фокусе их камеры находились только тюрьма, зал заседаний, в котором допрашивали героиню, и место ее казни, причем все эти локации отличала нарочитая безликость16. Следует признать, что подобный подход к изображению географического пространства представляется лучшим из возможных, поскольку он в принципе не дает зрителям повода упрекнуть создателей этих картин в исторической неточности17.
Впрочем, подобных обвинений всеми возможными способами пытались избежать все упомянутые режиссеры, хотя действовал каждый из них по-своему и с разным успехом. Так, Жорж Мельес на рубеже XIX–XX вв. отправился в деревню Домреми, дабы на месте запечатлеть дом семейства д’Арк, к тому времени тщательно отреставрированный18. Сесил Демилль, снимая свой фильм в США в годы Первой мировой войны и не имея возможности выехать во Францию, в сцене коронации Карла VII использовал задник, на котором вполне реалистично был изображен интерьер Реймсского собора. Всего 12 годами позже, в 1928 г., Марко де Гастин, располагая всеми средствами для натурных съемок, вновь снимал Домреми в Домреми, однако он же по неизвестной причине избрал для изображения Орлеана крепость Эг-Морт в Лангедоке. Его решение кажется тем более удивительным, что сам Орлеан еще не был разрушен в ходе бомбардировок Второй мировой войны и вполне подходил для того, чтобы сыграть самого себя в сценах осады города англичанами в 1429 г. Напротив, крепость Эг-Морт никоим образом не относилась к Французскому королевству начала XV в., более того, она была слишком узнаваема, чтобы хоть как-то претендовать на роль Орлеана. Впрочем, этот город оказался все же не забыт. Туда в 1993 г. отправился Жак Риветт, дабы снять сцену решающего штурма французскими войсками под руководством Жанны д’Арк крепости Турнель, занятой противником. Проблема заключалась лишь в том, что к этому моменту от средневекового Орлеана не осталось практически ничего, а потому «Жанна-Дева» Риветта вызывает у знающего зрителя лишь усмешку, а у незнающего – глубокое изумление тем фактом, что англичане на протяжении семи месяцев осады так и не смогли захватить город19, лежавший, если верить увиденному на экране, практически в руинах.
Несколько иной подход к проблеме исторической достоверности демонстрируют режиссеры, создававшие картины из средневековой жизни в тех европейских регионах, где еще можно было найти уцелевшие и более или менее аутентичные крепости. Классическим примером в данном случае может служить работа Люка Бессона 1999 г., который вел съемки батальных сцен в Чехии, а также использовал в фильме естественные декорации замков Конопиште, Пернштейн и французских Каркассона и Бейнака. Перед зрителем, таким образом, представала заведомая ложь, ведь речь шла или о совсем другой стране, или не совсем о тех французских провинциях, где разворачивались основные события Столетней войны. Тем не менее выбор в пользу художественной условности, возможно, оказывался не так уж плох: подобное допущение предполагало если не отсылку к исторической реальности, то, по крайней мере, некоторое правдоподобие того, что происходило на экране, хотя бы с точки зрения архитектуры и топографии средневековых городов.
Что же касается внутреннего устройства крепостей и замков, где разворачивались главные события почти любого фильма о Жанне д’Арк, то к ним, в отличие от географического пространства, возникает куда больше вопросов. Как представляется, ни сценаристы, ни художники, ни костюмеры не имели ни малейшего понятия о том, как протекала повседневная жизнь средневекового города, и прежде всего французского королевского двора. Ключевым с этой точки зрения во всех рассматриваемых картинах являлся эпизод прибытия героини в Шинон и ее первой встречи с дофином Карлом. Практически все режиссеры решали данную сцену как массовую, несмотря на то что окружение будущего Карла VII весной 1429 г. едва ли насчитывало 25–30 человек. Впервые данную версию событий обосновал В.И. Райцес в докладе, сделанном в 1988 г. в Центре Жанны д’Арк в Орлеане, а затем в опубликованной по-французски статье20. Вызвавшая поначалу удивление и неприятие, гипотеза советского историка (случай почти небывалый для études johanniques) впоследствии получила поддержку и в настоящее время считается общепринятой21. Однако и в фильме Ж. Риветта 1994 г., и в фильме Л. Бессона 1999 г., вышедших после публикации В.И. Райцеса, зрители наблюдают все ту же легендарную встречу Жанны д’Арк с дофином, окруженным десятками людей.
Более того, изображения двора Карла VII во всех без исключения картинах, где присутствовали подобные сцены, представляли собой иллюстрацию еще одного распространенного историографического мифа, согласно которому придворная жизнь в эпоху Средневековья отличалась исключительной роскошью в противовес полному лишений и трудов быту простых горожан и крестьян22. Никто из режиссеров не попытался вникнуть в реальные обстоятельства существования дофина Карла и его ближайшего окружения, хорошо известные историкам. Начиная с 1420-х и вплоть до середины 1430-х годов французский правитель не имел даже собственной столицы, а его верными спутниками в эти годы оставались все возраставшие долги перед вассалами, нехватка средств для оплаты и вооружения собственной армии и наемников, невозможность послать помощь осажденному Орлеану23.
Тем не менее встреча Жанны с будущим королем обычно изображалась в фильмах как роскошный придворный праздник. Уже у Жоржа Мельеса в 1900 г. свидание в Шиноне происходило во время застолья, которое протекало в покоях Карла, но напоминало, скорее, вечеринку в городской таверне с участием полуголых танцовщиц. При этом дофин, весной 1429 г. еще не помазанный на царство, восседал на богато украшенном королевскими золотыми лилиями троне, внезапно оказавшемся в Шиноне.
Много вопросов в изображении данной сцены вызывают и костюмы придворных, особенно в довоенных фильмах. Все тот же Жорж Мельес упустил из виду, что встреча Жанны с Карлом происходила на исходе зимы24, когда в любом средневековом помещении (и особенно в каменном замке) стоял холод, не предполагавший наличия декольтированных платьев и босых ног у придворных дам. Впрочем, сами дамы также должны были бы в этой сцене отсутствовать, поскольку при дворе правителя на постоянной основе они начали появляться ближе к концу XV в. 25
Те же ошибки в 1929 г. совершил и Марко де Гастин. Более того, его выбор костюмов для актеров явно ориентировался на исторические реконструкции, без которых уже в начале XX в. не обходился практически ни один французский праздник, посвященный той или иной знаменательной дате26. Послевоенные фильмы с этой точки зрения выглядели значительно лучше, хотя и здесь иногда случались досадные промахи. Так, в фильме Виктора Флеминга 1948 г. в сцене свидания Жанны и Карла на голове дофина уже красовался королевский венец, который он не имел права носить до официального помазания, состоявшегося (при активной помощи Девы) только 17 июля 1429 г.
Не менее интересна для анализа еще одна массовая сцена, в обязательном порядке присутствовавшая практически во всех рассматриваемых фильмах, – сцена суда над Жанной в 1431 г. в Руане. Несмотря на то, что от этого процесса сохранилось множество документов27, мы очень мало знаем о том, в каких условиях он происходил. В результате режиссеры домысливали эти обстоятельства в меру собственных сил. Один из наиболее любопытных вариантов трактовки предложил уже упоминавшийся Виктор Флеминг: рассадка судей в зале для заседаний в его картине буквально повторяла известные нам средневековые изображения так называемого Ложа правосудия (Lit de justice) – заседания королевского суда под председательством самого монарха. Историкам, однако, хорошо известно, что созыв Ложа сам по себе представлял исключительный случай, подобных встреч проводилось сравнительно немного28, и заседания руанского трибунала, причем церковного, а не светского, вряд ли могли копировать данную торжественную церемонию. Таким образом, одной этой сценой американский режиссер демонстрировал крайне выборочное знакомство с реалиями французского XV столетия29. Это тем более удивительно, если учесть, что его научным консультантом выступал Пьер Донкёр (1880–1961), один из лучших знатоков эпохи, издатель множества документов о деятельности Жанны д’Арк30.
Любопытно, что тот же самый прием использовал еще в 1935 г. Густав Учицки – но не для того, чтобы показать процесс 1431 г., а для того, чтобы закончить свою «Деву Жанну» на оптимистической ноте – на реабилитации главной героини, состоявшейся в 1456 г. Однако его трактовка данной сцены представляла собой еще бóльшую фантазию, нежели интерпретация В. Флеминга, поскольку решение о снятии с Орлеанской Девы всех обвинений в действительности выносил отнюдь не французский король, но все тот же руанский церковный суд при поддержке папы римского31.
Не менее сложной оказывалась для режиссеров и сцена казни Жанны д’Арк в Руане 30 мая 1431 г. Излюбленным вариантом на протяжении всего XX в. оставалась демонстрация главной героини крупным планом с глазами, поднятыми к небу: именно это решение использовали и К.Т. Дрейер, и М. де Гастин, и Г. Учицки, и В. Флеминг, и Р. Росселлини. Однако сколь бы трогательным ни был подобный выбор, свидетельствовал он лишь о плохом знании эпохи32. Устремленный ввысь взгляд отнюдь не был свойствен людям Средневековья, подобный прием для передачи контакта человека со святыми или с Господом художники начали использовать лишь в первой половине XIX в., в эпоху романтизма: он хорошо знаком исследователям по многочисленным картинам, изображавшим ту же самую сцену казни Жанны д’Арк и созданным в этот период33. На средневековых же миниатюрах мистики и визионеры, к которым относилась и Орлеанская Дева, обычно смотрели прямо перед собой, ибо святые, ангелы и сам Иисус Христос являлись им не в небесах, а на земле.
Наконец, поскольку речь зашла об облике Жанны д’Арк в сцене казни, следует сказать несколько слов и о ее внешности в целом – в том виде, в каком она была представлена в полнометражных фильмах. В данном случае наиболее близким к историческим реалиям, как это ни удивительно, оказывался костюм главной героини. В полном соответствии с документами XV в., она представала одетой в женское платье вплоть до встречи с дофином Карлом, в доспехи – в сценах битв, в нижнюю рубашку – в момент гибели34.
Значительно меньше повезло кинематографической прическе Девы. С одной стороны, в большинстве дошедших до нас фильмов она казалась вполне соответствующей тому, что сообщали источники, и прежде всего материалы обвинительного и реабилитационного процессов. Уже у Жоржа Мельеса в 1900 г. в сценах, повествующих о детстве героини, Жанна представала длинноволосой, а начиная с прибытия в Шинон и вплоть до казни изображалась с обрезанными волосами. Ту же прическу «под пажа» воспроизводили практически все режиссеры. С другой стороны, то, что, на первый взгляд, можно было принять за правду, в действительности оборачивалось ее видимостью, ведь перед зрителями оказывалась вовсе не средневековая мужская прическа «кружком», известная по сохранившимся изображениям, но ее «прочтение» эпохи романтизма, классическим примером которого стал скульптурный портрет Девы, выполненный в 1837 г. Марией Орлеанской35. Единственным, пожалуй, исключением в данном случае стал фильм Люка Бессона, где прически как самой героини, так и ее военных компаньонов были созданы в строгом соответствии с модой XV в. – с подбритыми висками и шеей. Впрочем, героиня Бессона в исполнении Миллы Йовович оказывалась блондинкой с голубыми глазами, хотя почти единственным, что мы знаем о внешности реальной Жанны д’Арк, являлось наличие у нее темных волос36.
Как показывает проведенный, пусть и весьма беглый, анализ, соответствовать принципу исторической достоверности кинематографу XX в. оказывалось трудно вне зависимости от того, в какой стране и в какие годы снимался тот или иной фильм. Означает ли это, однако, что подобные работы лишены для специалистов какой бы то ни было ценности? На мой взгляд, это отнюдь не так, ибо проблема заключается не в знании (или незнании) реалий XV в., но в отношении режиссеров к современным им самим событиям общественной и политической жизни. Ведь часто их замысел угадывается как раз по тем деталям внешнего антуража, которые вроде бы могут вызвать лишь зрительское неприятие или удивление как несоответствующие исторической действительности.
Одним из лучших примеров такого двойственного прочтения эпопеи Жанны д’Арк представляется фильм К.Т. Дрейера 1928 г. Рене-Жанна Фальконетти, блиставшая в нем, на протяжении практически всего действия картины оставалась бритой наголо. Подобная «прическа», не имевшая, на первый взгляд, ничего общего со средневековой повседневностью, на самом деле являла собой чистой воды знак – символ унижения героини Столетней войны ее противниками. Однако вместе с тем Жанна/Фальконетти олицетворяла всех людей, подвергшихся незаконным судебным преследованиям, о какой бы эпохе ни шла речь. Таким образом, перед зрителями представал символ сопротивления любой несправедливости – будь то захватническая война или иные невзгоды37. Создавая из своей героини мученицу и святую38, Дрейер подстраивал под главную идею фильма не только внешность Девы, но и образы ее судей, которые выглядели на экране уродливыми и даже карикатурными. Их вид напоминал средневековые изображения судей и палачей Иисуса Христа, с которым режиссер тем самым ассоциировал Жанну д’Арк39. Та же идея безжалостного, лишенного всякого милосердия правосудия, жертвой которого может оказаться абсолютно любой человек, присутствовала и в более поздних фильмах Робера Брессона и Глеба Панфилова. Однако здесь данная задача решалась при помощи изображения полностью обезличенных интерьеров, о чем речь шла выше.
Что же касается святости Орлеанской Девы, то вера в нее прочитывалась уже у Жоржа Мельеса в 1900 г. Последняя сцена его фильма была посвящена вознесению Жанны на небо – в полном соответствии с ее собственными словами о том, что «голоса» обещали ей место в Раю сразу после смерти40. Таким образом режиссер выразил собственное мнение по вопросу об официальной канонизации героини Столетней войны, который на рубеже XIX–XX вв. являлся одним из наиболее обсуждаемых во французском обществе.
Заслуживающими внимания представляются и мотивы, которыми, возможно, руководствовался Люк Бессон в последнем по времени фильме, посвященном эпопее Жанны д’Арк. Подсказкой в данном случае вновь выступал внешний облик героини, но на сей раз не Орлеанской Девы, а Иоланды Арагонской, тещи Карла VII, в бесподобном исполнении Фей Данауэй. Как и все прочие персонажи, эта дама представала перед зрителями одетой и причесанной в полном соответствии с модой XV в., однако необходима эта историческая точность была не сама по себе, но для того, чтобы облегчить превращение Иоланды в придворную интриганку. В сцене коронации, когда реймсские прелаты обнаруживали трагическое исчезновение священного елея, необходимого для церемонии помазания, теща будущего монарха тайком наливала в опустевшую склянку обычное масло. Именно эта сцена давала ключ к пониманию главной идеи Л. Бессона, желавшего продемонстрировать слабость и несамостоятельность Карла VII как правителя, попавшего сначала под влияние своей ближайшей родственницы, а затем во всем положившегося на Жанну д’Арк.
Полную противоположность трактовке французского режиссера демонстрировал замысел Густава Учицки. Его фильм, хотя и получивший название «Дева Жанна», создавался в рамках нацистской пропаганды и, возможно, при непосредственном участии Йозефа Геббельса41, а потому в действительности был посвящен отнюдь не героине Столетней войны. Главным для режиссера являлся Карл VII, вернее, фигура сильного правителя, не гнушающегося ничем ради достижения собственных политических целей42. Тирольская шляпа, в которой французский монарх фигурировал в последней сцене фильма, прямо указывала на то, откуда столь могущественный человек может появиться.
Таким образом, многочисленные детали внешнего антуража в исторических фильмах о Жанне д’Арк на поверку оказываются совсем не тем, чем кажутся на первый взгляд. Их смысловая и символическая нагрузка подчеркивает, что сняты эти картины были не столько о событиях прошлого, сколько о чем-то существенно большем, что отражали они реалии не XV столетия, но более поздних эпох. С этой точки зрения они, безусловно, могут рассматриваться как полноценный исторический источник, свидетельствующий, однако, не о жизни и деяниях французской национальной героини, но о последовательной инструментализации ее образа на протяжении XX столетия. Историческая память тем самым уступает в данном случае место феномену «Долгого Средневековья», когда через образы и события этой далекой эпохи обозначаются, осмысливаются и обсуждаются проблемы уже Новейшей истории.
1 Козлов Л.К. Исторический фильм // Кино. Энциклопедический словарь / гл. ред. С.И. Юткевич. М., 1987. С. 156–157; Rosenstone R.A. History on Film/Film on History. London; New York, 2006. P. 11–15.
2 Козлов Л.К. Указ. соч.; Swann P. The British Documentary Film Movement, 1926–1946. Cambridge, 1989. Р. 150–173.
3 Aziza C. Le péplum: L’Antiquité au cinéma. Paris, 1998. P. 5.
4 Tailleur R. L’Ouest et ses miroirs // Le Western. Approches, mythologies, auteurs, filmographies / sous la dir. de R. Bellour. Paris, 1993. P. 19; Cohen C. Le western. Paris, 2005. P. 5.
5 Robé C. Taking Hollywood Back: The Historical Costume Drama, the Biopic, and Popular Front U.S. Film Criticism // Cinema Journal. 2008. T. 48 (2). P. 70–87.
6 Rosenstone R.A. “Like writing history with lighting”: film historique/vérité historique // Vingtième Siècle. Revue d’histoire. 1995. T. 46. P. 164–166. Те же аргументы приведены в: Idem. History on Film/Film on History. P. 154–164.
7 Du bon usage des grands hommes en Europe / sous la dir. de J.-N. Jeanneney, P. Joutard. Paris, 2003. P. 193.
8 В этом списке не учитываются телевизионные постановки, а также те фильмы, в которых Жанна д’Арк является второстепенным действующим лицом. Полный список вышедших до сегодняшнего дня картин, см. на сайте: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_depictions_of_Joan_of_Arc (дата обращения: 28.01.2024).
9 О канонизации Жанны д’Арк и о спорах, которые предшествовали этому решению во Франции, см.: Mas E. Procès de canonisation de Jeanne d’Arc // Bulletin de l’Association des Amis du Centre Jeanne d’Arc. 1998. № 22. P. 51–72; Renoux C. Faut-il canoniser Jeanne d’Arc? Les chemins de la béatification de la Pucelle d’Orléans (1429–1869) // Bulletin de la Société archéologique et historique de l’Orléanais. 2011. № 165. P. 5–65.
10 Сохранилось всего несколько минут (кадров) из картины Ж. Ато. В настоящее время с ними можно познакомиться в Центре Жанны д’Арк в Орлеане (Франция).
11 Ж. Мельес утверждал, что все 12 сцен его «Жанны д’Арк» были сняты еще в 1897 г., однако в каталог собственных работ он включил эту картину только в 1900 г.: Harty K.J. Jeanne au cinéma // Fresh Verdicts on Joan of Arc / eds B. Wheeler, C.T. Wood. London; New York, 1996. P. 237–238; Michaud-Fréjaville F. Cinema, Histoire: autour du thème “johannique” // Cahiers de Recherches Médiévales. 2005. № 12. P. 285. Так или иначе, но данная картина считается первым в мировом кинематографе историческим фильмом: Harty K.J. The Reel Middle Ages: American, Western and Eastern European, Middle Eastern and Asian films about Medieval Europe. Jefferson; London, 1999. Р. 4.
12 Интересно отметить, что в некоторых из этих фильмов роль Жанны д’Арк исполняли либо непрофессиональные, либо совсем юные актрисы. Так, для Рене-Жанны Фальконетти (картина К.Т. Дрейера) данная роль стала первой и последней в кино. Симоне Женевуа, приглашенной М. де Гастином, на момент начала съемок исполнилось всего 17 лет, и она оказалась даже моложе своей героини. Флоранс Дёле снялась у Р. Брессона в 20 лет, не собираясь при этом посвящать себя актерской карьере. Подобный подход, по мнению В. Амьеля, должен был гарантировать чистоту образа, создаваемого этими актрисами: Amiel V. Les représentations de Jeanne d’Arc au cinéma // De l’hérétique à la sainte. Les procès de Jeanne d’Arc revisités / ed. par F. Neveux. Caen, 2012. P. 299.
13 “Ait enim Christus ad matrem et Joseph, Luce II: “Quid est quod me querebatis? Nesciebatis, quia in his que patris mei sunt oportet me esse?” (Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d’Arc / ed. P. Duparc: in 5 vols. Paris, 1979. Vol. 2. Р. 455). “Quadam occasione verbi Salvatoris nostri quo dicit: “Omnis qui reliquerit patrem et matrem propter me centuplum accipiet” (Ibid. Р. 209). Подробнее см.: Тогоева О.И. Еретичка, ставшая святой. Две жизни Жанны д’Арк. М.; СПб., 2016. С. 252–253.
14 “Respondit quod illa vox erat sancte Katharine et sancte Margarete… Respondit quod sanctus Michael primo venit” (Procès de condamnation de Jeanne d’Arc / eds P. Tisset, Y. Lanhers: in 3 vols. Paris, 1960–1971. Vol. 1. Р. 71, 73). См. об этих допросах: Тогоева О.И. Еретичка, ставшая святой. С. 140–142.
15 Contamine Ph., Bouzy O., Hélary X. Jeanne d’Arc. Histoire et dictionnaire. Paris, 2012. Р. 180–190.
16 Отчасти та же особенность характерна и для фильма Р. Росселлини 1954 г., который представляет собой переложение на язык кинематографа оратории «Жанна д’Арк на костре» Поля Клоделя и Артура Хоннегера (1938). Фильм является записью спектакля, поставленного в театре Сан-Карло (Неаполь) в декабре 1953 г. Все действие, таким образом, разворачивается в одной-единственной локации – на месте казни Девы.
17 Здесь важно отметить и тот факт, что все три автора самым внимательным образом отнеслись к историческим фактам, с которыми работали. Фильмы К.Т. Дрейера и Р. Брессона основывались исключительно на материалах обвинительного процесса 1431 г. Датский режиссер мог ознакомиться с ними по переводам конца XIX в., французский – уже по академическому изданию Пьера Тиссе, начавшему выходить в 1960 г. На съемки фильма «Начало» в качестве научного консультанта Глеб Панфилов пригласил В.И. Райцеса, лучшего в СССР знатока эпопеи Жанны д’Арк: Абрамович С.Л. Владимир Ильич Райцес. Памятные записки // Средние века. 1997. № 60. С. 356–357; Hilaire Y.-M. Jeanne d’Arc, dès romantiques à nos jours // Histoire du Christianisme. 2008. № 43. P. 60–67.
18 Реставрация была проведена в 1818–1820 гг. при поддержке лично Людовика XVIII, пожелавшего создать из Домреми подлинное место памяти о французской национальной героине: Тогоева О.И. «Дева со знаменем». История Франции XV–XXI веков в портретах Жанны д’Арк. М., 2023. С. 276–300.
19 Осада Орлеана английскими войсками длилась с 12 октября 1428 по 8 мая 1429 г.
20 Raytses V. La première entrevue de Jeanne d’Arc et de Charles VII à Chinon. Essai de reconstruction d’un fait historique // Bulletin de l’Association des Amis du Centre Jeanne d’Arc. 1989. № 13. P. 7–17. Рус. пер.: Райцес В.И. «Свидание в Шиноне». Опыт реконструкции // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории – 2003 / под ред. М.А. Бойцова, И.Н. Данилевского. Вып. 5. М., 2003. С. 42–59.
21 Contamine Ph., Bouzy O., Hélary X. Op. cit. P. 106–111.
22 О крайне бедном и в целом незатейливом быте средневековых европейских правителей любого ранга см.: Бойцов М.А. Скромное обаяние власти (К облику германских государей XIV–XV вв.) // Одиссей. Человек в истории – 1995. М., 1995. С. 37–66.
23 Contamine Ph., Bouzy O., Hélary X. Op. cit. P. 33–57.
24 Предположительно 23 февраля 1429 г.: Contamine Ph., Bouzy O., Hélary X. Op. cit. P. 106.
25 Подробный анализ гендерного аспекта жизни средневекового французского двора см. в: Крылова Ю.П. Исследование французских средневековых дворов в новейшей историографии Франции, Бельгии, Нидерландов, Швейцарии // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2023. T. 14. Вып. 3 (125). URL: https://history.jes.su/s207987840025025–6–1/ (дата обращения: 30.01.2024).
26 Именно так, в частности, до сих пор отмечают в Орлеане праздник 8 мая – день снятия английской осады с города в мае 1429 г.: Prost A. Jeanne à la fête. Identité collective et mémoire à Orléans depuis la Révolution française // La France démocratique. Mélanges offertes à Maurice Agulhon / réunis et publ. par C. Charle, J. Lalouette, M. Rigenet, A.-M. Sohn. Paris, 1998. P. 379–393; Michaud-Fréjaville F. A Orléans, six siècles de commémoration // Histoire du Christianisme. 2008. № 43. P. 68–71.
27 Речь идет прежде всего о материалах процесса по реабилитации Жанны д’Арк 1455–1456 гг., на котором были допрошены непосредственные участники процесса 1431 г.: Тогоева О.И. Еретичка, ставшая святой. С. 179–182.
28 Brown E.A.R., Famiglietti R.C. The Lit de Justice. Semantics, Ceremonial, and the Parlement of Paris, 1300–1600. Sigmaringen, 1994. Р. 31–44.
29 Как отмечал В. Пинель, избыточность деталей в некоторых сценах фильма В. Флеминга создавала не эффект реальности, но полностью противоположное ощущение отсутствия исторической достоверности: Pinel V. “Joan of Arc” de Victor Fleming, ou l’hagiographie spectaculaire // Etudes cinématographiques. 1962. № 18–19. P. 62.
30 Hilaire Y.-M. Op. cit.
31 Тогоева О.И. Еретичка, ставшая святой. С. 179–181.
32 Отмечу, что Р. Брессон решил снимать свой «Процесс Жанны д’Арк» 1962 г., в частности, именно потому, что его не устраивала подобная трактовка сцены казни, предложенная К.Т. Дрейером: Amiel V. Op. cit. P. 299–300.
33 См. подробнее: Pessiot M. Illustre ou infortunée. Figures de Jeanne d’Arc au début du XIXe siècle // Jeanne d’Arc. Les tableaux de l’Histoire, 1820–1920. Paris, 2003. P. 17–33; Heimann N.M. Joan of Arc in French Art and Culture (1700–1855). From Satire to Sanctity. Aldershot; Burlington, 2005. Р. 99–176.
34 Не исключено, что большинство сценаристов опирались в данном вопросе на давнее исследование: Harmand A. Jeanne d’Arc, ses costumes, son armure. Essai de reconstruction. Paris, 1929.
35 Heimann N.M. Op. cit. P. 140–162.
36 Тогоева О.И. «Дева со знаменем». С. 340.
37 Тот же прием использовали Отто Премингер в 1957 г. и Глеб Панфилов в 1970 г.
38 Sémolué J. “La Passion de Jeanne d’Arc”, prise de conscience de Carl Dreyer // Etudes cinématographiques. 1962. № 18–19. P. 38–52.
39 О средневековых изображениях Страстей Христовых см. прежде всего: Майзульс М.Р. Воображаемый враг. Иноверцы в средневековой иконографии. М., 2022. С. 187–200, 287–333. Сравнение Жанны д’Арк с Иисусом Христом не было, естественно, изобретением К.Т. Дрейера. Данная аналогия использовалась уже в XV в., а в XIX в. (накануне канонизации) являлась одной из основных: Тогоева О.И. Еретичка, ставшая святой. С. 252–266, 449–458, 488–490, 496–505.
40 «Dicit eciam quod promiserunt ipsam Iohannam conducere in paradisum, et ita ab eis requisivit» (Procès de condamnation. Vol. 1. P. 85).
41 В историографии уже высказывались предположения, что именно Йозеф Геббельс являлся автором всех диалогов в «Деве Жанне»: по своей риторике они действительно напоминают его публичные выступления. См. подробнее: Steinberg H. “Das Mädchen Johanna” de Gustav Ucicky, ou Jeanne et Gebbels // Etudes cinématographiques. 1962. № 18–19. P. 53–57; Harty K.J. Jeanne au cinéma. Р. 247.
42 Вот почему, в частности, реабилитация Жанны д’Арк, согласно трактовке Г. Учицки, происходила не по постановлению церковного суда, а по личному распоряжению французского монарха.
About the authors
Olga I. Togoeva
Institute of World History, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: togoeva@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-7854-3222
доктор исторических наук, главный научный сотрудник
Russian Federation, MoscowReferences
- Абрамович С.Л. Владимир Ильич Райцес. Памятные записки // Средние века. 1997. № 60. С. 346–362.
- Бойцов М.А. Скромное обаяние власти (К облику германских государей XIV–XV вв.) // Одиссей. Человек в истории – 1995. М., 1995. С. 37–66.
- Козлов Л.К. Исторический фильм // Кино. Энциклопедический словарь / гл. ред. С.И. Юткевич. М., 1987. С. 156–157.
- Крылова Ю.П. Исследование французских средневековых дворов в новейшей историографии Франции, Бельгии, Нидерландов, Швейцарии // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2023. T. 14. Вып. 3 (125). URL: https://history.jes.su/s207987840025025–6–1/ (дата обращения: 30.01.2024).
- Майзульс М.Р. Воображаемый враг. Иноверцы в средневековой иконографии. М., 2022.
- Райцес В.И. «Свидание в Шиноне». Опыт реконструкции // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории – 2003 / под ред. М.А. Бойцова, И.Н. Данилевского. Вып. 5. М., 2003. С. 42–59.
- Тогоева О.И. «Дева со знаменем». История Франции XV–XXI веков в портретах Жанны д’Арк. М., 2023.
- Тогоева О.И. Еретичка, ставшая святой. Две жизни Жанны д’Арк. М.; СПб., 2016.
- Abramovich S.L. Vladimir Il’ich Rajces. Pamyatnye zapiski [Vladimir Ilyich Raitses. Memories] // Srednie veka [Middle Ages]. 1997. № 60. S. 346–362. (In Russ.)
- Bojczov M.A. Skromnoe obayanie vlasti (K obliku germanskih gosudarej XIV–XV vv.) [The modest charm of power (To the appearance of the German sovereigns of the 14th-15th centuries)] // Odissej. Chelovek v istorii – 1995 [Odyssey. A man in history – 1995]. Moskva, 1995. S. 37–66. (In Russ.)
- Kozlov L.K. Istoricheskii fil’m [Historical film] // Kino. Enciklopedicheskii slovar’ [Cinema. Encyclopedic dictionary] / gl. red. S.I. Yutkevich. Moskva, 1987. S. 156–157. (In Russ.)
- Krylova Yu.P. Issledovanie franczuzskikh srednevekovykh dvorov v noveishei istoriografii Francii, Bel’gii, Niderlandov, Shvejczarii [The French Medieval Courts in the Latest Historiography of France, Belgium, the Netherlands and Switzerland] // Elektronnyj nauchno-obrazovatel’nyj zhurnal “Istoriya” [Electronic scientific and educational Journal “History”]. 2023. T. 14. Vyp. 3 (125). URL: https://history.jes.su/s207987840025025–6–1/ (access date: 30.01.2024). (In Russ.)
- Majzul’s M.R. Voobrazhaemyi vrag. Inovertsy v srednevekovoi ikonografii [An imaginary enemy. Gentiles in medieval iconography]. Moskva, 2022. (In Russ.)
- Rajces V.I. “Svidanie v Shinone”. Opyt rekonstruktsii [“Rendez-vous in Chinon”. A reconstruction attempt] // Kazus. Individual’noe i unikal’noe v istorii [Casus. Individual and unique in history] / pod red. M.A. Bojczova, I.N. Danilevskogo. Vyp. 5. Moskva, 2003. S. 42–59. (In Russ.)
- Togoeva O.I. “Deva so znamenem”. Istoriya Francii XV–XXI vekov v portretah Zhanny d’Ark [“The Maiden with a banner”. The history of France of the 15th-21st centuries in the portraits of Joan of Arc]. Moskva, 2023. (In Russ.)
- Togoeva O.I. Eretichka, stavshaya svyatoi. Dve zhizni Zhanny d’Ark [Heretic turned Saint. Two lifes of Joan of Arc]. Moskva; Sankt-Peterburg, 2016. (In Russ.)
- Amiel V. Les représentations de Jeanne d’Arc au cinéma // De l’hérétique à la sainte. Les procès de Jeanne d’Arc revisités / ed. par F. Neveux. Caen, 2012. P. 297–303.
- Aziza C. Le péplum: L’Antiquité au cinéma. Paris, 1998.
- Bouzy O. Jeanne d’Arc, les signes au roi et les entrevues de Chinon // Guerre, pouvoir et noblesse au Moyen Age. Mélanges en l’honneur de Philippe Contamine. Paris, 2000. P. 131–138.
- Brown E.A.R., Famiglietti R.C. The Lit de Justice. Semantics, Ceremonial, and the Parlement of Paris, 1300–1600. Sigmaringen, 1994.
- Cohen C. Le western. Paris, 2005.
- Contamine Ph., Bouzy O., Hélary X. Jeanne d’Arc. Histoire et dictionnaire. Paris, 2012.
- Du bon usage des grands hommes en Europe / sous la dir. de J.-N. Jeanneney, P. Joutard. Paris, 2003.
- Harmand A. Jeanne d’Arc, ses costumes, son armure. Essai de reconstruction. Paris, 1929.
- Harty K.J. Jeanne au cinéma // Fresh Verdicts on Joan of Arc / eds B. Wheeler, C.T. Wood. London; New York, 1996. P. 237–264.
- Harty K.J. The Reel Middle Ages: American, Western and Eastern European, Middle Eastern and Asian films about Medieval Europe. Jefferson; London, 1999.
- Heimann N.M. Joan of Arc in French Art and Culture (1700–1855). From Satire to Sanctity. Aldershot; Burlington, 2005.
- Hilaire Y.-M. Jeanne d’Arc, dès romantiques à nos jours // Histoire du Christianisme. 2008. № 43. P. 60–67.
- Mas E. Procès de canonisation de Jeanne d’Arc // Bulletin de l’Association des Amis du Centre Jeanne d’Arc. 1998. № 22. P. 51–72.
- Michaud-Fréjaville F. A Orléans, six siècles de commémoration // Histoire du Christianisme. 2008. № 43. P. 68–71.
- Michaud-Fréjaville F. Cinema, Histoire: autour du thème “johannique” // Cahiers de Recherches Médiévales. 2005. № 12. P. 285–300.
- Pessiot M. Illustre ou infortunée. Figures de Jeanne d’Arc au début du XIXe siècle // Jeanne d’Arc. Les tableaux de l’Histoire, 1820–1920. Paris, 2003. P. 17–33.
- Pinel V. “Joan of Arc” de Victor Fleming, ou l’hagiographie spectaculaire // Etudes cinématographiques. 1962. № 18–19. P. 58–64.
- Procès de condamnation de Jeanne d’Arc / eds par P. Tisset, Y. Lanhers: in 3 vols. Paris, 1960–1971.
- Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d’Arc / ed. par P. Duparc: in 5 vols. Paris, 1977–1988.
- Prost A. Jeanne à la fête. Identité collective et mémoire à Orléans depuis la Révolution française // La France démocratique. Mélanges offertes à Maurice Agulhon / réunis et publ. par C. Charle, J. Lalouette, M. Rigenet, A.-M. Sohn. Paris, 1998. P. 379–393.
- Raytses V. La première entrevue de Jeanne d’Arc et de Charles VII à Chinon. Essai de reconstruction d’un fait historique // Bulletin de l’Association des Amis du Centre Jeanne d’Arc. 1989. № 13. P. 7–17.
- Renoux C. Faut-il canoniser Jeanne d’Arc? Les chemins de la béatification de la Pucelle d’Orléans (1429–1869) // Bulletin de la Société archéologique et historique de l’Orléanais. 2011. № 165. P. 5–65.
- Robé C. Taking Hollywood Back: The Historical Costume Drama, the Biopic, and Popular Front U.S. Film Criticism // Cinema Journal. 2008. T. 48 (2). P. 70–87.
- Rosenstone R.A. “Like writing history with lighting”: film historique/vérité historique // Vingtième Siècle. Revue d’histoire. 1995. T. 46. P. 162–175.
- Rosenstone R.A. History on Film/Film on History. London; New York, 2006.
- Sémolué J. “La Passion de Jeanne d’Arc”, prise de conscience de Carl Dreyer // Etudes cinématographiques. 1962. № 18–19. P. 38–52.
- Steinberg H. “Das Mädchen Johanna” de Gustav Ucicky, ou Jeanne et Gebbels // Etudes cinématographiques. 1962. № 18–19. P. 53–57.
- Swann P. The British Documentary Film Movement, 1926–1946. Cambridge, 1989.
- Tailleur R. L’Ouest et ses miroirs // Le Western. Approches, mythologies, auteurs, filmographies / sous la dir. de R. Bellour. Paris, 1993. P. 18–54.
Supplementary files