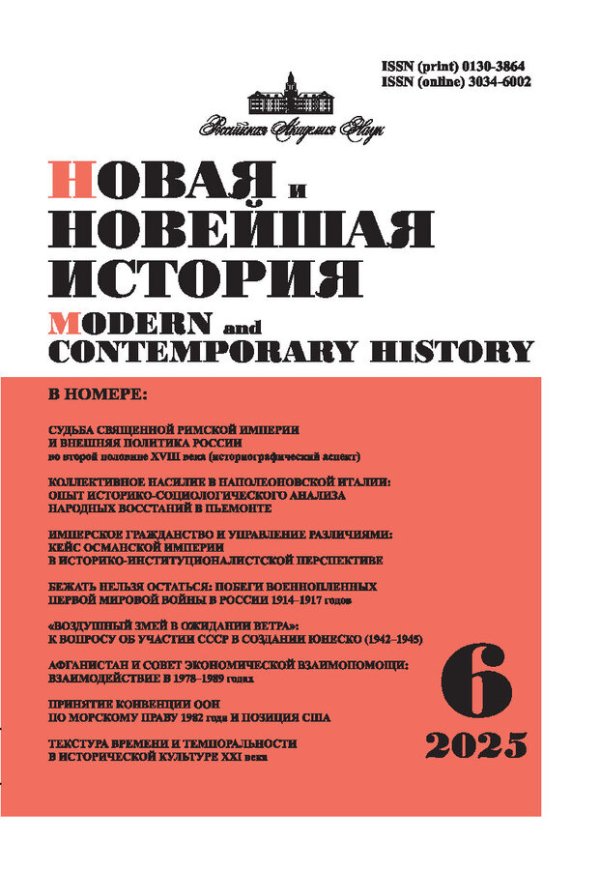“Germany and the Balkan Feud”: The Russian Press Assessment of German Policy During the Two Balkan Wars of 1912–1913
- Authors: Kotov B.S.1
-
Affiliations:
- Slavic Studies, Russian Academy of Sciences
- Issue: No 3 (2024)
- Pages: 107-126
- Section: 20th century
- URL: https://journal-vniispk.ru/0130-3864/article/view/259825
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0130386424030094
- ID: 259825
Cite item
Full Text
Abstract
By analysing leading Russian newspapers on the eve of the Great War, the author illustrates the perception of German policy by Russian public opinion during the two Balkan wars of 1912–1913. He concludes that during the ten months of the Balkan crisis, the attitude of the Russian press towards Germany underwent a significant transformation. In the first two months of the Balkan War (October and November 1912), when Berlin was not openly declaring its support for Austrian claims, one could find favourable comments on German policy in Russian newspapers. The attitude of the Russian press to Germany shifted in a negative direction under the influence of Chancellor Theobald von Bethmann Hollweg’s speech in the Reichstag on 2 December 1912, when for the first time since the beginning of the Balkan War Berlin publicly declared its readiness to back its Austrian ally’s claims with arms in hand. Russian society experienced even greater disappointment in German politics after the start of the London Meeting of Ambassadors, at which the German representative supported the proposals of the Austrian side, and after a new speech by Bethmann-Hollweg in the German parliament on April 7, 1913, when the Reich Chancellor declared “racial opposites” between the Slavic and German peoples and laid full responsibility for maintaining a tense the situation in Europe affects the pan-Slavic circles of Russia. These two speeches by the head of the German government and Berlin’s support for Austrian claims at the London Conference were negatively perceived by the overwhelming majority of the Russian press. At the same time, the disagreements between Germany and Austria-Hungary that emerged during the Bucharest Peace Conference and immediately after it gave the Russian press reason to declare a serious crisis of the Triple Alliance. The article concludes that there was a significant increase in anti-German sentiment in Russia under the influence of German behavior during the Balkan crisis of 1912–1913. Thus, the two Balkan Wars became an important milestone not only in the history of international relations at the beginning of the 20th century, but also in the propaganda preparations for the First World War.
Full Text
Балканские войны 1912–1913 гг. явились важной вехой в истории международных отношений начала XX в. 1Первая Балканская война между Османской империей и коалицией Болгарии, Сербии, Греции и Черногории, начавшаяся в октябре 1912 г., привела к утрате турками почти всех их владений на Балканах. Важнейшим итогом этой войны стало усиление балканских христианских государств, объединенных в Балканский союз, и ослабление Османской империи. Для великих держав, каждая из которых имела свои интересы на Балканах и пристально следила за событиями в этом регионе Европы, быстрый разгром турецкой армии на полях сражений Фракии и Македонии оказался неожиданностью; для стран Антанты (Россия, Франция и Англия) – скорее, приятной; для стран Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия и Италия) – досадной и внушающей опасения. Австрийская дипломатия в ноябре 1912 г. выступила с проектом создания отдельного албанского государства, призванного урезать территориальные приобретения балканских победителей и не дать Сербии выйти к Адриатическому морю через североалбанские земли. Угрожая войной странам Балканского союза в случае непринятия своих требований, Австро-Венгрия – при поддержке союзников Италии и Германии – смогла настоять на своем варианте решения албанского вопроса. На открывшейся в начале декабря 1912 г. Лондонской конференции послов, призванной согласовать интересы великих держав перед лицом радикального изменения ситуации на Балканах, все страны, включая Россию, поддержали идею создания отдельного албанского государства.
Из всех стран Тройственного союза Австро-Венгрия и Италия были в наибольшей степени заинтересованы в балканских делах. Они издавна имели существенные интересы в албанских землях и стремились не допустить выхода на адриатическое побережье какой-либо третьей державы. Однако и для Германии, этого лидера Тройственного союза, балканские события осени 1912 г. имели важное значение по двум основным причинам. Во-первых, победа Балканского союза над Турцией серьезно ухудшала положение союзника Германии – Австро-Венгрии. Возникновение и укрепление Балканского союза, дружественного России и другим странам Антанты, два члена которого (Сербия и Черногория) находились во враждебных отношениях с Австро-Венгрией, создавало угрозу для последней с юга: теперь она имела дело не с маленькими и разрозненными балканскими государствами, а с коалицией стран, намеревавшихся существенно расширить свои границы за счет побежденной Турции. В Берлине опасались, что отныне в случае общеевропейской войны армия империи Габсбургов будет скована боевыми действиями против стран Балканского союза и не сможет оказать Германии помощь в борьбе против России на восточном фронте. Во-вторых, тяжелые поражения Турции, чья армия на протяжении нескольких десятилетий реформировалась немецкими инструкторами по германскому образцу (миссии генерала Кольмара фон дер Гольца), нанесли удар по авторитету германской военной школы и подорвали статус военной мощи Германии, завоеванный во время франко-прусской войны и битвы при Седане. Напротив, победы стран Балканского союза, армии которых ориентировались в военном строительстве либо на Россию (Болгария, Сербия, Черногория), либо на Францию (Греция), казалось, укрепляли международный престиж франко-русского союза.
Существовало еще одно важное обстоятельство, влиявшее на политику Берлина во время двух Балканских войн 1912–1913 гг.: объективная неготовность Германии в тот период к большой общеевропейской войне. В силу этого германское правительство удерживало австрийцев от слишком агрессивных действий на Балканах, которые могли привести к мировой войне. Министр иностранных дел России С.Д. Сазонов, посетив Берлин в сентябре 1912 г. за несколько дней до объявления Черногорией войны Турции, отмечал, что среди руководства Германской империи господствовало «беспокойство, вызываемое возможностью быть вовлеченным в нежелательные международные осложнения в минуту, не избранную для этого самой Германией». Упоминая в мемуарах о переговорах с канцлером Т. Бетман-Гольвегом и главой германской дипломатии А. Кидерлен-Вехтором, С.Д. Сазонов пишет, что в тот момент «в Германии были готовы сделать все возможное, чтобы предотвратить балканскую войну или, если бы это оказалось недостижимым, по крайней мере не дать захватить ей пол-Европы»2.
В Берлине считали, что для участия Германии в войне на европейском континенте необходимы несколько условий. Во-первых, следовало провести через рейхстаг новый военный законопроект, предусматривавший значительное увеличение личного состава и другие меры по усилению боеспособности германской армии (данный законопроект был принят только после окончания Первой балканской войны в июне 1913 г.). Во-вторых, в германском внешнеполитическом ведомстве и генштабе считали невыгодным начинать войну против сплоченного Балканского союза. Там не без оснований надеялись, что скоро из-за разногласий с Сербией и Грецией Болгария порвет с остальными участниками альянса и повернется к Тройственному союзу. На такую благоприятную для австро-германского блока возможность раскола Балканского союза указывал в феврале 1913 г. глава германского генштаба Г. Мольтке в письме к австрийскому коллеге Ф. Конраду фон Гетцендорфу3.
Но самой важной причиной, заставлявшей Берлин проявлять осторожность во время балканского кризиса 1912–1913 гг., была необходимость обеспечить нейтралитет Великобритании в предстоящей войне на европейском континенте4. Канцлер Бетман-Гольвег и статс-секретарь по иностранным делам Кидерлен-Вехтер были убеждены, что войну против России и Франции немцы могут успешно вести только при нейтралитете Англии. Используя обострение русско-британских противоречий в Персии и демонстрируя миролюбие и умеренность в балканском вопросе, они пытались добиться переориентации внешней политики Англии, что привело бы к выходу ее из Антанты5. В феврале 1913 г. германский рейхсканцлер писал министру иностранных дел Австро-Венгрии Л. Берхтольду: «Мы можем ожидать новой ориентации английской политики, если мы сумеем выйти из нынешнего кризиса без всяких конфликтов»6. По мысли Бетман-Гольвега, в течение первых лет своего канцлерства стремившегося к установлению «сердечного согласия» в отношениях с Лондоном, сотрудничество на Балканах должно было стать отправной точкой примирения англо-германских противоречий и кооперации двух держав в Восточном вопросе.
В Вене ожидали, что Германия и на этот раз, как в 1909 г., выступит в качестве «верного Нибелунга», готового силой оружия отстаивать австрийские интересы на Балканах. В министерстве иностранных дел Австро-Венгрии, не получившем в начале Первой балканской войны безоговорочной поддержки со стороны Берлина, в октябре 1912 г. нарастало недовольство поведением руководства Германской империи7. На Бальхаусплатц 8 с неодобрением взирали на попытки немцев достигнуть разрядки в отношениях с Лондоном на почве урегулирования балканского конфликта, поскольку в силу этого в начале Балканской войны Германия оказывала лишь вялую поддержку своему австрийскому союзнику в жизненно важных для него вопросах. «Немецкая точка зрения, что мы не должны шевелиться, дабы не растоптать хилое растение германо-английского сближения, выражается с бесстыдной откровенностью», – раздраженно писал Берхтольд наследнику престола эрцгерцогу Францу Фердинанду9. В составленном в начале октября 1912 г. меморандуме высокопоставленного дипломата Ф. Сапари, назначенного уже после завершения Балканских войн послом Австро-Венгрии в Санкт-Петербург, говорилось, что поведение Германии в разворачивающемся балканском кризисе ставит под вопрос дальнейшее существование союза между двумя империями: «в тот момент, к которому монархия готовилась в течение десятилетий в дипломатическом и военном отношении, наш союзник предпринимает попытку путем европейской дипломатической акции ограничить свободу наших действий и лишить нас выгод причитающегося нам по праву естественного первенства на Балканском полуострове»10.
Скоординировать свою политику на Балканах обе державы смогли только в начале ноября 1912 г., когда новая балканская программа Берхтольда, предусматривавшая создание Албании и недопущение сербов к Адриатическому морю, была одобрена в Берлине11. Немцам импонировала определенная умеренность этой программы и отказ руководства империи Габсбургов от планов немедленного несогласованного с Германией военного выступления на Балканах. Ни кайзер, ни Бетман-Гольвег, ни Мольтке не отвергали саму идею войны со странами Антанты из-за австрийских и германских интересов на Ближнем Востоке, но выбор момента для начала войны они хотели оставить за собой. 22 ноября 1912 г. был сделан еще один важный шаг по укреплению австро-германского блока: во время краткого визита в Берлин, произошедшего в самый разгар австро-сербского конфликта из-за порта на Адриатике, начальник австро-венгерского генштаба Б. Шемуа и эрцгерцог Франц Фердинанд получили от главы германского генштаба и императора Вильгельма II заверения в готовности Германии поддержать силой оружия дуалистическую монархию в случае вмешательства России в австро-сербский военный конфликт12. Кайзер заявил австрийскому престолонаследнику, что «если речь зайдет о престиже Австро-Венгрии, то он не побоится мировой войны и будет готов вступить в войну со всеми тремя державами Антанты»13.
Чтобы создать благоприятную атмосферу при предстоящем возобновлении Тройственного союза, канцлер Бетман-Гольвег выступил в рейхстаге 2 декабря 1912 г. Сначала он сказал несколько слов об усилиях германской дипломатии сохранить мир и локализовать войну на Балканах, упомянув, что Германская империя имеет в этом регионе большие экономические интересы. Затем канцлер заявил о незыблемости союзных отношений с империей Габсбургов и о готовности Германии выполнить свои обязательства перед союзниками в том случае, если их столкновение с третьей державой будет угрожать самому их существованию14. Своей речью Бетман-Гольвег хотя и несколько приободрил австрийцев, но вызвал большие опасения в Лондоне, нанеся тем самым серьезный удар по своему главному проекту – сближению с Великобританией. Спустя несколько дней после выступления Бетмана в рейхстаге английский военный министр Р. Холдэн предупредил немецкого посла К. Лихновского, что британское правительство ни в коем случае не потерпит разгрома Франции в случае, если Германия в связи с русско-австрийской войной решится – в соответствии с планом Шлиффена – атаковать Францию15.
Известия, полученные из Лондона от Лихновского, настолько взволновали Вильгельма II, что 8 декабря 1912 г. он созвал совещание с участием высших армейских чинов, на котором выразил все свое разочарование поведением британского правительства. Надежды Вильгельма на нейтралитет Великобритании в континентальной войне рушились. По мнению императора, теряло смысл продолжение осторожного курса первых двух месяцев Балканской войны. Кайзер на совещании 8 декабря выступил за немедленную войну против России и Франции. Военные поддержали Вильгельма. Мольтке, считавший войну неизбежной, прямо заявил, что «чем скорее, тем лучше»16. Канцлер Бетман-Гольвег пытался убедить императора и военных, что Германия сможет успешно вести войну на континенте только в том случае, если Англия останется нейтральной. Он считал реакцию императора на высказывания Холдэна преувеличенной: военный министр Англии, по мнению Бетман-Гольвега, не сказал ничего нового, он только подтвердил стремление Лондона проводить традиционную политику «баланса сил». Объективные интересы Англии, был уверен глава германского правительства, предписывают ей нейтральную позицию в будущей войне на европейском континенте. Не следует только провоцировать англичан поддержкой австрийских агрессивных устремлений к Салоникам и новыми программами строительства флота.
Борьба в верхах Германской империи по вопросу о войне и мире завершилась в конце декабря 1912 г. победой Т. Бетмана и военного министра И. Геерингена, считавших, что Германия еще недостаточно готова к войне, а потому должна выступать за локализацию балканского конфликта17.
Таким образом, политика Берлина в последние месяцы 1912 г. была противоречивой и непоследовательной. Это было связано с тем, что Берлину приходилось лавировать между сталкивающимися интересами двух своих союзников – Австрии и Италии, победоносным Балканским союзом (двух участников которого – Грецию и Болгарию – немцы хотели перетянуть на свою сторону) и ослабленной Турцией (а ее нельзя было оттолкнуть, чтобы не потерять завоеванных до этого позиций в Малой Азии и Месопотамии). Кроме того, в Берлине стремились к проведению согласованных совместных дипломатических акций с Лондоном, имея далеко идущие планы оторвать Англию от Антанты. В результате, как отмечает А.М. Зайончковский, «поведение Германии в это время отличалось присущей ей в дни европейских осложнений таинственностью и неопределенностью»18.
Анализ русской прессы показывает, что эта «таинственность и неопределенность» политики Берлина во время Первой балканской войны повлияла на восприятие русским обществом положения Германии в системе «европейского концерта» держав и ее роли в решении Восточного вопроса.
Русская пресса понимала, что вопрос о войне и мире в Европе зависит от Берлина, поскольку без его санкции ни Австро-Венгрия, ни тем более Румыния не рискнут на свой страх и риск выступить против Балканского союза. Германские политики в течение первых двух месяцев Балканской войны не сделали ни одного публичного заявления, как бы дистанцировавшись от событий, разыгравшихся на юго-востоке Европы, поэтому так важен анализ истинных настроений в германском обществе и правящей элите. Большинство периодических изданий России предполагало, что Германия не желает ввязываться в войну из-за австрийских интересов на Балканах. Немецкое молчание расценивалось, скорее, как неодобрение австрийского шовинизма и бряцания оружием. Нередко на страницах российских газет можно было встретить одобрительные отзывы в отношении политики германского правительства.
Кадетская «Речь» в ноябре 1912 г. называла поведение Германской империи «в высшей степени сдержанным и осторожным»19. Сочувственно отзывались о политике кабинета Бетман-Гольвега в начале Первой балканской войны и консервативные «Московские ведомости», отмечавшие, что Берлин до сих пор не поддался подстрекательствам из Вены и сдерживает австрийцев от шагов, которые могли бы привести к общеевропейским осложнениям. «Не может быть сомнений в искреннем желании германского правительства охранить мир, нарушение которого как раз для Германии по ее географическому положению наиболее опасно»20, – писала эта газета, уверенная, что «благоразумие Германии» позволяет спокойно смотреть в будущее.
«Русское слово» в октябре 1912 г. указывало на значение блестящих побед балканских союзников над Турцией для изменения общественных настроений в Германии: теперь немцы приходят к убеждению, что они отнюдь не обязаны таскать каштаны из балканского пожара для своих австрийских союзников и «что пресловутый санджак не стоит костей одного померанского гренадера»21. Об общественных настроениях в Германии в связи с начавшейся войной на Балканах писали и «Русские ведомости». В октябре 1912 г. корреспондент этой либеральной газеты Г. Гроссман, описывая массовый митинг немецких социал-демократов против возможного втягивания Германии в войну из-за балканских неурядиц в Трептов-парке, утверждал: «В настоящий же момент, кажется, нет более миролюбиво настроенной страны, чем Германия, во всех слоях ее населения»22.
Корреспондент газеты партии прогрессистов «Утро России» в Берлине В. Назимов сообщал, что, хотя немцы и разочарованы поражением Турции, на которую они возлагали столько надежд, Германия уже примирилась с турецким разгромом и как «реальный политик» стремится сориентироваться в новом соотношении сил, приспособиться к нему23. По его наблюдениям, война с Россией была бы в Германии «крайне непопулярна»24. Такие же оценки можно было встретить и на страницах октябристского «Голоса Москвы». Берлинский корреспондент этой газеты Н. Арефьев писал, что «возможность войны с Россией сильно смущает, прямо ужасает немцев»25. Немцы отдают себе отчет, что война поставит на карту все достижения Германской империи последних 40 лет, и осознание этого побуждает немцев стремиться к сохранению мира «во что бы то ни стало».
«Новое время» справедливо полагало, что причиной осторожного поведения германского правительства, удерживающего Вену от военного выступления на Балканах, являются не столько желания и интересы немецкого народа, сколько военная неподготовленность Германской империи к войне со странами Антанты, прежде всего неготовность германского флота к столкновению с британским. В Берлине не одобряют австрийское давление на Балканский союз, так как оно может вызвать войну преждевременно, вопреки расчетам германского генштаба и адмиралтейства. Поэтому, сообщал корреспондент «Нового времени» из Берлина, «здесь желают только одного – чтобы Австрия была потише, не кидалась бы в авантюры. Таково преобладающее настроение в руководящих кругах Берлина»26.
Наиболее благожелательные отзывы в отношении политики Берлина можно было встретить в прогерманской «Земщине», уверенной, что Россия успешно выполнила главную свою задачу в войне, не позволив Австрии вмешаться в балканские события, только благодаря содействию Берлина. Германия, был убежден редактор этой газеты С.К. Глинка-Янчевский, не желает войны с Россией и своим спокойным поведением удерживает и Австрию27. Осторожный курс правительства канцлера Бетман-Гольвега в начале Первой балканской войны позволил Глинке-Янчевскому снова поставить вопрос о необходимости переориентации российской внешней политики на Берлин28.
Изменение отношения русской прессы к Германии в негативную сторону произошло под влиянием нашумевшего выступления канцлера Бетман-Гольвега в рейхстаге 2 декабря 1912 г., когда германское правительство официально определило свою позицию по отношению к балканским событиям. Речь рейхсканцлера привлекла большое внимание российских газет, подавляющее большинство которых оценило ее негативно, указывая, что в напряженной атмосфере австро-сербского противостояния она не только не способствовала снижению напряженности, но, наоборот, подстегнула Австрию к еще более жестким и самоуверенным действиям.
«Германская дипломатия, державшаяся как бы нарочно в тени во все время балканского кризиса, понемногу начинает сбрасывать маску»29, – писало «Русское слово», считавшее, что, в сущности, ничего нового рейхсканцлер не сказал. Речь Бетман-Гольвега опасна не своим содержанием, а впечатлением, которое она произведет в Вене: ничем не спровоцированное напоминание о готовности Германии выполнить свои союзнические обязательства по договору 1879 г. будет истолковано военными и дипломатами империи Габсбургов как поощрение к более агрессивной политике в отношении Сербии30. Такие же оценки высказывало и «Утро России», характеризовавшее речь канцлера как «явно враждебный» по отношению к России акт31. Газета прогрессистов была уверена, что именно выступление Бетман-Гольвега в рейхстаге до крайности обострило ситуацию в Европе и поставило державы на грань войны: «Речь его воздействовала на неуверенную в свои единичные силы Австрию, как удар бича погонщика. Австро-венгерская дипломатия закусила удила, забыла все свои сомнения и колебания», поскольку почувствовала за собой поддержку Германской империи32. «Голос Москвы», в свою очередь, видел в выступлении германского канцлера лишь желание припугнуть Россию, как в 1909 г., но не твердо принятое решение воевать за интересы Австрии на Балканах33. Умеренные, пацифистски настроенные «Русские ведомости» осторожно пожурили германского канцлера, чье «сенсационное выступление» тем более «лишено оправдания», что за последнее время опасность общеевропейской войны из-за балканских дел успела потерять остроту и отношения между великими державами, казалось, утратили свою напряженность34.
В некоторых российских газетах обращалось внимание на многозначительную оговорку Бетман-Гольвега, заявившего, что Германия поддержит своих союзников в том случае, если опасность будет угрожать самому их существованию. «Речь» придавала большое значение этим словам канцлера, полагая, что в них выразилось настроение германских правящих кругов – «поддерживать не капризы Австрии, а только ее жизненные интересы»35. Так же считало и «Новое время», отмечавшее, что данная оговорка в значительной степени обесценивает воинственность заявлений канцлера, которые на первый взгляд «категоричны, как приказ по полку или диспозиция накануне сражения»36. Газета предполагала, что германское правительство тем самым оставляет для себя пути к отступлению и не будет поддерживать Вену военным путем при любых обстоятельствах, поскольку Берлин еще может признать, что столкновение Австрии с третьей державой не грозит существованию Дунайской монархии, и в силу этого сохранит нейтралитет.
Пожалуй, только «Земщина» оценила речь Бетман-Гольвега в рейхстаге положительно, как еще одно подтверждение нежелания Берлина ввязываться в балканские столкновения. Упоминая о союзе с Австрией, глава немецкого правительства сделал это, по словам Глинки-Янчевского, в такой форме, что не оставил сомнений в стремлении сохранить хорошие отношения с Россией. Так как Россия и не собирается нападать на Австро-Венгрию, то и заявление канцлера остается «чисто теоретическим подтверждением союзного договора, практически же является советом Австрии не горячиться»37. На протяжении всего балканского кризиса «Земщина» не уставала повторять, что решить свои задачи на Балканах Россия может только в кооперации с Германией, а не в союзе с Англией и Францией. «Мир или война зависят только от России и Германии. В их руках решение этого вопроса, ибо Россия может умерить требования славян, если они окажутся чрезмерными, а Германия может охладить пыл Австрии»38.
5 декабря 1912 г. Германия, Австро-Венгрия и Италия досрочно возобновили договор о Тройственном союзе, срок действия которого истекал лишь в июне 1914 г.39 Такая поспешность в возобновлении союзного договора была связана с напряженной ситуацией, сложившейся в Европе в результате Первой балканской войны, которая привела к полной перекройке карты Юго-Восточной Европы. Перед лицом вероятного крушения Османской империи и ожидаемого раздела ее наследства между ведущими державами Берлин, Вена и Рим стремились укрепить свои политические позиции, продемонстрировав единство действий, сплоченность своей группировки и решимость отстаивать свои интересы силой оружия.
Неожиданный демарш немецкой, австрийской и итальянской дипломатии, последовавший в самый острый момент балканской войны, когда Сербия и Австрия находились на грани военного столкновения из-за албанских портов Сан-Джованни-ди-Медуа и Дураццо, оказался в поле зрения российских газет, опубликовавших в декабре 1912 г. и последующие месяцы немало статей с анализом перспектив Тройственного союза и отношений внутри треугольника Берлин – Вена – Рим.
«Русское слово» указывало, что досрочное возобновление Тройственного союза носит демонстративный характер, рассчитанный на то, чтобы запугать державы Антанты40. Аналогично оценивала данную акцию газета «Речь»41. Она с сожалением отмечала сплоченность союза Германии, Австро-Венгрии и Италии, действующего в Восточном вопросе напористо и активно, и пассивность России, Франции и Англии. Тройственный союз, писала газета, «никогда еще не проявлял столько решительности в отстаивании своих интересов, столько тесной солидарности и реальной военной силы, как в настоящий тревожный период. Тройственное же соглашение, напротив, представляет в данный момент блок немногим более прочный, чем Балканский союз, и неудивительно, что последний не решается целиком на него опереться»42. «Утро России» также подчеркивало демонстративный характер досрочного возобновления Тройственного союза, после которого «политический горизонт Европы… еще гуще покрылся грозовыми тучами»43. По мнению этой газеты, возобновление союза ставит крест на надеждах отколоть Италию от австро-германского блока.
Напротив, «Земщина» относилась к факту досрочного возобновления союза Германии, Австро-Венгрии и Италии совершенно спокойно: «В возобновленном договоре ничего нет ни оскорбительного, ни угрожающего для нас»44, – писал Глинка-Янчевский, подчеркивавший чисто оборонительный характер этого союза. Залог мирного развития международных отношений Глинка видел в осторожной, не склонной к авантюрам политике Германии. «Смею думать, Германия и сама не желает быть пешкой в чужих руках и не поддастся травле. Поэтому, если Австрия вздумает представлять несуразные домогательства к славянам, то сама же Германия озаботится сдержать ее пыл»45.
«Новое время» было убеждено, что Тройственный союз оказался несравненно более выгодным для Австрии и Италии, чем для Германии – инициатора создания этой политической комбинации. Хотя союз был заключен Бисмарком во имя интересов Германии, его преемники «выпустили руководство союзом из своих рук, и оно перешло к австрийской дипломатии»46. За несколько десятилетий, прошедших после 1879 г., Тройственный союз выродился. Из инструмента обеспечения германских интересов он превратился в «орудие австрийских дипломатических махинаций», из инструмента поддержания европейского равновесия он превратился в постоянную угрозу миру на европейском континенте47.
Схожую позицию в оценке распределения ролей внутри австро-германского тандема занимала и газета «Московские ведомости», считавшая, что союз 1879 г. не дает Германии более никаких выгод, заставляя ее лишь вытаскивать каштаны из огня для Австрии. Спустя несколько месяцев после досрочного возобновления Тройственного союза «Московские ведомости» указывали на несоответствие между реальной силой империй Гогенцоллернов и Габсбургов. Австрия в нем оказывается ведущей, а Германия – ведомой: «Держава действительно великая, объединяющая, быть может, величайшую нацию мира, делается простой служительницей дряхлой, конгломератной Австрии»48.
Октябристский «Голос Москвы» в феврале 1913 г. писал о разочаровании немецкого общества итогами внешнеполитического курса, заложенного еще канцлером Бисмарком49. В германской печати, сообщала газета, все больше критики раздается в адрес союза с империей Габсбургов, политика которой на Балканах потерпела крах, а сама она стоит на грани развала. Италия – союзник, во-первых, слабый, а во-вторых, ненадежный. Турция, на помощь которой в будущей европейской войне Берлин возлагал большие надежды, разгромлена, потеряв за два года последние свои владения в Африке и на Балканах. В Германии растет понимание того, что связь с такими «союзниками» лишь уменьшает немецкий престиж в Европе.
К началу января 1913 г. стало ясно, что переговоры между побежденной Турцией и балканскими союзниками зашли в тупик: слишком несовместимыми были позиции сторон. В этих условиях Россия и Франция предложили державам осуществить демонстрацию военных кораблей против Турции для того, чтобы заставить Порту пойти, наконец, на уступки. Это решительное предложение не было поддержано англичанами, озабоченными сохранением своего влияния на берегах Босфора, а потому не желавшими участвовать в агрессивных антитурецких акциях. Берлин, стремившийся в это время к проведению совместной с английским правительством линии в Восточном вопросе, также отказался от энергичного давления на Порту50. Германское внешнеполитическое ведомство предложило составить и передать османскому правительству лишь коллективную ноту держав с «дружеским советом» смириться с поражением и согласиться на заключение мира на условиях победителей51. 17 января 1913 г. данная нота была вручена от имени всех великих держав правительству Кямиль-паши, которое неофициально заявило о своем согласии принять требования балканских союзников, в том числе требование о сдаче Адрианополя, в качестве основы для заключения мира.
Однако 23 января 1913 г. в Стамбуле произошло событие, которое перечеркнуло возможность скорого заключения мирного договора: в этот день сторонники младотурецкого комитета «Единение и прогресс» совершили военный переворот, отстранили от власти правительство итиляфистов, обвинив его в уступчивости перед лицом врага и неспособности переломить ход войны в пользу Турции52. Великим визиром Османской империи стал лидер младотурок Махмуд Шевкет-паша, начальником генерального штаба – Энвер-паша, собственноручно застреливший в день переворота военного министра и верховного главнокомандующего турецкой армии Назим-пашу. Своей главной целью вернувшиеся к власти младотурки объявили заключение мира на почетных для Турции условиях – с сохранением Адрианополя и большей части эгейских островов. 3 февраля 1913 г. боевые действия на Балканах после двухмесячного перемирия возобновились. Они шли лишь в нескольких точках Балканского полуострова – в районе Чаталджинских укреплений, а также вокруг остававшихся в руках турок крепостей – Адрианополя, Янины и Скутари.
По некоторым данным, в том числе по сообщениям австрийского посла в Турции Я. Паллавичини, активную роль в организации переворота 23 января сыграла германская дипломатия в лице посла в Стамбуле Г. Вангенгейма53. Паллавичини сообщал в Вену, что штаб-квартирой младотурецких заговорщиков было посольство Германии, где и был разработан план переворота. Когда после поражения Турции в Триполитанской войне с Италией младотурецкое правительство Саида-паши 17 июля 1912 г. было смещено оппозиционными силами, концентрировавшимися вокруг партии «Свобода и согласие» (Хюрриет вэ итиляф, откуда название сторонников этой партии – итиляфисты), это вызвало сильное беспокойство в Берлине. Появление давнего противника младотурецкой диктатуры Кямиля-паши в правящей группировке в качестве председателя Государственного совета придало константинопольскому кабинету проанглийскую ориентацию и обеспечило симпатии Лондона. Тем самым во второй половине 1912 г., когда Османской империей управляли итиляфисты, возникла реальная угроза потери немцами своих позиций на Ближнем Востоке. Правящие круги Германии были сильно встревожены произошедшими на политической сцене Турции изменениями и сближением Османской империи с Британией. Устранение проанглийского правительства Кямиль-паши и возвращение к власти младотурок, имевших давние, весьма тесные связи с Берлином, отвечало интересам Германии.
Совершенный младотурками переворот был расценен большинством ведущих органов российской периодической печати как результат германских и австрийских интриг и как огромная победа Берлина и Вены, снова сконцентрировавших все нити турецкой внутренней и внешней политики в своих руках. «То, что разыгралось в Турции, есть такое торжество Германии, которое трудно было предвидеть», – писала газета Союза русского народа «Русское знамя», рассматривавшая переворот 23 января как большое поражение Антанты54. Схожие оценки высказывало и либеральное «Русское слово», не сомневавшееся, что «младотурецкая революция вспыхнула не без тайного соучастия политиков с берегов Дуная и Шпрее»55.
«Московские ведомости» также считали, что младотурецкий переворот произошел с ведома и согласия Австрии и Германии. Первая из этих держав, писала газета вскоре после переворота, как будто примирилась с победой балканцев над Турцией, «но зато во всеоружии проявляется гневное настроении Германии против членов Балканского союза, совершенно заложивших дорогу ее Drang nach Osten… Больше же всего Германия опасается нарушения ее сношений с азиатскими владениями Турции», в освоение которых уже вложены солидные германские капиталы56. «Новое время», передавая слухи о соучастии Вангенгейма в перевороте, критиковало Германию за поддержку младотурецких «авантюристов», таких как Энвер-паша: «Германия систематически выставляла себя в качестве протагониста консервативно-охранительных начал. На почве этих охранительных начал она даже стремилась создать австро-русско-германское сближение. Почему же именно в турецком вопросе Германия поддерживает не законную власть, а взбунтовавшихся офицеров, забывших присягу?»57.
При этом русская пресса не располагала никакими доказательствами участия немцев и австрийцев в отстранении от власти кабинета Кямиль-паши, руководствуясь в своих предположениях широко распространенным в российских политических кругах представлением, что осложнение Восточного вопроса и затягивание войны на Балканах было выгодно Германии и Австро-Венгрии. «Мутная вода нарочито затягивающихся мирных переговоров была именно на руку ловящим балканскую рыбку швабам»58, – писало в данной связи «Утро России», считавшее, что причиной свержения итиляфистского правительства великого визира Кямиля-паши было принятое им решение прекратить безнадежное сопротивление и заключить мир на условиях победителей. «Голос Москвы» также был убежден, что Германия и Австро-Венгрия стремятся к затягиванию войны на Балканах. Решение балканского вопроса в данный момент невыгодно этим странам. Они не могут принять участия в переделе османских владений, поскольку по «чисто техническим соображениям» не готовы к войне со странами Антанты. Именно с целью затягивания войны до весны или лета 1913 г. Германия и Австрия организовали возвращение непримиримо настроенных младотурок к власти, указывал «Голос Москвы», писавший, что «нитка от турецких марионеток, выплывших сейчас на авансцену, тянется вплоть до Берлина»59.
Более осторожную позицию занимали либеральные издания. Кадетская «Речь» писала: «Пока еще нет объективных данных для того, чтобы предполагать прямое “сотрудничество” дипломатов Германии и Австрии в константинопольском перевороте… Но в том, что у новых фактических “держателей” турецкой государственной власти был очевидный расчет на моральную поддержку Тройственного союза, сомневаться не приходится»60. «Русские ведомости» также не спешили обвинять в организации переворота Берлин и Вену, оговариваясь, что «закулисные пружины младотурецкого переворота, нам, конечно, неизвестны»61. Данная газета видела опасность младотурецкого переворота не только в том, что он неизбежно вызовет возобновление боевых действий между Балканским союзом и Турцией, но и в том, что он даст козыри в руки тем воинственным политикам и военным в Берлине и Вене, которые не желают мириться с крушением европейской Турции и победами балканских славян и которые могут использовать очередное обострение на Балканах для активных действий прежде всего против Сербии и Черногории.
Единственной газетой, решительно отрицавшей причастность Берлина к турецкому перевороту, была крайне правая «Земщина». Хотя и она вслед за прочими российскими изданиями не сомневалась в том, что смена власти в Стамбуле делает неизбежным продолжение войны на Балканах: «Вся эта комедия с переворотом повлечет за собой новую канитель в мирных переговорах… Все начинается сначала»62. В день совершения константинопольского переворота «Земщина» снова писала о нежелании немцев воевать с Россией из-за балканских дел. «Делить нам нечего, драться же Германии с Россией из-за того, получит ли Сербия военный порт или торговую гавань на Адриатическом море или какие будут границы Албании, было бы безумием»63.
Политика Германии в связи с событиями на Балканах снова привлекла внимание русской прессы весной 1913 г. во время Скутарийского кризиса, когда Австро-Венгрия в ультимативной форме потребовала от Черногории снять осаду крепости Скутари и согласиться с вхождением этого города в состав албанского государства. При этом австрийцы ссылались на поддержку данного требования остальными великими державами, которые 22 марта 1913 г. на Лондонской конференции послов приняли решение присоединить Скутари к Албании и призвали черногорцев, а также помогающих им сербов снять осаду этой крепости, прекратить боевые действия на территориях, отходящих к Албании, и немедленно вывести оттуда свои войска.
Несмотря на то, что великие державы твердо решили присоединить Скутари к будущему албанскому государству, черногорская армия продолжала осаждать эту крепость: в Цетинье хотели поставить державы перед свершившимся фактом захвата черногорскими войсками Скутари и всей прилегающей к Скутарийскому озеру долины. Король этого маленького балканского государства Николай Негош надеялся, что противоречия между Тройственным союзом и Антантой сделают невозможным коллективное давление держав на Черногорию с целью принудить ее передать Скутари албанцам. В Австро-Венгрии такое упорство крошечной страны вызывало крайнее раздражение. Вена продолжала категорически настаивать, чтобы Скутари перешел к Албании, предлагая остальным державам осуществить меры военного принуждения против строптивых черногорцев и угрожая в случае отказа держав самой принудить Черногорию к выполнению решений Лондонской конференции.
Немаловажную роль в победе австрийской позиции во время Скутарийского кризиса сыграла Германия. В апреле 1913 г., как и за четыре месяца до этого, во время кризиса из-за выхода сербов к Адриатике, рейхсканцлер Бетман-Гольвег выступил с открытым предупреждением в адрес России, что в случае австро-русской войны Германия не останется посторонним наблюдателем, а поддержит своего союзника всеми, в том числе военными, средствами. Его заявления в рейхстаге во время обсуждения нового военного законопроекта 7 апреля 1913 г. были корректны, но весьма определенны: «В качестве верных союзников Австро-Венгрии мы стараемся, насколько возможно, смягчить эту натянутость (в отношениях между Веной и Петербургом. – Б.К.), но мы не будем прятать своей головы в песок, и мне нечего говорить о том, что мы докажем нашу верность союзу и за пределами дипломатического посредничества»64. Упомянув о «расовых противоположностях» между славянскими и германскими народами, Бетман-Гольвег заявил, что они не поведут автоматически к войне между двумя странами. Канцлер похвалил российское правительство, которое, по его словам, стремилось к сохранению традиционных доверительных отношений с Германией и к поддержанию мира в Европе, и набросился с критикой на панславистские круги России, окрыленные успехом Балканского союза и усматривающие в победе болгар и сербов над турками одновременно и победу славянства над германизмом.
Выступление Бетман-Гольвега в рейхстаге дало повод русской прессе еще раз оценить поведение Германии в развертывающемся балканском кризисе, а также высказать свои соображения о характере и перспективах русско-германских отношений.
Реакция большей части русской прессы на заявления главы германского правительства, явно провоцировавшие Австрию сохранять неуступчивость в скутарийском вопросе, была негативной. «Весь обычный аппарат тевтонских воинственных выступлений… вся бутафория германского шовинизма пущены в дело», – писала «Речь»65. По мнению «Утра России», неожиданные заявления Бетман-Гольвега взрывают мирную работу дипломатов на Лондонской конференции и затрудняют компромиссное решение конфликта из-за Скутари. Вместе с тем газета прогрессистов выражала уверенность, что Берлину невыгодно сейчас начинать общеевропейскую войну, так как не завершена еще реорганизация армии и флота Германии. Поэтому выступление Бетмана, так же как и выступление Бюлова в 1909 г. во время споров из-за аннексии Боснии, нужно рассматривать как стремление политиков с берегов Шпрее запугать Россию и мирным путем вырвать еще один лакомый кусок для Австрии66.
Публицист А.А. Столыпин (брат погибшего в 1911 г. премьер-министра П.А. Столыпина) на страницах «Нового времени» подчеркивал, что речь канцлера Бетман-Гольвега знаменует собой признание германскими политиками панславизма в качестве реальной политической силы современного мира67. То, что для Бисмарка было скорее жупелом, при помощи которого он умело запугивал немецких обывателей, австрийское правительство и сами балканские государства, им якобы грозит поглощение Россией, после блестящих побед балканских славян над турками стало фактором европейской политики, с которым приходится считаться самым могущественным державам. По мнению нововременского публициста, возрождение славянства означает конец одиночества России в Европе, и это не могут не учитывать в Берлине.
«Московские ведомости» особое внимание обращали на подчеркивание Бетман-Гольвегом «расовых противоположностей» славянских и германских народов. Сама газета видела корни конфликта между славянством и германизмом в стремлении немцев подчинить себе славянские народности. «Славяне и немцы могут действительно жить мирно, но для этого требуется, чтобы германство не стремилось подавлять славянство и лишать его возможности сохранить свою самобытность»68. Пока же, утверждала газета, немцы стремятся поставить славян в такое же бесправное и подчиненное положение, в котором они пребывали в Турции.
Как всегда, когда речь заходила о политике Германии, на фоне остальных газет выделялась прогерманская «Земщина», писавшая в разгар кризиса из-за Скутари, что его мирному разрешению способствует «спокойствие Германии, которая не только не подстрекает Австрию, но сдерживает ее своим авторитетом… В данном случае Германия действует с полной добросовестностью»69. Россия обязана, по мнению «Земщины», оценить такое поведение Германии. Глинка-Янчевский в дни Скутарийского кризиса подчеркивал, что прохладные отношения с Берлином мешают России обуздать Австрию: «Установись у нас искренние отношения с Германией, искавшей сближения с нами, – так разве посмела бы какая-то Австрия, вечно всеми битая, проявить и половину своей наглости. Та же Германия сказала бы ей – цыц, ни с места!»70.
Завершение Первой балканской войны не привело к воцарению мира и спокойствия на Балканах. Уже спустя месяц, в последних числах июня 1913 г., из-за споров о разделе отвоеванных у турок территорий в Македонии разгорелась Вторая балканская война, в которой столкнулись вчерашние союзники – болгары против сербов, греков и черногорцев. Главным выгодополучателем новой войны на Балканах российская пресса считала Австро-Венгрию, которой распря между балканскими союзниками подарила шанс восстановить свои позиции в этом регионе и перейти к активной политической игре, поддерживая одну сторону конфликта (Болгарию) против другой (Сербии). Что касается Германии, то ее политике в ходе Второй балканской войны уделялось гораздо меньше внимания. Тем не менее несколько статей с анализом отношения Германии и немцев к новому конфликту на Балканах появилось летом 1913 г. на страницах ведущих российских изданий.
Берлинский корреспондент «Утра России» В. Назимов писал, что Германия относится к межсоюзнической войне «с радостным ухмылением»: Берлин радуется крушению Балканского союза, но, с другой стороны, стремится удержать Австро-Венгрию от активного вмешательства в боевые действия между болгарами и сербами71. Корреспондент «Нового времени» в столице Германии Н.К. Сибиряк также отмечал злорадство германской прессы в связи с распрями между вчерашними победителями Турции72. При этом большинство немецких газет в межсоюзническом конфликте поддерживают Болгарию, влияя соответствующим образом на всю читающую немецкую публику. «Русское знамя» в разгар Второй балканской войны утверждало: «Да, несомненно, то, что совершается, выгодно Австрии и Германии, и то, что совершается, – дело их рук»73. Эта крайне правая газета, в отличие от идеологически близкой ей «Земщины» не проявлявшая симпатий к Германии, считала, что немцы стремятся к покорению славянских народов и разрушению России: «Наступает уже период, когда славянский и германский мир должны будут вступить в борьбу не на живот, а насмерть, когда решится вопрос, прекратит ли славянство свое самостоятельное бытие или же будет сокрушена сила германского племени»74.
«Земщина», не упускавшая случая подчеркнуть выгодность и необходимость для России сотрудничества с Берлином в балканских делах, после завершения Второй балканской войны отметила позитивную роль Германии. Чрезвычайно преувеличивая лояльность Германии по отношению к российской политике на Балканах, Глинка-Янчевский писал: «Никто так не сдерживал Австрию, как Германия. Никто не поддерживал так Россию по всем вопросам, как та же Германия. Между тем стоило ей обеспечить Австрии свое содействие – и заварилась бы общая европейская каша, которой бы нам долго не расхлебать… В данную минуту, когда мир заключен, мы имеем право сказать, что если Россия избегла войны, то в этом отношении немалое содействие нам оказала Германия»75.
Несмотря на внешнее подчеркивание единства центральноевропейских держав, на протяжении балканского кризиса 1912–1913 гг. в отношениях между Берлином и Веной не раз возникала напряженность и взаимное раздражение, свидетельствовавшее о существенном расхождении интересов империй Габсбургов и Гогенцоллернов. Разногласия между союзниками нарастали и открыто проявились в период обсуждения условий Бухарестского мирного договора, завершившего Вторую балканскую войну в августе 1913 г. Руководители германского рейха, в том числе кайзер Вильгельм II, считали контрпродуктивными попытки австрийской дипломатии привлечь на свою сторону озлобленных и стремящихся к реваншу за поражение во Второй балканской войне болгар. Они не без оснований опасались, что следствием этого станет отход Румынии – соперника Болгарии за влияние на Балканах – от Тройственного союза и сближение ее с Россией. Крайне враждебное отношение Вены и Будапешта к сербскому национальному государству также не встречало сочувствия в Берлине: германская дипломатия считала желательным не антагонизировать Сербию постоянными придирками и ультиматумами, а постараться привлечь ее на сторону Тройственного союза. Болгария же казалась немцам ненадежным союзником как вследствие большого влияния русофилов в болгарской политике, так и вследствие коварства царя Фердинанда, всегда готового вести двойную игру, заигрывая то с Веной, то с Петербургом76.
В период подготовки и заключения Бухарестского договора Германия не только выступила против австро-русского предложения передать порт Каваллу болгарам, но и демонстративно противопоставила себя своему австрийскому союзнику в вопросе о пересмотре условий Бухарестского мира. После подписания договора, завершившего 10-месячный период кровавых военных столкновений на Балканах, министерство иностранных дел Австро-Венгрии заявило о желании созвать общеевропейскую конференцию, по типу Берлинского конгресса 1878 г., для окончательного урегулирования территориальных и прочих балканских вопросов. На этой конференции дипломаты дунайской империи надеялись урезать приобретения сербов и своей демонстративной поддержкой болгарских интересов еще больше укрепить австрийское влияние в Софии. Тем самым ведомство графа Берхтольда объявило Бухарестский договор не окончательным, а лишь прелиминарным77. Однако Германия не поддержала свою союзницу в ее усилиях пересмотреть условия мира. В Берлине считали вполне приемлемыми итоги конференции в Бухаресте78. Вильгельм II демонстративно направил своему родственнику румынскому королю Карлу Гогенцоллерну поздравительную телеграмму, в которой приветствовались усилия Румынии и лично короля по восстановлению балканского равновесия и мира в этом регионе. Мир, заключенный в столице Румынии и оказавшийся столь выгодным для этого государства, Вильгельм II прямо назвал окончательным и не подлежащим пересмотру.
Таким образом, в августе 1913 г. из-за запутанного клубка балканских противоречий, казалось, наметилась линия разлома в отношениях между Берлином и Веной. Разногласия по поводу балканских дел были отражением более глубокого противоречия, вытекавшего из совершенно разного положения двух империй в системе европейского концерта держав. Как пишет исследователь истории германской внешней политики Н.В. Павлов, «Австро-Венгрия из единственно верного союзника Германии превратилась в откровенную обузу». После Балканских войн «в очередной раз стало очевидным, насколько проблематичным было для Германской империи иметь в лице дунайской монархии союзника, раздираемого внутренними межнациональными противоречиями и нестабильного по отношению к внешней угрозе со стороны панславизма»79. Отметим также, что в значительной степени противоположными были экономические интересы Германии и Австро-Венгрии на Балканах, где германский капитал и германская промышленность выступали конкурентами австрийского капитала и австрийской (прежде всего, богемской) промышленности80.
Русская пресса, всегда внимательно следившая за политикой Тройственного союза, живо откликнулась на проявление разногласий внутри австро-германского блока. При этом газеты указывали на изменение общественных настроений в Германии, где нарастал скептицизм в отношении Австро-Венгрии как союзника.
Спустя несколько дней после подписания Бухарестского мирного договора «Голос Москвы» писал, что в результате двух Балканских войн положение Австрии в Европе изменилось в негативную сторону81. Возникший новый балканский союз – Сербии, Румынии, Греции и Черногории – направлен не только против болгарского реваншизма, но и против австрийского экспансионизма. Этот союз может выставить армию в 1 млн штыков, что обесценивает значение Австро-Венгрии как военного союзника. Это учитывается в Берлине и уже начинает влиять на немецкую политику.
«Новое время» после подписания Бухарестского мира писало, что открыто проявившееся за последнее время несогласие Берлина с политикой Австрии на Балканах, в частности нашумевшая телеграмма Вильгельма румынскому королю, является проявлением определенных настроений среди германских правящих сфер82. Берлин все больше тяготится ролью «верного Нибелунга» Дунайской монархии, ролью щита для экспансионистской политики Габсбургов. В Берлине якобы склонны вернуться к бисмарковскому пониманию союзного договора 1879 г. как строго оборонительного. По мнению «Нового времени», это «в высшей степени благоприятные симптомы», укрепляющие надежду на сохранение европейского мира83.
Препирательства немецкой и австрийской прессы в августе и сентябре 1913 г. позволили некоторым российским газетам сделать поспешный вывод о скором крушении австро-германского союза. По информации «Московских ведомостей», берлинское правительство, разочаровавшееся в своем австрийском союзнике и не верящее более в жизнеспособность монархии Габсбургов, решило переориентировать внешнюю политику Германии в сторону стратегического союза с Грецией, которая значительно усилилась в результате побед над Турцией и Болгарией, увеличив свою территорию почти в два раза: «Греция должна для Германии заменить на Балканах Австрию и Турцию»84. Свидетельством этого нового курса германской политики могут служить особые знаки внимания к новому греческому королю Константину со стороны кайзера Вильгельма, прежде всего присвоение ему звания фельдмаршала германской армии.
Корреспондент «Утра России» в Берлине Назимов в ноябре 1913 г. сообщал, что беспокойство, вносимое в международное положение Австро-Венгрией, вызывает сильное недовольство самых широких слоев германского общества, требующих коренного пересмотра тройственного договора и иной ориентировки внешней политики Германии, ориентировки, дающей возможность миролюбиво разграничить сферы влияния великих держав в Азии и Африке и обеспечить при этом разделе «место под солнцем» также для Германии85. По информации Назимова, весьма сочувственно относится к этим идеям кайзер Вильгельм II, стремящийся к единомыслию с Англией в международных делах и мирному разделу с ней сфер влияния в азиатской Турции86.
* * *
Политика Германии во время Балканских войн 1912–1913 гг. содействовала дальнейшему нарастанию в России германофобских настроений. Германская дипломатическая поддержка антисербского и античерногорского курса австрийской внешней политики на Лондонской конференции послов продемонстрировала, что Берлин, как и во время Боснийского кризиса 1908–1909 гг., готов солидаризироваться с австрийскими притязаниями на Балканах, угрожавшими российским позициям в этом регионе. Если осенью 1912 г., когда германское правительство не заявляло открыто о поддержке Австро-Венгрии, у российского общества и были иллюзии относительно приоритетов германской внешней политики, то они исчезли уже в декабре того же года, после выступления в рейхстаге канцлера Т. Бетман-Гольвега, заявившего о готовности Германии отстаивать притязания австрийского союзника с оружием в руках. Тем самым в глазах российской общественности были в значительной степени обесценены и обессмыслены предпринятые в предыдущие несколько лет попытки российской дипломатии наладить отношения с Берлином, существенно пострадавшие в ходе Боснийского кризиса (Потсдамское соглашение августа 1911 г., встреча царя Николая II с кайзером Вильгельмом II в Балтийском порту в июне 1912 г.).
Следует подчеркнуть, что основные стрелы критики российской прессы во время Балканских войн были направлены против Австро-Венгрии – главного конкурента России на Балканах87. Германия же воспринималась российским общественным мнением прежде всего как могущественный покровитель враждебной России и балканскому славянству империи Габсбургов. Несмотря на то что в течение всего балканского кризиса 1912–1913 гг. Германия держалась как бы за спиной и в тени своего австрийского союзника, в российской прессе в это время сложился общий антигерманский консенсус. Исключение среди наиболее заметных столичных изданий составляла только крайне правая газета «Земщина», тщетно призывавшая к переориентации российской внешней политики с Лондона и Парижа на Берлин. Проявившиеся в августе 1913 г. австро-германские противоречия по поводу Бухарестского мирного договора вызвали в российской прессе определенные надежды на корректировку германского внешнеполитического курса в сторону дистанцирования от австрийского союзника. Однако, как показал дальнейший ход событий, эти разногласия не имели серьезных последствий для германской политики на Балканах и позиционирования Германии в системе европейских военно-политических блоков.
Балканские войны часто называют «прелюдией Первой мировой войны»88. Обращение к российской прессе того времени позволяет сделать вывод, что и в пропагандистском отношении драматические события на Балканах 1912–1913 гг. стали важной вехой в психологической подготовке вооруженного столкновения великих держав за передел мира. За десять месяцев вооруженного конфликта на Балканах (с октября 1912 г. по август 1913 г.), когда Россия и австро-германский блок не раз балансировали на грани войны, произошла существенная эволюция общественных настроений в России в сторону усиления австрофобии и германофобии. Пройдет всего несколько месяцев после окончания Балканских войн и Германия выступит непосредственно против интересов России на Ближнем Востоке, отправив в Турцию военную миссию генерала Лимана фон Сандерса с широчайшими полномочиями в деле реорганизации турецкой армии. Русско-германский дипломатический конфликт зимы 1913–1914 гг. из-за миссии Сандерса вызовет новый всплеск антигерманских настроений в российской прессе 89 – на этот раз последний перед июльским кризисом и началом Первой мировой войны.
1 Более подробно о Балканских войнах см.: Писарев Ю.А. Великие державы и Балканы накануне первой мировой войны. М., 1985; Искендеров П.А. Балканские войны 1912–1913 гг. // В «пороховом погребе Европы». 1878–1914 гг. М., 2003. С. 476–507; Гришина Р.П., Шемякин А.Л. Судьба «балканских союзников» 1912–1913 годов. Взгляд из XXI столетия // Новая и новейшая история. 2013. № 4. С. 115–132; Агансон О.И. Балканы накануне Первой мировой войны: на пути к новому балансу сил // Новая и новейшая история. 2014. № 4. С. 17–31.
2 Сазонов С.Д. Воспоминания. Берлин, 1927. С. 76.
3 Die Groβe Politik der Europäischen Kabinette. 1871–1914. Sammlung der Diplomatischen Akten des Auswärtigen Amtes / Im Auftrag des Auswärtigen Amtes hrsg. von J. Lepsius, A.M. Bartholdy, F. Thimme. Bd. 34. Berlin, 1926. № 12824.
4 Подробнее об англо-германских отношениях в период Балканских войн 1912–1913 гг. см.: Зайцев В.В. Германская политика на Балканах и позиция Англии в период Лондонской конференции послов великих держав 1912–1913 гг. // Германская восточная политика в новое и новейшее время. Проблемы истории и историографии. М., 1974. С. 99–107; Романова Е.В. Путь к войне. Развитие англо-германского конфликта 1898–1914 гг. М., 2008. С. 247–257; Агансон О.И. В поисках равновесия. Великобритания и «балканский лабиринт», 1903–1914 гг. СПб., 2022. С. 243–266.
5 Жогов П.В. Дипломатия Германии и Австро-Венгрии и первая Балканская война 1912–1913 гг. М., 1969. С. 111.
6 Die Groβe Politik… № 12818.
7 Kiessling F. Österreich-Ungarn und die deutsch-englischen Detentebemühungen 1912–1914 // Historisches Jahrbuch. Freiburg; München, 1996. S. 115.
8 Площадь в Вене, где находилось министерство иностранных дел Австро-Венгрии.
9 Цит. по: Hantsch H. Leopold Graf Berchtold: Grandseigneur und Staatsmann. Bd. 1. Graz; Wien; Köln, 1963. S. 388.
10 Österreich-Ungarns Außenpolitik von der Bosnischen Krise 1908 bis zum Kriegsausbruch 1914. Diplomatische Aktenstücke des österreichisch-ungarischen Ministeriums des Äußeren / Hrsg. von L. Bittner, H. Uebersberger. Bd. 4, 5. Wien, 1930. Bd. 4. № 3991.
11 Подробнее о взаимоотношениях Германии и Австро-Венгрии в период Балканских войн 1912–1913 гг. см.: Angelow J. Kalkül und Prestige. Der Zweibund am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Köln; Weimar; Wien, 2000. S. 285–341.
12 The War Plans of the Great Powers. 1880–1914. London, 1979. P. 231.
13 Österreich-Ungarns Außenpolitik… Bd. 4. № 4559.
14 Verhandlungen des Reichstags: Stenographische Berichte. Bd. 286. Berlin, 1913. S. 2472.
15 Schöllgen G. Imperialismus und Gleichgewicht: Deutschland, England und die orientalische Frage. 1871–1914. München, 1984. S. 353.
16 Canis K. Der Weg in den Abgrund. Deutsche Außenpolitik 1902–1914. Paderborn; München; Wien; Zürich, 2011. S. 503.
17 Fischer F. Krieg der Illusionen. Die deutsche Politik von 1911 bis 1914. Düsseldorf, 1969. S. 241.
18 Зайончковский А.М. Подготовка России к мировой войне в международном отношении. Л., 1926. С. 285.
19 За неделю // Речь. 12(25). XI.1912.
20 Балканская война и Германия // Московские ведомости. 17(30).XI.1912.
21 Уклонение от ответа // Русское слово. 14(27).XI.1912.
22 Гроссман Г. Иностранные известия. Митинг против войны в Берлине (от нашего корреспондента) // Русские ведомости. 14(27).X.1912.
23 Назимов В. Германия и ликвидация войны (от нашего берлинского корреспондента) // Утро России. 1(14).XI.1912.
24 Назимов В. Митинги против войны (от нашего берлинского корреспондента) // Утро России. 15(28).XI.1912.
25 Арефьев Н. Немцы и австро-сербский конфликт (от нашего корреспондента) // Голос Москвы. 9(22).XII.1912.
26 Сибиряк Н.К. Внешние известия. Берлин (корреспонденция «Нового времени») // Новое время. 2(15).XI.1912.
27 Глинка С. Мир или война? // Земщина. 5(18).XI.1912.
28 Глинка С. Из-за чего воевать? // Земщина. 11(24).XII.1912.
29 Речь германского канцлера // Русское слово. 20.XI(3.XII).1912.
30 Тевтонские шпоры // Русское слово. 21.XI(4.XII).1912.
31 Вызов России? // Утро Росси. 21.XI(4.XII).1912.
32 Между миром и войной // Утро России. 30.XI(13.XII).1912.
33 Выступление германского канцлера // Голос Москвы. 23.XI(6.XII).1912.
34 Редакционная статья // Русские ведомости. 20.XI(3.XII).1912.
35 Редакционная статья // Речь. 21.XI(4.XII).1912.
36 Речь германского канцлера // Новое время. 21.XI(4.XII).1912.
37 Глинка С. Перемирие // Земщина. 23.XI(6.XII).1912.
38 Глинка С. Кому верить? // Земщина. 4(17).XII.1912.
39 Afflerbach H. Der Dreibund. Europäische Großmacht- und Allianzpolitik vor dem Ersten Weltkrieg. Wien; Köln; Weimar, 2002. S. 720.
40 Кризис // Русское слово. 27.XI(10.XII).1912.
41 Редакционная статья // Речь. 27.XI(10.XII).1912.
42 Три блока // Речь. 7(20).XII.1912.
43 Что скажет Англия? // Утро России. 28.XI(11.XII).1912.
44 Глинка С. Новое подзуживание // Земщина. 28.XI(11.XII).1912.
45 Там же.
46 Возобновление Тройственного союза // Новое время. 27.XI(10.XII).1912.
47 Вырождение Тройственного союза // Новое время. 25.XII.1912(7.I.1913.)
48 Россия и Европа в балканском вопросе // Московские ведомости. 24.IV(7.V).1913.
49 За границей. Понижение тона в Германии // Голос Москвы. 21.II(6.III).1913.
50 Жогов П.В. Указ. соч. С. 254–256.
51 Die Groβe Politik… № 12662.
52 Алиев Г.З. Турция в период правления младотурок (1908–1918 гг.) М., 1972. С. 226–227.
53 Österreich-Ungarns Außenpolitik… Bd. 5. № 5692; Die Groβe Politik… № 12669, 12670.
54 Турция. Государственный переворот// Русское знамя. 13(26).I.1913.
55 Вторая младотурецкая революция // Русское слово. 12(25).I.1913.
56 Роль Германии в балканском кризисе // Московские ведомости. 20.I(2.II).1913.
57 Революция и Берлин // Новое время. 15(28).I.1913.
58 Внезапное осложнение // Утро России. 13(26).I.1913.
59 За дипломатическими кулисами // Голос Москвы. 16(29).I.1913.
60 Турецкий переворот // Речь. 12(25).I.1913.
61 Редакционная статья // Русские ведомости. 13(26).I.1913.
62 Глинка С. Начинай сначала! // Земщина. 12(25).I.1913.
63 Глинка С. Мир обеспечен // Земщина. 10(23).I.1913.
64 Verhandlungen des Reichstags: Stenographische Berichte. Bd. 289. Berlin, 1913. S. 4513.
65 Редакционная статья // Речь. 27.III(9.IV).1913.
66 «Десант» Бетман-Гольвега // Утро России. 28.III(10.IV).1913.
67 Столыпин А. Речь германского канцлера // Новое время. 27.III(9.IV).1913.
68 Германский законопроект и «панславизм» // Московские ведомости. 3(16).IV.1913.
69 Бряцание… перьями // Земщина. 21.IV(4.V).1913.
70 Глинка С. Пожинаем, что посеяли // Земщина. 17(30).III.1913.
71 Назимов В. Германия и балканская распря // Утро России. 25.VI(8.VII).1913.
72 Сибиряк Н.К. Внешние известия. О политике. Берлин (корреспонденция «Нового времени») // Новое время. 24.VI(7.VII).1913.
73 Квис. Нечто небывалое // Русское знамя. 7(20).VII.1913.
74 Твердый. Бесполезные бредни // Русское знамя. 27.VI(10.VII).1913.
75 Глинка С. Тупое упорство // Земщина. 25.VII(7.VIII).1913.
76 Skrivan A. Schwierige Partner. Deutschland und Österreich-Ungarn in der europäischen Politik der Jahre 1906–1914. Hamburg, 1999. S. 337.
77 Bridge F.R. From Sadowa to Sarajevo. The foreign policy of Austria-Hungary, 1866–1914. London; Boston, 1972. P. 357–358.
78 Canis K. Op. cit. S. 563–564.
79 Павлов Н.В. История внешней политики Германии от Бисмарка до Меркель. М., 2012. С. 56–57.
80 Подробнее об интересах германского капитала на Балканах и его соперничестве с австрийским в начале XX в. см.: Туполев Б.М. Германская политика на Балканах накануне Первой мировой войны // В «пороховом погребе Европы»… С. 265–296.
81 Планы Германии // Голос Москвы. 4(17).VIII.1913.
82 Размолвка Нибелунгов // Новое время. 16(29).IX.1913.
83 Новый бисмарковский период // Новое время. 3(16).VIII.1913.
84 Австрия и Германия // Московские ведомости. 4(17).IX.1913.
85 Назимов В. К открытию сессии рейхстага // Утро России. 15(28).XI.1913.
86 Назимов В. Мировая политика // Утро России. 19.X(1.XI).1913.
87 Об отношении российской общественности к Австро-Венгрии в период двух Балканских войн см.: Котов Б.С. Политика Австро-Венгрии во время Балканских войн 1912–1913 годов в оценках российской прессы // Новая и новейшая история. 2019. № 4. С. 67–83; № 5. С. 81–98.
88 См. в частности: Hall R.C. The Balkan Wars 1912–1913: Prelude to the First World War. London; New York, 2000.
89 Подробнее о реакции в России на отправку германской военной миссии в Турцию см.: Кострикова Е.Г. Германский прорыв к Босфору и русское общество // Ученые записки Российского государственного социального университета. 2008. № 3 (59). С. 162–170; Котов Б.С. Германская экспансия в Османской империи накануне Первой мировой войны в освещении и оценках русской прессы // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2022. Вып. 9 (119). Россия и глобальный мир: идеи и ответы на исторические вызовы XIX–XXI вв.
About the authors
Boris S. Kotov
Slavic Studies, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: bs.kotov@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-9092-1193
кандидат исторических наук, научный сотрудник
Russian Federation, MoscowReferences
- Aganson O.I. Balkany nakanune Pervoj mirovoj vojny: na puti k novomu balansu sil [The Balkans on the eve of the First World War: on the way to a new balance of forces] // Novaya i Novejshaya Istoriya [Modern and Contemporary History]. 2014. № 4. S. 17–31. (In Russ.)
- Aganson O.I. V poiskah ravnovesija. Velikobritanija i “balkanskij labirint” [In search of balance. Great Britain and the “Balkan Labyrinth”], 1903–1914 gg. Sankt-Peterburg, 2022. (In Russ.)
- Aliev G.Z. Turcija v period pravlenija mladoturok [Turkey during the reign of the Young Turks] (1908–1918 gg.) Moskva, 1972. (In Russ.)
- Grishina R.P., Shemjakin A.L. Sud’ba “balkanskih sojuznikov” 1912–1913 godov. Vzgljad iz XXI stoletija [The fate of the “Balkan Allies” of 1912–1913. A view from the 21 century] // Novaya i Novejshaya Istoriya [Modern and Contemporary History]. 2013. № 4. S. 115–132. (In Russ.)
- Iskenderov P.A. Balkanskie vojny [The Balkan wars] 1912–1913 gg. // V “porohovom pogrebe Evropy” [In the “powder magazine of Europe”]. 1878–1914 gg. Moskva, 2003. S. 476–507. (In Russ.)
- Kostrikova E.G. Germanskij proryv k Bosforu i russkoe obshhestvo [The German breakthrough to the Bosphorus and the Russian society] // Uchenye zapiski Rossijskogo gosudarstvennogo social’nogo universiteta [Scientific papers of the Russian State Social University]. 2008. № 3 (59). S. 162–170. (In Russ.)
- Kotov B.S. Politika Avstro-Vengrii vo vremja Balkanskih vojn 1912–1913 godov v ocenkah rossijskoj pressy [The Politics of Austria-Hungary during the Balkan Wars of 1912–1913 in the assessments of the Russian press] // Novaya i Novejshaya Istoriya [Modern and Contemporary History]. 2019. № 4. S. 67–83; № 5. S. 81–98. (In Russ.)
- Kotov B.S. Germanskaja jekspansija v Osmanskoj imperii nakanune Pervoj mirovoj vojny v osveshhenii i ocenkah russkoj pressy [German expansion in the Ottoman Empire on the eve of the First World War in the coverage and assessments of the Russian press] // Jelektronnyj nauchno-obrazovatel’nyj zhurnal “Istorija” [Electronic scientific and educational magazine “History”]. 2022. Vyp. 9 (119). Rossija i global’nyj mir: idei i otvety na istoricheskie vyzovy XIX–XXI vv. [Russia and the global world: ideas and answers to historical challenges of the 19–21 centuries]. (In Russ.)
- Mirzekhanov V.S. Istoriya XX veka: mnogoobrazie istoriograficheskih podhodov k ponimaniyu fenomena [History of the 20 century: a variety of historiographical approaches to understanding the phenomenon] // Novaya i Novejshaya Istoriya [Modern and Contemporary History]. 2020. № 5. S. 7–27. doi: 10.31857/S013038640011358–1 (In Russ.)
- Mirzekhanov V.S. Peresechenie i vzaimovliyanie regional’noj i nacional’noj istorii: metodologicheskie etyudy [The intersection and mutual influence of regional and national history: methodological studies] // Elektronnyj nauchno-obrazovatel’nyj zhurnal “Istoriya” [Electronic scientific and educational journal “History”]. 2020. T. 11. Vyp. 12 (98). URL: https://history.jes.su/s207987840012994–2–1/ (access date: 07.02.2024). doi: 10.18254/S207987840012994–2 (In Russ.)
- Pavlov N.V. Istorija vneshnej politiki Germanii ot Bismarka do Merkel’ [The history of German foreign policy from Bismarck to Merkel]. Moskva, 2012. (In Russ.)
- Pisarev Ju.A. Velikie derzhavy i Balkany nakanune pervoj mirovoj vojny[The Great Powers and the Balkans on the eve of the First World War]. Moskva, 1985. (In Russ.)
- Romanova E.V. Put’ k vojne. Razvitie anglo-germanskogo konflikta [The path to war. The development of the Anglo-German conflict] 1898–1914 gg. Moskva, 2008. (In Russ.)
- Sazonov S.D. Vospominanija [Memoirs]. Berlin, 1927. (In Russ.)
- Tupolev B.M. Germanskaja politika na Balkanah nakanune Pervoj mirovoj vojny [German policy in the Balkans on the eve of the First World War] // V “porohovom pogrebe Evropy” [In the “powder magazine of Europe”]. 1878–1914 gg. Moskva, 2003. S. 265–296. (In Russ.)
- Zajcev V.V. Germanskaja politika na Balkanah i pozicija Anglii v period Londonskoj konferencii poslov velikih derzhav [German policy in the Balkans and the position of England during the London Conference of Ambassadors of the Great Powers] 1912–1913 gg. // Germanskaja vostochnaja politika v novoe i novejshee vremja. Problemy istorii i istoriografii [German Eastern Policy in modern and modern times. Problems of history and historiography]. Moskva, 1974. S. 99–107. (In Russ.)
- Zajonchkovskij A.M. Podgotovka Rossii k mirovoj vojne v mezhdunarodnom otnoshenii [Russia’s preparation for the World War in international relations]. Leningrad, 1926. (In Russ.)
- Zhogov P.V. Diplomatija Germanii i Avstro-Vengrii i pervaja Balkanskaja vojna [Diplomacy of Germany and Austria-Hungary and the First Balkan War] 1912–1913 gg. Moskva, 1969. (In Russ.)
- Afflerbach H. Der Dreibund. Europäische Großmacht- und Allianzpolitik vor dem Ersten Weltkrieg. Wien; Köln; Weimar, 2002.
- Angelow J. Kalkül und Prestige. Der Zweibund am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Köln; Weimar; Wien, 2000.
- Bridge F.R. From Sadowa to Sarajevo. The foreign policy of Austria-Hungary, 1866–1914. London; Boston, 1972.
- Canis K. Der Weg in den Abgrund. Deutsche Außenpolitik 1902–1914. Paderborn; München; Wien; Zürich, 2011.
- Die Groβe Politik der Europäischen Kabinette. 1871–1914. Sammlung der Diplomatischen Akten des Auswärtigen Amtes / Im Auftrag des Auswärtigen Amtes hrsg. von J. Lepsius, A.M. Bartholdy, F. Thimme. Bd. 34. Berlin, 1926.
- Fischer F. Krieg der Illusionen. Die deutsche Politik von 1911 bis 1914. Düsseldorf, 1969.
- Hantsch H. Leopold Graf Berchtold: Grandseigneur und Staatsmann. Graz; Wien; Köln, 1963.
- Hall R.C. The Balkan Wars 1912–1913: Prelude to the First World War. London; New York, 2000.
- Kiessling F. Österreich-Ungarn und die deutsch-englischen Detentebemühungen 1912–1914 // Historisches Jahrbuch. Freiburg; München, 1996. S. 102–125.
- Österreich-Ungarns Außenpolitik von der Bosnischen Krise 1908 bis zum Kriegsausbruch 1914. Diplomatische Aktenstücke des österreichisch-ungarischen Ministeriums des Äußeren / Hrsg. von L. Bittner, H. Uebersberger. Bd. 4, 5. Wien, 1930.
- Schöllgen G. Imperialismus und Gleichgewicht: Deutschland, England und die orientalische Frage. 1871–1914. München, 1984.
- Skrivan A. Schwierige Partner. Deutschland und Österreich-Ungarn in der europäischen Politik der Jahre 1906–1914. Hamburg, 1999.
- The War Plans of the Great Powers. 1880–1914. London, 1979.
Supplementary files