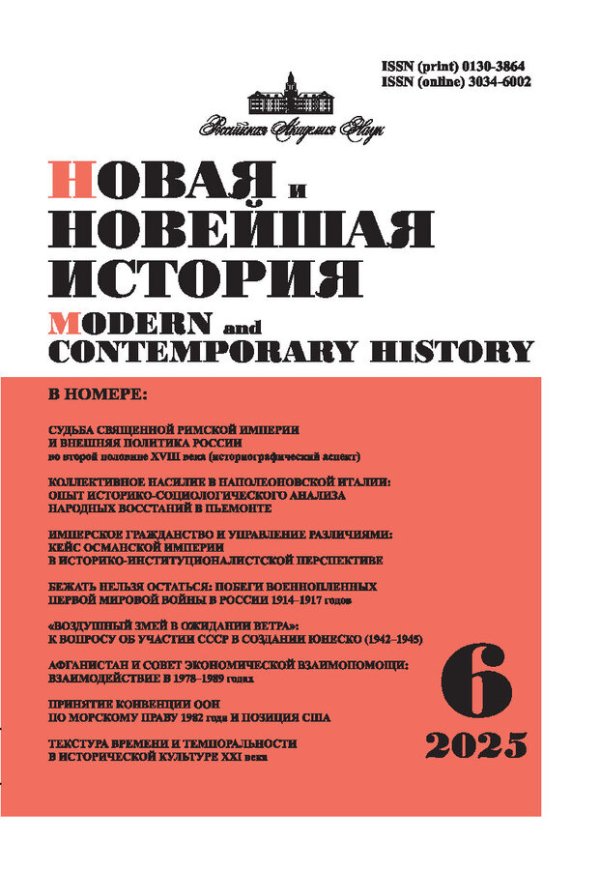Contesting the Kemalist State: The Land Question and the Grass Root Civic Activity in the 1920–1930s Turkey
- Authors: Shlykov P.V.1,2
-
Affiliations:
- Institute of Asian and African Studies, Lomonosov Moscow State University
- MGIMO University
- Issue: No 3 (2024)
- Pages: 127-141
- Section: 20th century
- URL: https://journal-vniispk.ru/0130-3864/article/view/259828
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0130386424030105
- ID: 259828
Cite item
Full Text
Abstract
The author scrutinizes the development of civil society in the early republican Turkey focusing on the models of its interaction with the state in the context of Kemalist revolution, namely the large-scale reforms of the 1920s and 1930s aimed at building the “New Turkey” as a modern secular nation-state. He analyses various manifestations of grass root civic activity in Turkey in the 1920s and 1930s. In doing so, it focuses on the rural population’s reaction to the Kemalist land and taxation reforms. The article contributes to the exiting literature in two following ways. First, it challenges the existing assumption that the rural population of the early Republican Turkey sporadically protested against only the most visible cases of social injustice. It also suggests counterarguments to the thesis that at that time the center and periphery had their own socio-political dynamics isolated one from another. Second, the article introduces to the reader a wide range of Turkish sources (e.g., “public columns” in the main periodicals of that time, petitions published in the yearly books of the Grand National Assembly of Turkey, party inspectors’ reports stored in the fund of the Republican People’s Party). An analysis of the data presented in these sources and its comparison against already known historical facts form the article’s methodological framework. The author explains the key social contradictions about the land question. He further on defines the main forms of systemic grass root civic activity and the structural elements of the Kemalists social basis on the periphery. The main findings are that in the 1920–30s the rural Turkey witnessed both legal and illegal forms of resistance. The absence of a full-scale working formal state structure on the periphery made the Kemalist state curbing this resistance by using patron-client networks centered on the figures of “aga”, the wealthy local landlords and merchants.
Full Text
Проводившийся руководством Турции в 1920–1930-е годы курс реформ, нередко именуемый «кемалистской революцией», привел к радикальным изменениям во всех сферах жизни страны. Среди историков и социологов, изучавших общественно-политическую ситуацию в Турции в данный период, долгое время была распространена точка зрения об отсутствии или ограниченности низовой гражданской активности, ее бессистемности и дискретности1. В своих работах такие исследователи, как Эрих Цюрхер, Фероз Ахмад, Якоб Ландау, Мете Тунчай, Чаглар Кейдер, Дмитрий Еремеев, Николай Киреев и другие отмечали, что сельское население раннереспубликанской Турции характеризовалось политической пассивностью и реагировало на усиливавшееся административное и налоговое давление со стороны кемалистских властей спорадически, а протесты, вызванные усилением эксплуатации крестьянства, не носили регулярный характер 2 (к числу наиболее известных примеров следует отнести восстание, поднятое в начале 1925 г. шейхом Саидом, волнения в Менемене в 1930 г., события в Дерсиме в 1937–1938 гг.). В рамках широко известной концепции Шерифа Мардина 3 («центр – периферия») низкий уровень гражданской активности в сельской Турции в рассматриваемый период объяснялся имманентной оппозицией правящей элиты – Народно-республиканской партии (НРП), проводившей политический курс, направленный на модернизацию, – и большинства населения страны, продолжавшего держать за традиционные устои, и их определенной изоляцией друг от друга.
Вместе с тем комплексный анализ широкого круга источников, позволяющих выявить ключевые тенденции в общественной жизни Турции в 1920–1930-е годы, дает возможность подвергнуть ревизии устоявшийся ранее взгляд на исследуемую проблему, а также охарактеризовать основные формы низовой гражданской активности в рассматриваемый период и оценить ее масштабы. Особый интерес в контексте изучаемой темы представляют «народные колонки» в ведущих турецких изданиях 1920–1930-х годов – Cumhuriyet («Республика»), Son Posta («Последняя почта»), Tan («Рассвет»), Akşam («Вечер»), многочисленные петиции граждан, опубликованные в ежегодниках Великого национального собрания Турции (ВНСТ), выступления министров и депутатов, зафиксированные в протоколах его заседаний, мемуары видных государственных деятелей раннереспубликанской эпохи (министра общественных работ в 1930–1933 гг., министра юстиции в 1938–1939 гг. и главы МВД в 1943–1946 гг. Мустафы Хильми Урана, губернатора ряда крупных провинций Центральной, Восточной и Юго-Восточной Анатолии в 1920–1930-е годы Джемаля Бардакчи, губернатора Эрзинджана и автора фундаментального труда по истории этого города Али Кемали Аксюта) и отчеты партийных инспекторов, хранящиеся в фонде НРП Республиканского архива в Анкаре.
Важно отметить, что турецкая периферия не оставалась лишь пассивным реципиентом происходивших в стране изменений. Реакция сельского населения на усугублявшиеся земельные проблемы и усиление налогового бремени была достаточно системной и многообразной. Однако реальные возможности повлиять на ситуацию посредством низовой гражданской активности в тех формах, которые были доступны крестьянам, были ограничены вследствие того, что кемалистское государство и партийные функционеры выработали новые способы взаимодействия с периферией и установления контроля над ней. Претворяя в жизнь аграрные реформы, власти «Новой Турции» опирались на «ага» – крупных землевладельцев и богатых коммерсантов, игравших роль социальных партнеров и проводников влияния НРП4. Сотрудничество с ними обуславливало патрон-клиентский характер организации общественных отношений на периферии и способствовало росту теневой экономики, однако при этом гарантировало купирование остроты крестьянского протеста на том же низовом уровне, где он и зарождался. Раскрывая представленные тезисы в рамках настоящей статьи, автор рассматривает формы гражданской активности сельского населения как реакцию на обострение земельного вопроса в 1920–1930-е годы и анализирует структурные элементы социальной опоры кемалистcкой власти в регионах.
Первые два десятилетия после окончания Освободительной войны 1919–1922 гг. стали для турецкого общества временем серьезных испытаний. Последствия этой войны (истощение людских и материальных ресурсов, масштабная деиндустриализация) тяжелым бременем легли на плечи населения Анатолии, страдавшего не только от поборов интервентов, но и от принудительных реквизиций, проводившихся кемалистскими отрядами, в ходе которых на нужды армии у крестьян зачастую изымались последние запасы продовольствия5. В начале 1920-х годов в Турции наблюдался демографический спад. Население Анатолии сократилось с 16 до 13 млн человек. Одновременно с этим происходил процесс деурбанизации (доля горожан упала ниже 20%). Кемалистская Турция была преимущественно аграрной страной. Согласно официальной статистике, в конце 1920-х годов более 81% трудоспособного населения было занято в сельском хозяйстве, доля которого в валовом национальном продукте составляла почти 50% (этот показатель сохранялся на уровне более 47% и во второй половине 1930-х годов)6.
Социальный ландшафт Анатолии определялся тенденциями, наметившимися на рубеже XIX–XX вв. В этот период проводившиеся османским правительством реформы, направленные на модернизацию экономической жизни страны, привели к широкому распространению частной собственности на землю и коммерциализации аграрного сектора. Нововведения были поддержаны соответствующими законами7. «Националистическая» экономическая политика младотурок в 1914–1918 гг. способствовала формированию в Анатолии группы богатых землевладельцев и предпринимателей тюркского происхождения. С первых дней Освободительной войны они поддержали Мустафу Кемаля (Ататюрка) и его сторонников, рассчитывая тем самым сохранить недавно приобретенные земли, высвободившиеся после погромов и массовых депортаций греков и армян8. Крупные земельные собственники активно участвовали в деятельности многочисленных «обществ защиты прав» – патриотических организаций, создаваемых кемалистами для противодействия греческой и итальянской интервенции в различных регионах Анатолии. Во время войны и после ее окончания представители землевладельческой элиты выступали союзниками и опорой новой власти (наряду с военной бюрократией), что впоследствии во многом предопределило характер экономической политики правительства, благоприятствовавшей интересам этой группы населения, которая должна была обеспечить один из основных источников финансирования модернизации и строительства «Новой Турции» 9– сельскохозяйственные налоги. При этом увеличивалась фискальная нагрузка на крестьян и мелких фермеров, являвшихся объектом эксплуатации новых государственных монополий10. Доходы этих монополий формировали еще один важный экономический ресурс кемалистских реформ. Другой проблемой для большинства сельского населения Анатолии в рассматриваемый период стало несправедливое распределение государственных земель, особенно в наиболее урожайных областях.
С официальным провозглашением на сессии ВНСТ 29 октября 1923 г. Турецкой Республики приватизация сельскохозяйственных угодий ускорилась. В новых законах (кадастровых установлениях 1924 и 1925 гг.11 и принятом в 1926 г. по «швейцарскому образцу» Гражданском кодексе12) прослеживалась логика решения большинства спорных вопросов землепользования через проведение повсеместной кадастровой регистрации и расширение доли частнособственнических хозяйств. Это позволило крупным землевладельцам в 1920–1930-е годы с помощью разнообразных мошеннических схем присвоить себе выморочные участки и даже наделы, предназначенные для распределения среди вынужденных переселенцев (в том числе прибывших в страну в ходе обмена населением с Грецией13). Весьма распространенным методом выдавливания крестьян с насиженных мест (с целью последующего присвоения их земель) было разрушение речных плотин для затопления сельскохозяйственных угодий. В конце 1920-х годов ухудшение финансового положения мелких фермеров из-за мирового экономического кризиса предоставило новые возможности богатым держателям земли для расширения своих владений путем скупки или конфискации участков попавших в долги собственников14.
От региона к региону ситуация разнилась, но общий тренд на экстенсивную приватизацию, формирование крупных частных хозяйств и притеснение мелких землевладельцев и крестьян прослеживался практически по всей Анатолии. Особенно рельефно это проявлялось в провинциях с плодородными землями, а также в тех районах, где сформировалась практика выращивания экспортных монокультур. Крупнейшие частные хозяйства с массой наемных рабочих и издольщиков концентрировались в специализирующейся на производстве хлопка Адане и прилегающих областях. Значительное число больших сельскохозяйственных ферм, выращивавших на экспорт (помимо хлопка) табак, виноград и инжир, располагалось в рассматриваемый период и в Эгейском регионе. На юго-востоке Анатолии в провинциях с большой долей курдского населения, во многом вследствие сохранения клановых порядков, также доминировали крупные хозяйства, держатели которых обладали серьезными финансово-экономическими ресурсами и заметным общественно-политическим влиянием. Согласно некоторым оценкам, в середине 1920-х годов 5% богатых землевладельцев 15 владели более чем 65% обрабатываемых угодий страны, около 33 тыс. крупнейших ферм Турции контролировали в общей сложности более 35% самых плодородных и привлекательных для ведения сельского хозяйства наделов16. Оборотной стороной сложившейся в первые годы республиканской эпохи ситуации стало огромное количество безземельных или испытывавших земельный голод крестьянских хозяйств, доля которых в конце 1930-х годов превышала 35%17. Положение усугубляло и достаточно низкое качество доступной и перераспределяемой государством земли, расположенной в болотистой или гористой местности и по большей части непригодной для обработки. Плодородных участков было крайне немного. Большинство из них оказались во владении богатых держателей крупных хозяйств.
Кемалисты, заинтересованные в поддержке землевладельческой элиты, в своей аграрной политике воздерживались от каких-либо радикальных шагов и отказывались от реализации программ справедливого перераспределения земли среди крестьян. Ухудшение экономического положения значительной части населения Турции на фоне мирового финансового кризиса конца 1920-х – начала 1930-х годов привело к разорению большого числа мелких и средних хозяйств, запустив цепную реакцию банкротств, обусловленных ростом фискальной нагрузки и кредитной задолженности18.
В своих мемуарах Мустафа Хильми Уран отмечал, что главным фактором недовольства кемалисткой властью в деревнях было непосильное для многих крестьян налоговое бремя. Ситуация осложнялась злоупотреблениями коррумпированных государственных инспекторов, утомительными и забюрократизированными процедурами выполнения фискальных обязательств19. В представлении большинства крестьян непомерные налоги символизировали жесткую эксплуатацию села со стороны правительства и растущих городов. Кемалисты прекрасно это осознавали и поэтому с большой помпой объявили в 1925 г. об отмене ашара (десятины) и ильтизама 20 как «самой народной экономической реформе», направленной прежде всего на облегчение положения крестьян, составлявших большинство населения республики и «цвет нации» (как возвышенно говорил о них сам Ататюрк21).
Однако, как и во многих других странах, переживавших ускоренную модернизацию, в республиканской Турции налоги являлись важнейшим источником пополнения бюджета и главным ресурсом для проведения реформ. Поэтому для компенсации упущенных из-за отмены ашара поступлений власти увеличили другие обязательные платежи (поземельный, имущественный, подоходный) и ввели новые сборы (дорожный, авиационный)22. В конце 1920-х годов поземельный налог обеспечивал почти 14% всех фискальных поступлений23. Фактически отмена ашара парадоксальным образом привела не к уменьшению, а к увеличению финансовой нагрузки на сельское население. Вследствие того, что большинство налогов, взимаемых в деревнях, относились к категории прямых и предполагали непосредственное взаимодействие с государственными инспекторами, тяготы жизни в республиканской Турции напрямую ассоциировались у крестьян с кемалистским режимом.
Таким образом, аграрные реформы 1920–1930-х годов не только не привели к решению земельного вопроса, но и способствовали ухудшению социально-экономического положения большинства сельского населения Анатолии.
Тяготы жизни крестьян, непосильные налоги и актуальность земельного вопроса являлись постоянными темами «народных колонок» в турецких газетах. Кемалистское правительство получало многочисленные открытые письма и петиции с просьбами решить назревшие проблемы в деревне. Эти проблемы неоднократно становилась предметом дебатов на конгрессах НРП. Их масштабы и острота осознавались многими представителями турецкой политической элиты. Неслучайно и президент Ататюрк (1923–1938), и глава правительства в 1923–1924 гг. и в 1925–1937 гг. Исмет-паша (Инёню) в своих выступлениях подчеркивали необходимость выделения бедным и безземельным крестьянам участков на залежных государственных землях. Эти заявления лишь подогревали недовольство большинства сельского населения Турции политикой местных властей, не спешивших выполнять указания государственного руководства.
Переселение в Анатолию нескольких сот тысяч турок с Балканского полуострова в рамках обмена населением с Грецией еще больше обострило земельный вопрос. Подавляющее число мигрантов составляли крестьяне. Перед переездом в Турцию они были вынуждены оставить свои участки и имущество, а предоставленные им правительством наделы оказались недостаточными для полноценного ведения собственного хозяйства24. Крайний дефицит земли испытывали и юрюки – тюркские кочевые племена, которые вследствие широкого распространения частной собственности и коммерциализации аграрного сектора экономики столкнулись с практически полным отсутствием территорий, необходимых для занятия традиционным для этой группы населения страны отгонным скотоводством. Как отмечал в своих дневниках этнограф Али Рыза Ялман, «многие туркоманы 25 потеряли и земли, и лошадей и отчаянно боролись за справедливость», сетуя на то, что власти не выполняют своих обещаний, что «они турки, но у них нет ни пяди земли»26. Многие кочевые племена, гонимые с насиженных мест, были вынуждены скитаться в поисках пристанища.
В конце 1920-х годов растущее общественное недовольство бездействием кемалистов в аграрном вопросе вызвало волну петиций к правительству с требованиями справедливого распределения пустошей и пастбищ. C 1928 г. в регулярно публикуемых отчетах-ежегодниках ВНСТ фигурируют сотни индивидуальных и коллективных обращений с прошениями к властям выделить новые участки или разрешить использовать для сельскохозяйственных целей «ничейные территории»27. Одни требовали немного пригодной для обработки земли, другие – разрешения занять покинутые после войны угодья28, третьи – призывали выполнить обещания по справедливому распределению наделов. В 1930-е годы количество таких петиций только увеличивалось на фоне ухудшения экономического положения крестьян, многие из которых лишились имущества за долги. Преимущественно это были уже коллективные обращения, направлявшиеся не только в ВНСТ, но также и руководителям правящей партии. Так, в 1939 г. жители деревни Сарыбахче провинции Адана потребовали от властей и ответственных функционеров НРП выделить им для ведения хозяйства участки в районе плодородной низменности Чукурова29, а крестьяне деревни Ташкесиги провинции Анталья направили петицию с просьбой передать им по кадастровой стоимости бесхозные и пустующие угодья30. С аналогичными коллективными ходатайствами о выделении в пользование выморочных земель обращались к руководству НРП жители сел разных провинций Анатолии (от Гиресуна и Эрзурума до Коньи, Бурсы и Текирдага)31.
Другой формой низовой гражданской активности в 1930-е годы стали открытые письма в общенациональные газеты. Этот информационный канал использовался для того, чтобы донести до правительства и региональных властей проблемы и чаяния простых крестьян, особенно в тех случаях, когда чиновники на местах не спешили реагировать на прямые обращения. В одной из колонок, публиковавшихся в газете Son Posta, речь шла о безуспешных попытках жителей одной деревни в провинции Кютахья добиться от местной администрации разрешения использовать пустоши и незасеваемые поля32. В другом открытом письме рассказывалась история многодетного крестьянина, который, узнав об обещаниях правительства распределить бесхозные земли среди нуждающихся, обратился к региональным чиновникам с просьбой позволить ему возделывать давно пустовавшие участки, некогда принадлежавшие армянам, но получил отказ. «Почему же слова председателя правительства и действия местных властей столь не соотносятся друг с другом?» – задавался риторическим вопросом автор «народной колонки»33.
В ходе инспекционных поездок по провинциям депутаты регулярно получали жалобы от крестьян на нехватку земли и неработающие механизмы по распределению необрабатываемых государственных угодий среди нуждающихся. В депутатских отчетах конца 1930-х годов зафиксировано множество подобных случаев в самых разных провинциях Эгейского и Средиземноморского регионов, а также в Центральной и Юго-Восточной Анатолии. Согласно одному из таких отчетов за 1939 г., только в деревнях района Килис провинции Газиантеп насчитывалось более 12 тыс. безземельных домохозяйств, которым требовалось в приоритетном порядке предоставить наделы из фонда государственных земель34. Острота и масштабы аграрной проблемы стали очевидными и для премьер-министра Исмет-паши в ходе поездок по юго-восточным провинциям Турции в середине 1930-х годов. Большинство жалоб и просьб, с которыми местное население обращалось к главе правительства, сводилось к скорейшему перераспределению выморочных и стоявших под парами земель среди нуждавшихся крестьян. Многие из них вели отчаянную борьбу друг с другом за пригодные для обработки участки35.
В населенных преимущественно курдами и ассирийцами деревнях Юго-Восточной Анатолии, где свои порядки устанавливали племенные вожди и крупные землевладельцы, а у НРП не было местных партийных организаций, борьба крестьян за землю и выживание приводила к широкому распространению бандитизма – преступлений против зажиточных фермеров, деревенских богачей-ростовщиков и представителей официальных властей. Анализируя природу общественного напряжения в регионах, министр здравоохранения и социального обеспечения в 1937–1945 гг. Хулуси Аталаш писал в 1938 г. премьер-министру Махмуду Джелалю Баяру (1937–1939) о предоставлении безземельным и малообеспеченным крестьянам наделов из государственных фондов как о ключевом факторе установления порядка и политической стабильности в Анатолии36.
Острота земельного вопроса вынуждала правительство озаботиться его решением и включить земельную реформу в число приоритетных задач. Руководство НРП регулярно обращалось в своих выступлениях к проблеме острого дефицита земли у подавляющего большинства крестьян Анатолии37. Выступая на открытии новой сессии ВНСТ 1 ноября 1928 г., Кемаль-паша подчеркивал необходимость скорейшего решения аграрного вопроса и ставил перед кабинетом министров соответствующую задачу, призывая использовать для этого имеющиеся ресурсы38. В своем обращении к парламентариям спустя ровно год президент заявил, что трудящемуся на селе крестьянину нужно предоставить столько земли, сколько он в состоянии обработать, поскольку это «есть залог процветания страны»39. Через семь лет, 1 ноября 1936 г., говоря с трибуны ВНСТ, Ататюрк отмечал, что новый земельный закон должен стать гарантией выделения каждой крестьянской семье «достаточного для существования надела»40, а 1 ноября 1937 г. императивно потребовал от членов парламента и правительства, чтобы в Турции «не осталось ни одного безземельного крестьянина»41. Обосновывая (в ходе общения с депутатами парламентской фракции НРП в декабре 1936 г.) необходимость проведения новой аграрной реформы, Исмет Инёню заметил, что «число безземельных крестьян в стране превышает все мыслимые пределы… даже в самых благополучных деревнях, где земля разделена, почти половина жителей – безземельные»42.
При этом нельзя сказать, что правительство бездействовало. В первые два десятилетия существования республиканской Турции неоднократно осуществлялись попытки решения земельного вопроса. Однако эффективность этих мер оставалась невысокой. В 1929 г. ВНСТ приняло Закон «О распределении земли среди нуждающихся фермеров в восточных провинциях»43, действие которого в 1930-е годы фактически распространилось на всю территорию страны44. В 1930 г. одним из обязательных пунктов программы экономического развития Турции стало распределение выморочных наделов и пустошей. В 1934 г. принятие Закона «О переселении» 45предоставило властям дополнительный правовой инструмент для выделения земель бедным крестьянам и нуждавшимся в дополнительных наделах мелким фермерам. На IV съезде НРП в 1935 г. проведение всеобъемлющей аграрной реформы было провозглашено одной из приоритетных задач партии и правительства46. В ноябре того же года на обсуждение в парламенте был вынесен проект Закона «О переселении и земле», который предполагал национализацию необрабатываемых частных наделов и их дальнейшую передачу безземельным крестьянам, однако депутаты ВНСТ его не одобрили. Против принятия этого законопроекта выступали крупные землевладельцы, имевшие сильное лобби в правящей партии. Через два года правительство под давлением Ататюрка, намеревавшегося осуществить новое перераспределение земли среди крестьян (ввиду роста социальной напряженности в стране), выдвинуло инициативу по комплексному решению земельного вопроса – более либеральный законопроект об аграрной реформе, однако его рассмотрение затянулось и в итоге завершилось ничем47. Преодолеть сопротивление землевладельческого лобби в НРП оказалось крайне трудно. Кроме того, принятию закона не благоприятствовали и политические изменения, произошедшие в конце 1930-х годов в стране и за ее пределами 48 (в 1938 г. ушел из жизни Ататюрк, а через год разразилась Вторая мировая война).
Хотя проведение комплексной аграрной реформы так и не удалось осуществить, правительство в ручном режиме и точечно проводило распределение земель из государственного фонда среди крестьян. По данным турецкого историка Омера Лютфи Баркана, в 1920-х – первой половине 1930-х годов власти таким образом выделили в пользу нуждавшихся почти 6,8 млн дёнюмов (ок. 680 тыс. га) пахотной земли. Во второй половине 1930-х годов более 3 млн дёнюмов (ок. 300 тыс. га) были распределены среди 88,7 тыс. семей49. Однако во многих случаях крестьяне, получившие наделы от государства (в среднем их размеры колебались от 3 до 10 дёнюмов, т. е. от 0,3 до 1 га), были крайне разочарованы их размерами. Это вызвало новую волну недовольства среди сельского населения Турции. «Государство дало мне 10 дёнюмов… но на урожай с них я себе не куплю и корки сухого хлеба, не говоря уже об одежде, соли и керосине», – подобную жалобу анатолийского крестьянина зафиксировал в своем дневнике турецкий просветитель Ферит Огуз Байыр50.
Разочарование аграрной политикой кемалистов находило свое отражение и в депутатских отчетах о результатах инспекционных поездок в районные центры. Представители сельского населения Анатолии жаловались на мизерные размеры выделяемых наделов (не более 10 дёнюмов). В то же время власти не торопились распределять среди крестьян обширные государственные угодья, пустовавшие в течение многих лет51. Другой причиной недовольства являлась изнурительная процедура регистрации собственности. Порой возникала парадоксальная ситуация: крестьянин еще формально не успевал вступить в права собственника на выделенный надел, а его уже изымали за долги или в качестве обеспечительной меры для выплаты налоговых обязательств, или под каким-либо еще предлогом. В многочисленных петициях, направленных в ВНСТ в 1930-е годы, содержалось немало подобных жалоб. В коллективных обращениях к парламентариям крестьяне из Измира, Кайсери, Измита и других провинций выражали недовольство тем, что местная администрация насильно изымала только что выделенные государством участки, оливковые рощи и бахчи52. «Как можно требовать вернуть надел, который был выделен мне как безземельному крестьянину», – жаловался в своей петиции житель деревни Улуага провинции Нигде53. Таким образом, одной рукой правительство давало землю, а другой ее отбирало.
На рубеже 1920–1930-х годов в Анатолии складывалась тяжелейшая социально-экономическая ситуация. Во многих деревнях десятки семей оказались на грани выживания54. Для мониторинга ситуации на местах правительство ввело практику регулярных отчетов от губернаторов илов [55] (провинций) с подробной информацией о продовольственной ситуации и снабжении городов и сельской местности56. В этих отчетах фиксировались факты голодных смертей и распоряжения о срочном привлечении Красного Полумесяца57. На фоне тревожных сообщений МВД власти всерьез озаботились обострением экономической ситуации и нарастанием социальной напряженности, угрожавших общественной безопасности в Анатолии58. Все это фиксировал и президент Ататюрк во время регулярных поездок по стране59.
Нерешенность важнейших социально-экономических проблем, злоупотребления со стороны государственных чиновников, а также разорение большого числа мелких фермерских хозяйств богатыми землевладельцами и успешными коммерсантами, собирательно именуемыми в крестьянской среде «ага», способствовали росту теневой экономики и распространению бандитизма. Многие простые турки оказались между двух огней: с одной стороны, репрессивная государственная машина в лице жандармов и налоговых инспекторов, с другой – коррумпированные деревенские старосты и идущие на любые ухищрения банкиры-ростовщики и крупные землевладельцы-ага.
В большинстве анатолийских деревень и мелких городов именно ага, а отнюдь не представители местной администрации или руководители провинциальной организации НРП олицетворяли реальную власть. В провинциях, специализировавшихся на выращивании прибыльных товарных культур, где концентрировалась основная масса богатых фермерских хозяйств, они не только владели обширными земельными угодьями, но и фактически контролировали общественно-политическую жизнь. Ага поддерживали тесные связи с государственными чиновниками на разных уровнях, партийными функционерами, а также с полицией и судьями60. В отдельных илах (например, в Бурдуре на юго-западе Анатолии с населением 80 тыс. человек в конце 1920-х годов61) нередко происходило сращивание власти и капитала, и все важные посты в местной администрации занимали владельцы крупнейших фермерских хозяйств, в других – ага располагали к себе администрацию, полицию и суды через взятки и «подарки»62. Как следует из регулярных инспекционных отчетов 1930-х годов, степень влияния богатых землевладельцев-ага доходила до того, что в Конье – крупнейшей провинции и главной житнице Анатолии – местные жители говорили столичному партийному инспектору, что «партия здесь – это Омер-ага»63.
На низовом уровне ага формировали свои сети патрон-клиентских отношений, помогая нуждавшимся крестьянам и мелким фермерам с получением кредитов и решением мелких тяжб в обмен на лояльность и признание авторитета, тем самым выстраивая механизм воспроизводства собственного экономического влияния и социального престижа64. Крупные землевладельцы стремились замкнуть на себя все вопросы общественной жизни в деревне. Ни одно, даже самое малозначительное дело, имевшее публичный резонанс (свадьба, семейные раздоры, споры о границах земельных наделов и т. д.), не оставалось без их внимания. Ага выступали естественными посредниками между крестьянами и местной администрацией, утверждаясь в глазах сельского населения в роли «единственной власти»65. Как отмечала известный социолог Бехидже Боран, описывая социальные реалии первых десятилетий республиканской эпохи, «оказавшись в тяжелой ситуации или нужде… люди могли пойти только к местному ага»66. Нередко крестьяне были даже вынуждены нести своеобразные «повинности» в пользу крупных землевладельцев-ага – выделять им часть урожая, отдавать лучшие фрукты и овощи, дарить овец или коров в знак благодарности за заступничество перед местными чиновниками или помощь в решении финансовых трудностей67.
Патрон-клиентские отношения «местных элит» и кемалистских властей в корне опровергают распространенную с 1970-х годов концепцию Шерифа Мардина об оппозиции «центр – периферия» как модели общественного развития республиканской Турции68. В рамках этой концепции «центр» (проводившие политику модернизации руководство страны и НРП) рассматривался изолированным от «периферии» – остальной части страны (преимущественно консервативной провинции). Напротив, кемалистское государство и партийные функционеры плотно взаимодействовали с периферией, опираясь на ага как на социальных партнеров и проводников своего влияния69.
Наряду с формированием обширных патрон-клиентских сетей ага занимались экспроприацией земель бедных крестьян, нередко используя разнообразные мошеннические схемы. О хищнических методах выселения жителей деревень с насиженных мест подробно докладывал в своих выступлениях перед депутатами ВНСТ министр внутренних дел Шюкрю Кая (1927–1938)70. Экономический кризис начала 1930-х годов увеличил масштабы проблемы: количество владельцев мелких хозяйств, лишившихся земли, оказавшись в долговой зависимости от ростовщиков из числа ага, росло в геометрической прогрессии71.
Наиболее драматично ситуация складывалась в отдаленных районах Восточной Анатолии, где крестьяне были фактически лишены прав на обрабатываемую землю и даже на собственные жилища. В своих мемуарах Али Кемали Аксют, бывший в начале 1930-х годов губернатором ряда юго-восточных и восточных илов, отмечал, что в провинции Урфа большинство деревень было поделено между несколькими крупными землевладельцами. Самые зажиточные из них имели «во владении» по 300 поселений, дельцы средней руки – от 30 до 40. В «своих» деревнях они продолжали собирать ашар и другие традиционные налоги, отмененные еще в середине 1920-х годов72. В отдельных областях в роли ага выступали влиятельные шейхи суфийских тарикатов, собиравшие с крестьян регулярные религиозные подати. Крестьяне были обязаны работать на их угодьях. В случае неповиновения шейхи имели возможность засудить строптивых односельчан73. Еще более влиятельными были племенные вожди, требовавшие уплаты податей даже от тех членов подвластных им общин, которые уезжали в другие регионы страны в поисках новых экономических возможностей. Журналист Исмаил Хюсрев Токин в своей книге «Экономика турецкой деревни», опубликованной в 1934 г., приводил историю Сейита Рызы – «хозяина» 230 деревень в провинции Дерсим, который отправлял вооруженных людей для сбора отмененного джизье с уехавших на заработки в Измир и Стамбул одноплеменников и в случае отказа создавал невыносимые условия жизни для их родственников74.
Ага устанавливали незаконные трудовые повинности для крестьян, а в отношении несогласных применяли разнообразные меры принуждения и шантажа75. В мемуарах Джемаля Бардакчи, занимавшего в середине 1920-х годов пост губернатора Диярбакыра, приведены многочисленные свидетельства того, что крупные землевладельцы и племенные вожди обладали фактически абсолютной властью в своих регионах. Ага творили произвол в отношении крестьянского населения, умело манипулировали местными чиновниками, коррумпировали полицию и суды. «И чем больше им удавалось разжиться на незаконных поборах, тем богаче и влиятельнее они становились», – сетовал Дж. Бардакчи76. Строптивых и несогласных ждал суд, готовый принимать ложные свидетельские показания и «штамповать» нужные местным ага приговоры. Как отмечает Бардакчи, из более 3,5 тыс. заочно приговоренных к тюремному заключению различными судами провинции Диярбакыр в 1926 г. большинство составляли крестьяне, воспротивившиеся незаконным поборам со стороны крупных землевладельцев, которые за щедрые подношения добивались особого расположения судей и полиции77.
Другой социальной опорой власти кемалистов в деревне в рассматриваемый период являлись сельские старосты (мухтары). Их положение и полномочия регулировались Законом «О деревне», принятом в 1924 г.78 Следует отметить, что сам институт сельского главы появился еще в середине XIX в. Формально мухтар председательствовал в совете старейшин, являвшимся главным административным органом в деревне, и должен был исполнять его решения. Однако во многих случаях советы старейшин существовали лишь на бумаге, а все властные полномочия брали на себя старосты79. Как правило, ими становились представители наиболее влиятельных и зажиточных семей. Это порождало порочный круг: крупные землевладельцы стремились контролировать советы старейшин и сельских старост и манипулировали ими ради укрепления собственного материального положения, в то время как сами сельские старосты использовали свою должность для обогащения и в конфликтных ситуациях всегда стояли на страже интересов ага[80]. Во многих регионах Турции выборы мухтаров часто превращались в формальность. В деревнях Юго-Восточной Анатолии этот пост нередко занимали ставленники племенных вождей и крупных землевладельцев. Даже губернатор провинции иногда не имел возможности повлиять на ход выборов81.
Закон «О деревне» наделял сельского старосту широкими полномочиями. Он выступал посредником во взаимоотношениях между крестьянами и органами местной власти, в его непосредственные обязанности входило объявление и разъяснение правительственных постановлений и законов. Сельскому старосте (как и жандармам) вменялась задача обеспечения безопасности в деревне. Он также должен был оказывать содействие сборщикам податей, вести учет населения и налоговые реестры, организовывать сборы призывников в армию. Кроме того, согласно закону 1924 г., сельский староста имел право мобилизовывать крестьян на общественные работы, выступать в качестве мирового судьи при разрешении споров, а также облагать жителей деревни разнообразными трудовыми повинностями (прокладка дорог, строительство больниц, школ, мельниц и т. д.). Мухтар обладал правом взимать салма – особый налог для выполнения общественных обязанностей, которые включали обеспечение санитарных условий в деревне и закупку современной техники для внедрения прогрессивных методов ведения сельского хозяйства. Суммы, полученные при уплате этого налога, нередко использовались не по назначению82, а его сборы зачастую сопровождались злоупотреблениями83. Составление реестра и определение объема обязательных государственных налогов тоже входило в круг обязанностей деревенского старосты. Именно он решал, какая часть домашнего скота входит в налогооблагаемую базу, а какая – нет, определял совокупный размер дорожного сбора и тех односельчан, которые должны были его платить84. Однако самая ненавистная для крестьян обязанность старосты состояла в обеспечении взысканий с должников. Мухтар непосредственно участвовал в принуждении к погашению задолженности, задержании неплательщика, описи имущества и выставлении его на торги. Каждый житель села формально подчинялся старосте, обладавшим своим аппаратом принуждения – «деревенскими стражниками», неповиновение которым рассматривалось как преступление против представителей государственной власти85.
Как отмечалось выше, сельским старостам вменялось в обязанность содействовать сотрудникам налоговой инспекции. Вследствие этого они редко вступались за должников-односельчан, а в большинстве случаев, напротив, пытались оказывать давление на неплательщиков. Как следует из отчетов провинциальных партийных инспекторов 1930-х годов, жители Коньи и Аксарая жаловались на многочисленные случаи, когда под давлением старост их земляки вынуждены были выставлять на торги все свое имущество и скот для единовременной выплаты налогов86. Незнание крестьянами собственных прав и точного размера налоговых обязательств способствовало злоупотреблениям со стороны государственных чиновников, которые часто наживались на продаже имущества должников 87 и незаконно принуждали их к общественным работам88. Масштаб коррупции в среде сельской администрации и налоговых органов поражал провинциальных партийных инспекторов 1930-х годов89.
Таким образом, в рассматриваемый период в аграрных районах Анатолии наблюдался своеобразный симбиоз партийно-административных структур и землевладельцев-ага. Всевластие последних в деревнях позволяло существенно ограничить протестную активность крестьянского населения, вызванную негативными последствиями кемалистских реформ.
* * *
Аграрный характер «Новой Турции» естественным образом ставил земельный вопрос во главу угла всех основных экономических и административных преобразований в стране. Ускоренная модернизация, проводившаяся кемалистскими властями, требовала соответствующего финансового обеспечения. Ключевым ресурсом проведения реформ становились налоги, а их бремя ложилось в первую очередь на плечи сельского населения. В условиях нерешенного земельного вопроса налоговая реформа привела к гипертрофированным формам эксплуатации крестьянства. Ее масштаб и последствия фиксировали функционеры НРП и даже президент Ататюрк, совершавший время от времени поездки по стране. Реакцией на все эти проблемы стал всплеск низовой гражданской активности, легальными средствами выражения которой являлись массовая публикация открытых писем и петиций к правительству в общенациональных газетах, индивидуальные и коллективные обращения к властям. Протест против эксплуатации принимал и криминальные формы, что вело к увеличению числа убийств и ограблений крупных землевладельцев и коммерсантов.
При всем понимании сложности и взрывоопасности ситуации на периферии в 1920–1930-е годы кемалисткое правительство так и не сумело найти адекватное решение аграрного вопроса. Вместо этого своеобразной формой купирования остроты социального протеста стало формирование причудливого симбиоза партийно-административных структур и землевладельцев-ага. Патрон-клиентские связи, сложившиеся в рамках этого симбиоза, не позволяли низовому гражданскому протесту выйти на более масштабный уровень и ограничивали его проявления на местах.
1 О подходах к исследованию гражданского общества в странах Азии и Африки см.: Shlykov P. Non-western model of civil society in the Middle Eastern context: Promises and discontents // Russia in Global Affairs. 2021. Vol. 19. № 2. P. 137–140.
2 См.: Atatürk and the Modernization of Turkey / ed. J.M. Landau. Leiden, 1984. P. 108–109; Keyder Ç. Türk Tarımında Küçük Meta Üretiminin Yerleşmesi (1946–1960) // Türkiye’de Tarımsal Yapılar (1923–2000) / eds Ş. Pamuk, Z. Toprak. Ankara, 1988. S. 163–174; Tunçay M. Türkiye’de Sol Akımlar, 1925–1936. İstanbul, 1991. S. 115; Ahmad F. The Making of Modern Turkey. London, 1993. P. 75–76, 99; Киреев Н.Г. История Турции. XX век. М., 2007. С. 178–186; Zürcher E.-J. Turkey. A Modern History. London, 2017. P. 195–196; Еремеев Д.Е. История Турецкой Республики с 1918 г. до наших дней. М., 2017. С. 118–153.
3 Mardin Ş. Center-Periphery Relations: A Key to Turkish Politics? // Daedalus. 1973. Vol. 102. Iss. 1. P. 169–190.
4 Подробнее см.: Metinsoy M. Kemalizmin Taşrası: Erken Cumhuriyet Taşrasında Parti, Devlet ve Toplum // Toplum ve Bilim. 2010. Sayı 118. S. 124–164.
5 См.: Boratav K. Anadolu Köyünde Savaş ve Yıkım // Toplum ve Bilim. 1981/1982. № 15–16. S. 61–75; Mahir Metinsoy E. Ottoman Women during World War I: Everyday Experiences. Cambridge, 2017. P. 1–9, 159–174, 195–198.
6 Tezel Y.S. Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi. İstanbul, 2000. S. 103–128.
7 Подробнее см.: Quataert D.G. The Commercialization of Agriculture in Ottoman Turkey, 1800–1914 // International Journal of Turkish Studies. 1980. Vol. 1. № 2. P. 38–55; Мейер М.С. Османская империя в XVIII в. Черты структурного кризиса. М., 1991. С. 154–170.
8 Yalman A.E. Birinci Dünya Savaşında Türkiye. İstanbul, 2019. S. 249–261, 339–346.
9 Это также отразилось на процессе конструирования национальной идентичности. См.: Шлыков П.В. Историческая политика в современной Турции // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2020. № 11 (98). С. 3–4. DOI: 10.18254/S207987840010436–8
10 Буквально сразу с провозглашением республики в 1923 г. кемалисты объявили о монополизации производства соли, табачной и алкогольной продукции, сахара, спичек, пиломатериалов и т. д. См.: Demirbilek S. Tek Parti Döneminde İnhisarlar (1923–1946) // Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi. 2012. Cilt 12. № 24. S. 203–232.
11 Kanun № 474 (26.IV.1924) // Resmî Gazete (далее – RG). 26.IV.1924; Kadastro Kanunu (№ 658, 02.V.1925) // RG. 02.V.1925.
12 Türk Kanunu Medenisi (№ 743, 17.II.1926) // RG. 04.IV.1926.
13 Конвенция об обмене греческим и турецким населением, подписанная представителями двух стран в Лозанне 30 января 1923 г. (т. н. Лозаннская конвенция), предусматривала одновременное переселение более 1,5 млн христиан из Анатолии в Грецию и свыше 500 тыс. мусульман из Греции в Анатолию.
14 Aksoy S. 100 Soruda Türkiye’de Toprak Meselesi. İstanbul, 1971. S. 56–58; Başer K. 1923–1950 Yılları Arasındaki Türkiye’de Toprak Dağılımı // Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2013. Sayı 38. S. 203–215.
15 Жуковский П.М. Земледельческая Турция (Азиатская часть – Анатолия) / под ред. Н.И. Вавилова. М.; Л., 1933. С. 131–151; Tökin İ.H. Türkiye’de Köy İktisadiyatı (Ankara, Kadro Mecmuası Neşriyatı, 1934). İstanbul, 1990. S. 176–187.
16 Barkan Ö.L. Türkiye’de Toprak Meselesi. İstanbul, 1980. S. 478–479; Tezel Y.S. Op. cit. S. 344–349.
17 Barkan Ö.L. Op. cit. S. 478–479; Tezel Y.S. Op. cit. S. 344–348.
18 Atasağun Y. Türkiyede İçtimai Siyaset Meseleleri // İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası. 1940. Cilt 2. S. 419–440.
19 Uran H. Meşrutiyet Tek Parti Çok Parti Hatıralarım. Ankara, 2017. S. 216–224.
20 Ильтизам (араб. – «обязательство», «откуп») – откупная система в Османской империи, основанная на взимании натуральных налогов.
21 “Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür…” («Настоящий хозяин и господин Турции, главный производитель – это крестьянин…»). См.: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri. 3 cilt. Cilt 1. İstanbul, 2006. S. 219; “Köylü, hepimizin velinimetimizdir” («Крестьянин – наш благодетель»). См.: Gazi ve köylü // Cumhuriyet. 25.VII.1931. S. 1; “Köylü Milletin Efendisidir” («Крестьянин – цвет нации»). См.: Atanın Türk Milletine Temin Ettiği Büyük Eserlerden Biri de İktisadi İstiklalimizdir // Tan Gazetesi. 10.XI.1942. S. 1, 2, 8.
22 См.: Yılmaz G. Türkiye’de 1923–1938 Dönemi Maliye Politikası Uygulamaları // Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015. Cilt 27. № 2. S. 297–328.
23 Hershlag Z.Y. Turkey: the challenge of growth. Leiden, 1968. P. 50–51.
24 Bozdağlıoğlu Y. Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve Sonuçları // Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2014. Cilt 180. Sayı 180. S. 9–32. См. также: Özsoy İ. İki Vatan Yorgunları: Mübadele Acısını Yaşayanlar Anlatıyor. İstanbul, 2003.
25 Термин «туркоманы» (огузы-кочевники) нередко используется в качестве синонима более узкого понятия «анатолийских юрюков». См.: Gelekçi C. Türk Kültüründe Oğuz-Türkmen-Yörük Kavramları // Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 2004. № 1. S. 9–18.
26 Yalman (Yalgın) A.R. Cenupta Türkmen Oymakları: 2 cilt. Cilt 1. Ankara, 1977. S. 215, 221–222.
27 TBMM Yıllık. Devre 3. İçtima 1. Ankara, 1928. S. 214–275 (“Arzuhaller”); TBMM Yıllık. Devre 3. İçtima 2. Ankara, 1929. S. 315–395 (“Arzuhaller”); TBMM Yıllık. Devre 3. İçtima 3. Ankara, 1930. S. 331–426 (“Arzuhaller”).
28 TBMM Yıllık. Devre 3. İçtima 3. Ankara, 1930. S. 356.
29 Ceyhan kazasının Sarıbahçe köylülerinin Çukurova harası arazisinden toprak istekleri // Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi (далее – DABCA). Fon: 30–10–0–0 (MGM). 81–531–19. 19.08.1939.
30 TBMM Yıllık. Devre 5. İçtima 3. Ankara, 1939. S. 346. (Arzuhal № 3362/3534).
31 Ibid. S. 405–406, 417, 435, 438 (Arzuhal № 4200/4426; 4211/4438; 4366/4601; 4613/4940; 4674/5003).
32 Toprak İstedik, Fakat Vermediler // Son Posta. 29.VI.1935. S. 6.
33 Akçaabatta Hakkı Kaybolan Bir Köylü Vatandaşımız // Son Posta. 16.VII.1935. S. 6.
34 DABCA. Fon: 490–1–0–0 (CHP). 514–2062–1. 09.02.1939.
35 Öztürk S. İsmet Paşa’nın Kürt Raporu. İstanbul, 2008. S. 45, 61.
36 DABCA. Fon: 30–10–0–0 (MGM). 123–879–10. 16.02.1938.
37 Karaömerlioğlu M.A. Bir Tepeden Reform Denemesi // Birikim. 1998. Sayı 107. S. 31–47.
38 Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin III. Dönem 2. Yasama Yılını Açış Konuşmaları (1.11.1928) // TBMM Zabıt Ceridesi. D. III. Cilt 5 (1.11.1928). S. 2–5. URL: https://www5.tbmm.gov.tr/tarihce/ataturk_konusma/01_11_1928.pdf (дата обращения: 10.01.2024).
39 Ibid. Dönem 3. Yasama Yılını Açış Konuşmaları (1.11.1929) // Ibid. Cilt 13 (1.11.1929). S. 2–4. URL: https://www5.tbmm.gov.tr/tarihce/ataturk_konusma/01_11_1929.pdf (дата обращения: 10.01.2024).
40 Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisinin V. Dönem 2. Yasama Yılını Açış Konuşmaları (1.11.1936) // Ibid. D.V. Cilt 13 (1.11.1936). S. 4–7. URL: https://www5.tbmm.gov.tr/tarihce/ataturk_konusma/01_11_1936.pdf (дата обращения: 10.01.2024).
41 Ibid. Dönem 3. Yasama Yılını Açış Konuşmaları (1.11.1937) // Ibid. Cilt 20 (1.11.1937). S. 3–9. URL: https://www5.tbmm.gov.tr/tarihce/ataturk_konusma/01_11_1937.pdf (дата обращения: 10.01.2024).
42 İnönü İ. Konuşma, Demeç, Makale, Mesaj ve Söyleşileri 1933–1938. Ankara, 2003. S. 254–257.
43 Şark Menatıkı Dahilinde Muhtaç Zürraa Tevzi Edilecek Araziye Dair Kanun (№ 1505, 02.VI.1929) // RG. 11.VI.1929.
44 DABCA. Fon: 30–18–1–2 (KDB). 12–46–2. 02.07.1930; Ibid. 22–52–8. 20.07.1931; Ibid. 53–28–5. 17.04.1935; Ibid. 56–59–18. 09.07.1935; Ibid. 78–76–4. 01.09.1937.
45 İskân Kanunu (№ 2510, 14.VI.1934) // RG. 21.VI.1934.
46 C.H.P. Dördüncü Büyük Kurultayı Görüşmeleri Tutulgası, 9–16 Mayıs 1935. Ankara, 1935. S. 80–81.
47 Barkan Ö.L. Op. cit. S. 456–457.
48 Ibidem.
49 Aksoy S. Op. cit. S. 52–67.
50 Bayır F.O. Köyün Gücü. Ankara, 1971. S. 164–166.
51 Gaziantep Mebusu Ali Cenani’nin seyahat raporu // DABCA. Fon: 490–1–0–0 (CHP). 1454–34–3. 1934.
52 TBMM Yıllık. 1930. Devre 3. İçtima 3. S. 333, 340, 347, 378, 382, 405 (Arzuhal № 3355, 3487, 3596, 4161, 4227, 4650).
53 TBMM Yıllık. 1939. Devre 5. İçtima 3. S. 336 (Arzuhal № 3213/3383).
54 Tökin İ.H. Op. cit. S. 141.
55 Деление Турции на илы (административные округа) было официально введено в 1926 г.
56 21 ilin iaşe durumu ile ilgili raporların özeti // DABCA. Fon: 30–10–0–0 (MGM). 64–432–2. 13.01.1929.
57 Tirebolu’nun Buğdalızir köyünde açlıktan dört kişinin öldüğü // Ibid. 120–858–5. 27.05.1930.
58 Ankara’nın zirai vaziyetini bildiren rapor // Ibid. 64–432–10. 27.07.1930.
59 Cumhurbaşkanının yaptığı yurtiçi gezilerinde… // Ibid. 2–11–1. 05.05.1931.
60 Kıray M.B. Toplumsal Yapı Toplumsal Değişme. İstanbul, 2006. S. 99–116.
61 Kıvılcımlı H. Yol. 7: Müttefik: Köylülük. İstanbul, 1978. S. 30–31.
62 Ibid. S. 163–168.
63 Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin seçim bölgelerini inceleme raporlarından özetler // DABCA. Fon: 490–1–0–0 (CHP). 725–481–1. 1935.
64 Kıray M.B. Op. cit. S. 272–302.
65 Galip A. (Trakyali). Köylü. Koy İçtimaiyatı // Ülkü. Halkevleri Mecmuası. İkinci Teşrin (Kasım). 1933. S. 326–332.
66 Boran B.S. Köyde Sosyal Tabakalanma // Yurt ve Dünya. 1942. Sayı 15–16. S. 123–128. См. также: Dik E. Türkiye’de Erken Cumhuriyet Döneminde (1923–1930) “Köy” Sorunu // Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2016. Cilt 71. Sayı 3. S. 693–729.
67 Kıvılcımlı H. Op. cit. S. 67–70; Ziraat Bankası Münhasıran Çiftçilerin Bankası Olmalıdır // Cumhuriyet. 10.III.1931. S. 3; Ziraat Bankasından Para Almağı Zorlaştıran Sebepler Nelerdir? // Cumhuriyet. 16.III.1931. S. 3; İttifak edilen bir nokta // Cumhuriyet. 18.III.1931. S. 3; Ziraat Bankası ve Tüccar // Cumhuriyet. 31.III.1931. S. 3.
68 Mardin Ş. Op. cit.
69 DABCA. Fon: 490–1–0–0 (CHP). 696–367–1. 24.11.1937; Metinsoy M. Op. cit. S. 124–164.
70 TBMM Zabıt Ceridesi (68. Birleşim – 14.6.1934). D. 4. Cilt 23. Ankara, 1934. S. 155–156.
71 Zorbalık Ortadan Kalkmalı! // Cumhuriyet. 19.X.1931. S. 3; Galip A. (Trakyali). Op. cit. S. 326–332; Aksoy S. Op. cit. S. 56–58; Kıvılcımlı H. Op cit. S. 69–70; Kıray M.B. Op. cit. S. 272–302.
72 Kemâlî A. Erzincan. İstanbul, 1932. S. 197–202; Kıvılcımlı H. Op. cit. S. 82–83.
73 Kemâlî A. Op. cit. S. 197–202; Uluğ N.H. Tunceli medeniyete açılıyor. İstanbul, 2007. S. 94–99.
74 Tökin İ.H. Op. cit. S. 179.
75 Kemâlî A. Op. cit. S. 196–197.
76 Bardakçı C. Toprak dâvasından siyasî partilere. İstanbul, 1945. S. 14–15; Tökin İ.H. Op. cit. S. 178–179.
77 Bardakçı C. Op. cit. S. 11–15, 33, 41–45.
78 Köy Kanunu (№ 442, 08.III.1924) // RG. 07.IV.1924.
79 Makal M. Bizim köy: bir köy öğretmeninin notları. İstanbul, 1978. S. 79–80.
80 Kıray M.B. Op. cit. S. 112–114; Boran B.S. Op. cit. S. 123–128; Dik E. Op. cit. S. 693–729.
81 Kıvılcımlı H. Op. cit. S. 30, 134–137.
82 Tugal S. Yeni Köy Kanunu Tasarısı Hakkında // İdare Dergisi. 1951. Yıl 22. Sayı 210. S. 46–75; Idem. Yeni Köy Kanunu Tasarısı Hakkında // İdare Dergisi. 1951. Yıl 22. Sayı 212. S. 14–30.
83 Nar A. Anadolu günlüğü. İstanbul, 1998. S. 59–60.
84 Şose ve Köprüler Kanunu (№ 1525, 10.VI.1929) // RG. 12.VI.1929.
85 Köy Kanunu…
86 DABCA. Fon: 30–10–0–0 (MGM). 79–520–3. 06.01.1931.
87 Ibid. Fon: 490–1–0–0 (CHP). 620–36–1. 31.12.1936.
88 Ibid. 724–477–1. 07.02.1931.
89 Ibid. 655–182–1. 21.08.1935; Ibid. 721–464–2. 08.11.1937; Ibid. 696–367–1. 24.11.1937.
About the authors
Pavel V. Shlykov
Institute of Asian and African Studies, Lomonosov Moscow State University; MGIMO University
Author for correspondence.
Email: shlykov@iaas.msu.ru
ORCID iD: 0000-0002-0331-430X
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока, доцент кафедры востоковедения
Russian Federation, Moscow; MoscowReferences
- Еремеев Д.Е. История Турецкой Республики с 1918 года до наших дней. М., 2017.
- Жуковский П.М. Земледельческая Турция (Азиатская часть – Анатолия) / под ред. Н.И. Вавилова. М.; Л., 1933.
- Киреев Н.Г. История Турции. XX век. М., 2007.
- Мейер М.С. Османская империя в XVIII в. Черты структурного кризиса. М., 1991.
- Шлыков П.В. Историческая политика в современной Турции // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2020. № 11 (98). С. 1–41. doi: 10.18254/S207987840010436–8
- Eremeev D.E. Istoriia Turetskoi Respubliki s 1918 goda do nashikh dnei [History of the Turkish Republic from 1918 to the Present Day]. Moskva, 2017. (In Russ.)
- Kireev N.G. Istoriia Turtsii. XX vek [The History of Turkey. 20th century]. Moskva, 2007. (In Russ.)
- Meier M.S. Osmanskaia imperiia v XVIII v. Cherty strukturnogo krizisa [The Ottoman Empire in the 18th century. Characteristics of a Structural Crisis]. Moskva, 1991. (In Russ.)
- Shlykov P.V. Istoricheskaia politika v sovremennoi Turtsii [Historical Politics in Modern Turkey] // Elektronnyj nauchno-obrazovatel’nyj zhurnal “Istoriya” [Electronic scientific and educational Journal “History”]. 2020. № 11 (98). S. 1–41. doi: 10.18254/S207987840010436–8 (In Russ.)
- Zhukovskii P.M. Zemledel’cheskaia Turtsiia (Aziatskaia chast’ – Anatoliia) [Agricultural Türkiye (Asian part – Anatolia)] / pod red. N.I. Vavilova. Moskva; Leningrad, 1933. (In Russ.)
- Ahmad F. The Making of Modern Turkey. London, 1993.
- Aksoy S. 100 Soruda Türkiye’de Toprak Meselesi. İstanbul, 1971.
- Atasağun Y. Türkiyede İçtimai Siyaset Meseleleri // İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası. 1940. Cilt 2. S. 419–440.
- Atatürk and the Modernization of Turkey / ed. J.M. Landau. Leiden, 1984.
- Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri. 3 cilt. Cilt 1. İstanbul, 2006.
- Bardakçı C. Toprak dâvasından siyasî partilere. İstanbul, 1945.
- Barkan Ö.L. Türkiye’de Toprak Meselesi. İstanbul, 1980.
- Başer K. 1923–1950 Yılları Arasındaki Türkiye’de Toprak Dağılımı // Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2013. Sayı 38. S. 203–215.
- Bayır F.O. Köyün Gücü. Ankara, 1971.
- Boran B.S. Köyde Sosyal Tabakalanma // Yurt ve Dünya. 1942. Sayı 15–16. S. 123–128.
- Boratav K. Anadolu Köyünde Savaş ve Yıkım // Toplum ve Bilim. 1981/1982. № 15–16. S. 61–75.
- Bozdağlıoğlu Y. Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve Sonuçları // Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2014. Cilt 180. Sayı 180. S. 9–32.
- C.H.P. Dördüncü Büyük Kurultayı Görüşmeleri Tutulgası, 9–16 Mayıs 1935. Ankara, 1935.
- Demirbilek S. Tek Parti Döneminde İnhisarlar (1923–1946) // Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi. 2012. Cilt 12. № 24. S. 203–232.
- Dik E. Türkiye’de Erken Cumhuriyet Döneminde (1923–1930) “Köy” Sorunu // Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2016. Cilt 71. Sayı 3. S. 693–729.
- Galip A. (Trakyali). Köylü. Koy İçtimaiyatı // Ülkü. Halkevleri Mecmuası. İkinci Teşrin (Kasım). 1933.
- Gelekçi C. Türk Kültüründe Oğuz-Türkmen-Yörük Kavramları // Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 2004. № 1. S. 9–18.
- Hershlag Z.Y. Turkey: the challenge of growth. Leiden, 1968.
- İnönü İ. Konuşma, Demeç, Makale, Mesaj ve Söyleşileri 1933–1938. Ankara, 2003.
- Karaömerlioğlu M.A. Bir Tepeden Reform Denemesi // Birikim. 1998. Sayı 107. S. 31–47.
- Kemâlî A. Erzincan. İstanbul, 1932.
- Keyder Ç. Türk Tarımında Küçük Meta Üretiminin Yerleşmesi (1946–1960) // Türkiye’de Tarımsal Yapılar (1923–2000) / eds Ş. Pamuk, Z. Toprak. Ankara, 1988. S. 163–174.
- Kıray M.B. Toplumsal Yapı Toplumsal Değişme. İstanbul, 2006.
- Kıvılcımlı H. Yol. 7: Müttefik: Köylülük. İstanbul, 1978.
- Mahir Metinsoy E. Ottoman Women during World War I: Everyday Experiences. Cambridge, 2017.
- Makal M. Bizim köy: bir köy öğretmeninin notları. İstanbul, 1978.
- Mardin Ş. Center-Periphery Relations: A Key to Turkish Politics? // Daedalus. 1973. Vol. 102. Iss. 1. P. 169–190.
- Metinsoy M. Kemalizmin Taşrası: Erken Cumhuriyet Taşrasında Parti, Devlet ve Toplum // Toplum ve Bilim. 2010. Sayı 118. S. 124–164.
- Nar A. Anadolu günlüğü. İstanbul, 1998.
- Özsoy İ. İki Vatan Yorgunları: Mübadele Acısını Yaşayanlar Anlatıyor. İstanbul, 2003.
- Öztürk S. İsmet Paşa’nın Kürt Raporu. İstanbul, 2008.
- Quataert D.G. The Commercialization of Agriculture in Ottoman Turkey, 1800–1914 // International Journal of Turkish Studies. 1980. Vol. 1. № 2. P. 38–55.
- Shlykov P. Non-western model of civil society in the Middle Eastern context: Promises and discontents // Russia in Global Affairs. 2021. Vol. 19. № 2. P. 134–162.
- Tezel Y.S. Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi. İstanbul, 2000.
- Tökin İ.H. Türkiye’de Köy İktisadiyatı (Ankara, Kadro Mecmuası Neşriyatı, 1934). İstanbul, 1990.
- Tugal S. Yeni Köy Kanunu Tasarısı Hakkında // İdare Dergisi. 1951. Yıl 22. Sayı 210. S. 46–75.
- Tugal S. Yeni Köy Kanunu Tasarısı Hakkında // İdare Dergisi. 1951. Yıl 22. Sayı 212. S. 14–30.
- Tunçay M. Türkiye’de Sol Akımlar, 1925–1936. İstanbul, 1991.
- Uluğ N.H. Tunceli medeniyete açılıyor. İstanbul, 2007.
- Uran H. Meşrutiyet Tek Parti Çok Parti Hatıralarım. Ankara, 2017.
- Yalman A.E. Birinci Dünya Savaşında Türkiye. İstanbul, 2019.
- Yalman (Yalgın) A.R. Cenupta Türkmen Oymakları: 2 cilt. Сilt 1. Ankara, 1977.
- Yılmaz G. Türkiye’de 1923–1938 Dönemi Maliye Politikası Uygulamaları // Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015. Cilt 27. № 2. S. 297–328.
- Zürcher E.-J. Turkey. A Modern History. London, 2017.
Supplementary files