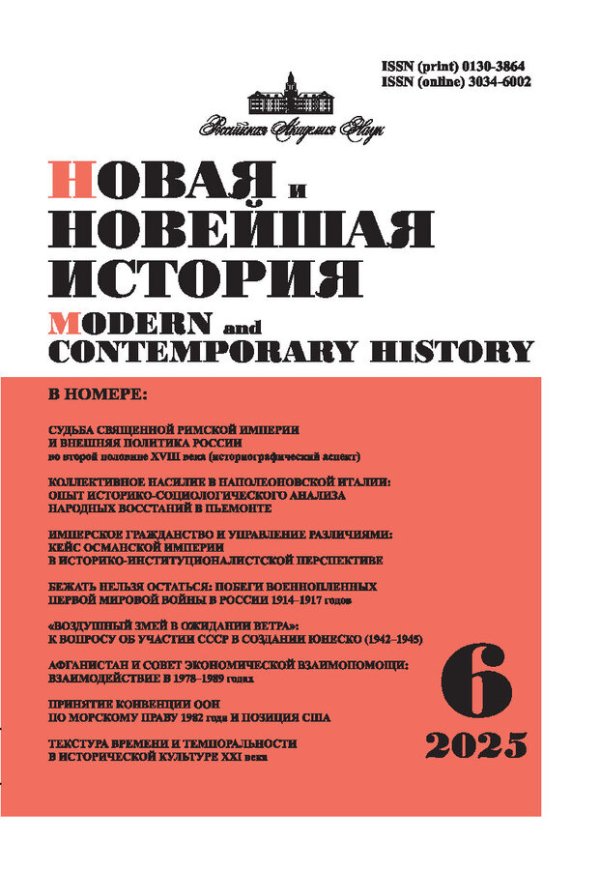The “Two Koreas” Problem in U.S. Policy, 1974–1980
- Authors: Sadakov D.А.1
-
Affiliations:
- Vyatka State University
- Issue: No 3 (2024)
- Pages: 158-170
- Section: 20th century
- URL: https://journal-vniispk.ru/0130-3864/article/view/259834
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0130386424030128
- ID: 259834
Cite item
Full Text
Abstract
In this article, the author charts the evolution of US Korea policy after the failed attempts to establish a unification dialogue between the Republic of Korea and the Democratic People’s Republic of Korea and the reduction of the US military presence on the peninsula in 1974–1980. In 1973, The United Nations Commission for the Unification and Rehabilitation of Korea (UNCURK), which the Americans had supported for decades, ceased operations. The question of the fate of the United Nations Command loomed large. On the whole, in 1974–1980, the Americans did not reduce their military presence in Korea. At the same time, diplomatic support for negotiations on this topic and participation in maintaining the inter-Korean dialogue on the status of the ROK and DPRK in the UN and scenarios for possible unification of the country were quite effective. The Americans managed to prevent destabilisation in South Korea even in the face of a sudden change of power following the assassination of Park Chung-Hee. Simultaneously, the necessary international structures, such as the ROK/US Joint Forces Command, were put in place. Moreover, US diplomats managed to preserve even such a relic of the Korean War as the UN Command. At the same time, the issue of Korean unification had by this time become an instrument of political manipulation by all countries concerned. Under these circumstances, unification could not be achieved by diplomatic means alone.
Full Text
Разделение более полувека назад Кореи на два враждебных государства привело к появлению еще одного очага международной напряженности. Одним из ключевых факторов, цементирующих раскол Кореи и одновременно гарантирующих региональную стабильность, служит военное присутствие США на полуострове. Основания для него были заложены в 1950 г., когда в начале Корейской войны было создано Командование ООН во главе с американским генералом. Возникновение Республики Корея стало возможным благодаря прямому вмешательству сил ООН, а после завершения войны в 1953 г. объединение Кореи допускалось американцами только при условии присоединения Севера к Югу.
В конце 1960-х – начале 1970-х годов политика США в Корее столкнулась с новыми вызовами: активизация переговоров между Республикой Корея (РК) и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) и укрепление международного положения КНДР. Коррективам корейской политики способствовал запущенный в 1971 г. процесс урегулирования отношений между Китайской Народной Республикой (КНР) и США. Основанная на тезисах начала 1950-х годов американская позиция по вопросу о восстановлении единства Кореи стала подвергаться жесткой критике. В 1973 г. прекратила работу Комиссия ООН по объединению и восстановлению Кореи, чья деятельность на протяжении десятилетий поддерживалась американцами. Остро встал вопрос о судьбе Командования ООН на полуострове1.
Цель данной статьи – установить роль США в закреплении разделенного статуса Кореи, произошедшего после неудачных попыток наладить объединительный диалог Республики Корея и Корейской Народно-Демократической Республики, и причины снижения уровня американского военного присутствия на полуострове в 1974–1980 гг.
Роль США в переговорах между Северной и Южной Кореями подробно анализировалась в отечественной и зарубежной историографии2. Ставшие доступными в последние годы архивные материалы и опубликованные внешнеполитические документы позволяют существенно дополнить сформированные представления о роли США в межкорейском диалоге.
Для Вашингтона проблема функционирования Командования ООН была существенно сложнее вопроса о Комиссии ООН по объединению и восстановлению Кореи. Главнокомандующий войсками ООН был одним из подписантов Корейского соглашения о перемирии 1953 г., и роспуск командования мог спровоцировать попытки северян выдавить США из числа участвующих в имплементации данного документа держав. Посол США в Корее Ф. Хабиб предложил не дожидаться потенциально возможного поражения в Генеральной Ассамблее ООН, а самостоятельно отказаться от этого анахронизма, но на своих условиях – без потери качества в части обеспечения безопасности Южной Кореи и интересов США в этом регионе. Подготовка этого процесса началась зимой 1974 г., а к марту американцы сформулировали свою платформу на случай возможных переговоров с КНР и КНДР3.
В Госдепартаменте и министерстве обороны желали заменить сторону командования в соглашении о перемирии на представителей Соединенных Штатов и Республики Корея, а также добиться молчаливого согласия КНР и КНДР на временное сохранение американского военного присутствия на полуострове по образцу Шанхайского коммюнике4. Окончательный вывод американских военнослужащих с территории полуострова должен был сопутствовать заключению межкорейского пакта о ненападении, предложенного президентом РК Пак Чон Хи в январе 1974 г.5
В ЦРУ и Агентстве по контролю за вооружениями и разоружением считали предпочтительным сделать акцент на решении корейских проблем силами самих корейцев, способствуя при этом укреплению связей КНДР и РК с США, Японией, КНР и СССР. В любом случае контроль над южнокорейскими вооруженными силами должен был перейти в руки потенциального объединенного командования. Также американцы не собирались далее сокращать свои силы в регионе до того, как новые механизмы обеспечения безопасности не сумеют подтвердить свою работоспособность.
В конце марта 1974 г. Совет национальной безопасности согласился с позицией Госдепартамента и минобороны. Выполнению намеченных планов должны были служить прямые межкорейские переговоры. Сами американцы собирались заниматься дипломатическим обеспечением процесса, поддерживая контакты с заинтересованными великими державами6. Параллельно в Вашингтоне стали прорабатывать меры по замене Командования ООН Командованием объединенными силами США и Республики Корея. Американцы допускали, что при должном упорстве китайцы и северяне смогут добиться роспуска Командования ООН уже ближайшей осенью7. На 29-й сессии Генассамблеи ООН странам социалистического лагеря и в самом деле удалось достичь определенных успехов. Американцы все же добились принятия нужной им резолюции, однако вместо очередного подтверждения легитимности пребывания войск ООН в Корее вопрос о них передавался на рассмотрение Совета Безопасности8.
Позицию американцев подрывал в первой половине 1975 г. процесс вступления КНДР в Движение неприсоединения9. Северяне не скупились на заявления об «общности судеб корейского народа и народов стран третьего мира», о соответствии «самостоятельной внешней политики Трудовой партии Кореи и правительства КНДР высоким целям и идеалам Движения неприсоединения»10. По мнению советских дипломатов, Пхеньян стремился заручиться поддержкой максимально возможного количества стран в противостоянии Севера и Юга11. Кроме того, вступление в Движение неприсоединения являлось частью более широкого курса Пхеньяна на изменение тактики объединения Кореи. В 1976 г. советник посольства СССР в КНДР Б. Морозов пришел к выводу, что северяне учли сильные антикоммунистические настроения на Юге и придали своей политике более националистический характер12.
В Госдепартаменте считали, что по своему значению вступление КНДР в Движение неприсоединения было равнозначно дипломатической катастрофе и гарантировало северянам дополнительные голоса на Генеральной Ассамблее13.
Первые месяцы 1975 г. показали, что ранее одобренный Советом национальной безопасности план размена Командования ООН на формирование нового status quo на американских условиях буксует. Китайцы игнорировали попытки южан выйти на контакт. Мобилизовать сторонников США в ООН не получалось. Вашингтон пытался саботировать вступление КНДР в Движение неприсоединения, указав его членам, что страна по факту не является неприсоединившимся государством14, однако эти меры ожидаемо не сработали. На конференции в Лиме в августе 1975 г. Северная Корея была единогласно принята в состав Движения15. Попытка Юга вступить в данную организацию в том же году потерпела фиаско из-за непопулярности репрессивного режима Пак Чон Хи на международной арене16.
В ООН Вашингтон был вынужден заявить о намерении приступить к свертыванию полномочий командования. В Госдепартаменте было подготовлено и согласовано с южанами письмо в Совет Безопасности, в котором выражалась готовность сначала сократить уровень демонстрации присутствия ООН в Корее (в основном в контексте использования символики организации), а затем, к январю 1976 г., и вовсе прекратить работу командования при условии выработки альтернативных мер обеспечения перемирия17. Впрочем, в США считали, что ни КНР, ни КНДР не согласятся с этими предложениями, а будут требовать полного вывода иностранных войск с полуострова. Маневр американцев был обусловлен стремлением заручиться поддержкой дополнительных голосов на Генассамблее. Никакого реального решения о прекращении работы Командования ООН в этот период принято не было18.
В ноябре 1975 г. Генеральная Ассамблея ООН рассматривала два проекта резолюций по корейскому вопросу. Первый основывался на пожеланиях американцев и призывал продолжать межкорейский диалог и разработать альтернативные меры обеспечения соглашения о перемирии. Указывалось, что в этом случае 1 января 1976 г. Командование ООН может быть распущено, а на юге Кореи более не останется войск под флагом организации. Лукавство американцев проявилось в ходе прений, когда представитель США заявил, что лишь около 300 американских военнослужащих непосредственно относятся к Командованию ООН, а остальные 40 тыс. располагаются на полуострове в соответствии с американо-корейским договором о взаимной обороне19. Второй проект выражал требования стран социалистического лагеря. В нем отмечалось, что прочный мир в Корее невозможен, пока перемирие сохраняется в текущей форме. Поэтому предлагалось немедленно распустить Командование ООН, вывести иностранные войска под флагом организации и заменить перемирие полноценным мирным соглашением между всеми «действительными» 20сторонами, приняв меры для прекращения наращивания вооружений обеими Кореями21. По итогам состоявшегося голосования обе резолюции были приняты. Проамериканский проект поддержало 59 против 51 страны при 29 воздержавшихся. За второй вариант резолюции было отдано 54 голоса против 43 при 42 воздержавшихся22. По мнению властей КНДР, успех второго проекта стал прямым следствием ее вступления в Движение неприсоединения. Сама сессия Генассамблеи ООН была охарактеризована в северокорейской печати как «кульминация политической схватки между прогрессом и реакцией в тридцатилетней истории ООН»23.
Американцы восприняли факт принятия второй резолюции как показатель того, что даже многие дружественные США страны желают роспуска Командования ООН. Отдел по международной безопасности минобороны США подготовил отчет, в котором еще раз подчеркнул необходимость сохранения в руках Вашингтона этого или аналогичного по функциям инструмента в целях сохранения оперативного контроля над южнокорейской армией без потери лица Сеулом. При этом пространство для маневра существенно сужалось из-за непопулярности репрессивного режима Пак Чон Хи в глазах общественного мнения и Конгресса США. Обсуждение принципов организации потенциального объединенного командования неизбежно столкнулось бы с существенными проблемами. В этих условиях министерство обороны выступало против роспуска Командования ООН до тех пор, пока новые механизмы военной организации на полуострове не начнут работать24.
Создавать их предстояло администрации нового американского президента Дж. Картера. В 1976 г. на юге Кореи внимательно наблюдали за его предвыборной кампанией, одним из пунктов которой было сокращение американского военного контингента в Корее. Южане с тревогой отмечали, что среди прочего эти планы неизбежно спровоцируют новые пересуды о роли Командования ООН и статусе соглашения о перемирии25. В январе 1977 г., уже после избрания Картера, в южнокорейском правительстве отмечали, что роспуск Командования ООН означал бы аннулирование режима перемирия и привел бы к исчезновению институтов поддержания мира на полуострове. Поскольку эта перспектива казалась вполне реальной, южане стали задумываться о форсировании заключения договора о ненападении с северянами26. В то же время базовой стратегией южан оставалась защита существующих условий режима перемирия27. Последняя задача стала особенно актуальной на фоне нового обострения обстановки на Корейском полуострове после так называемого инцидента «с убийством топором», произошедшего 18 августа 1976 г.28 Одним из следствий этой трагедии стала приостановка работы прямой телефонной линии Пхеньян – Сеул29.
В то же время конференция неприсоединившихся стран в Коломбо в августе 1976 г. стала значительным успехом северокорейской дипломатии. В ходе нее северяне подчеркнуто выступали против роли великих держав в международных отношениях и корейском вопросе. По оценкам советского посольства в КНДР, северяне получили максимально возможную международную поддержку перед грядущей сессией Генассамблеи ООН30. Однако, вопреки усилиям северян, в 1976 г. американцам удалось добиться снятия вопроса о Корее с рассмотрения в ООН. Южной Кореей это было воспринято как собственный успех31.
В это время в США происходила проработка условий вывода американских войск с территории полуострова, а также новых форматов руководства сохраняющегося объединенного контингента32. Южане пытались влиять на этот процесс, предлагая создать комбинированную структуру, в которой они обладали бы большими, чем сейчас, возможностями влиять на процесс принятия военных решений. В условиях запланированного вывода войск американцы были готовы пойти на это. Однако приоритетом для Вашингтона оставалось сохранение оперативного контроля, который осуществлял бы американский командующий над южнокорейской армией.
В Госдепартаменте считали, что оптимальным решением будет создание объединенного американо-южнокорейского командования, которое подчинялось бы американскому генералу – командующему войсками ООН. Новый орган позволил бы южанам набраться необходимого командного опыта под контролем американцев. Конкретные условия формирования объединенного командования должны были определиться в ходе переговоров и с учетом мнения Конгресса США. Таким образом, несмотря на планы реорганизации верхнего звена цепи управления войсками, американцы стремились сохранить Командование ООН в качестве инструмента своей политики в регионе. Впрочем, конкретное решение должно было быть принято исходя из международных условий 1978–1981 гг. и в зависимости от результатов осуществления планов вывода американских войск из Кореи33.
В конце мая 1977 г. эти планы были согласованы с Пак Чон Хи. Объединенное командование должно было появиться до конца 1978 г. Американский генерал оставался командующим силами союзников до тех пор, пока костяк Второй пехотной дивизии США оставался на полуострове34. В Пхеньяне эти известия были восприняты с тревогой.
На встрече глав дипломатических ведомств США и КНР в конце лета данный вопрос был поднят. Американцы заявили о своей готовности обсуждать будущее Командования ООН, но только «в конструктивном ключе». Под этим подразумевалось одновременное вступление КНДР и РК в ООН и четырехсторонняя работа над условиями поддержания мира на полуострове. Таким образом, – и это прекрасно понимали в КНР – речь вновь шла о целенаправленном фиксировании сложившегося на полуострове положения с одновременным снижением сопутствующих издержек США. В этих условиях американские предложения не могли встретить сочувственного отношения у стран социалистического лагеря, которые продолжали настаивать на роспуске Командования ООН и выводе с территории полуострова иностранных войск35.
На фоне провала переговоров c КНР в ноябре 1978 г. начало свою работу Командование объединенными силами США и Республики Корея36. Командование ООН при этом продолжило функционировать. Его сотрудники стали больше внимания уделять дипломатической стороне дела и обеспечению режима перемирия, в то время как военные задачи постепенно переходили к руководству объединенными американо-южнокорейскими силами.
В период правления администрации Картера большее значение приобрели дипломатические меры обеспечения стабильности на Корейском полуострове. Американцы рассматривали поддержку конструктивного межкорейского диалога в качестве их необходимой составляющей37. Но попытки Вашингтона способствовать развитию этого процесса наталкивались на сопротивление Пхеньяна, в этот период настаивавшего на необходимости прямых американо-северокорейских переговоров38. Северяне реализовывали собственную стратегию объединения страны и настойчиво стремились организовать общекорейскую политическую конференцию, а затем двигаться к созданию единого конфедеративного государства. В посольстве СССР в КНДР отмечали, что таким путем Пхеньян пытался перехватить инициативу в рамках межкорейского диалога, утраченную северянами после инцидента «с убийством топором»39.
С точки зрения американцев, эти предложения имели лишь ограниченное значение. Советник Картера по национальной безопасности З. Бжезинский отмечал, что Пхеньян уже пять лет пытается претворять этот курс в жизнь. Первоначально предложения северян включали безусловное приглашение южнокорейских властей к участию в потенциальной конференции. Однако теперь в Пхеньяне выдвигали сразу несколько предварительных условий, которые делали участие Сеула в мероприятии невозможным. В частности, среди них значились отказ от антикоммунизма и прекращение преследований проживающих на Юге «патриотов».
Таким образом, «новая» инициатива северян была лишь попыткой ответа на предложение Пак Чон Хи от 12 января 1977 г. о заключении межкорейского пакта о ненападении, а северокорейцы по-прежнему избегали прямого диалога с Югом, настаивая на проведении прямых американо-северокорейских переговоров40. По мнению Бжезинского, в этих условиях рассчитывать на реальное снижение уровня напряженности на полуострове было нельзя41. Максимум, на который были готовы идти американцы, это ведение переговоров в формате 2+2 – межкорейский диалог при участии КНР и США в качестве наблюдателей. Этот подход был перенят командой Картера у предыдущей администрации42.
Южная Корея заявляла о неконструктивности подходов Севера, нежелании отвечать на инициативы Юга при выражении готовности возобновить двусторонние контакты. Однако, согласно южанам, шансы на объединение были крайне малы, и Сеул поддерживал американскую идею об одновременном вступлении двух Корей в ООН43.
Таким образом, Север оставался единственной силой в регионе, всерьез заинтересованной в восстановлении единства Кореи, но только на своих условиях44. Эти планы были трудноосуществимы, как считали американцы, и СССР, и КНР ставили хорошие отношения с Японией и США выше националистических амбиций КНДР. Сохранялась и непримиримость Севера в отношении режима Пак Чон Хи45. В ЦРУ отмечали, что нарушение status quo на полуострове, неизбежное после вывода американских войск, вызовет беспокойство и в Москве, и в Пекине.
Характерно, что эти выводы расходились с официальными заявлениями китайских властей, которые постоянно подчеркивали недопустимость любых шагов, направленных на закрепление раскола Кореи. Как и раньше, в США связывали эту позицию с непрекращающейся борьбой Пекина и Москвы за влияние на Пхеньян46. Как отмечали в румынском МИД, СССР в этот период стремился убедить северян, что слова китайцев расходятся с делом и на самом деле те пытаются лишь закрепить американское присутствие в регионе. Впрочем, в КНДР не видели доказательств в поддержку этих обвинений47.
В посольстве СССР в Пхеньяне отмечали, что северяне демонстрируют стремление к смягчению межкорейской напряженности и разрядке, что производило благоприятное впечатление на партнеров КНДР на международной арене. Кроме того, на Севере заняли выжидательную позицию в отношении администрации Картера, стараясь не только избегать резкой критики в ее адрес, но и создавать условия для прямых контактов Пхеньян – Вашингтон48.
План президента Картера по выводу из Кореи американских войск не воплотился, что вызвало сожаление у северян49. Однако вскоре наметилось возрождение межкорейского взаимодействия. 19 января 1979 г. Пак Чон Хи призвал Пхеньян к возобновлению двусторонних контактов «в любом месте, в любое время и на любом уровне». Контрпредложение северян включало организацию общенационального конгресса, в работе которого приняли бы участие представители большинства политических партий и организаций со всей Кореи, а также представители корейских общин за рубежом – Пхеньян добивался возможности легально работать с южнокорейской оппозицией. Подготовкой этой конференции должен был заняться Подготовительный комитет национального объединения с широким представительством – предполагалось, что новый орган придет на смену Координационному комитету Севера и Юга50. Кроме того, предложения Севера включали в себя меры по остановке импорта вооружений на территорию полуострова (в условиях относительного военного превосходства северян51). В ответ южане выдвинули идею «предварительной встречи» между уполномоченными представителями власти.
Американцы не видели в этом показателей смены фундаментальных факторов раскола Кореи. Но они считали, что события января 1979 г. демонстрируют, что и Сеул, и Пхеньян заинтересованы в возобновлении контактов в той или иной форме52.
Так или иначе, полностью повторять опыт имевших место в предшествующие годы двусторонних контактов Пхеньян не захотел. Однако КНДР и РК сумели договориться о повторном подтверждении ключевых пунктов Совместного коммюнике от 4 июля 1972 г.53 , а также прекращении грубой взаимной критики и военных провокаций. Были приняты меры по налаживанию контактов в области спорта. Наконец, северяне согласились на рабочие контакты с южанами, но участвовать в них должны были представители партий и других политических и общественных организаций, что не устраивало южан, настаивавших на диалоге официальных представителей правительств54.
17 февраля 1979 г. в Пханмунджоме состоялась первая встреча между представителями Севера и Юга. Предварительный компромисс между двумя платформами был найден в увеличении членов делегаций за счет представителей политических организаций. В посольстве США в Сеуле считали, что Пхеньян может использовать дипломатические методы для того, чтобы подстегнуть вывод американских войск из Кореи и ослабить сплоченность антикоммунистических сил Юга. В администрации Пак Чон Хи также допускали, что истинным мотивом КНДР может являться стремление создать условия для начала прямого американо-северокорейского диалога. Сами южане, однако, рассчитывали на достижение договоренностей «в германском стиле» – на основе взаимного признания, выработки нового, стабильного modus vivendi и дальнейшего развития двусторонних контактов55. Американцы в любом случае признавали целесообразность продолжения переговоров, тем более что, по наблюдениям южан, он развивался в более теплой атмосфере, чем ожидалось56. В Институте востоковедения АН СССР указывали на прагматизм Пхеньяна, который стал использовать корейский национализм в качестве тактического инструмента.
По мнению экспертов, важным, если не решающим, побудительным мотивом для северян являлась попытка создания необходимых условий для исполнения Картером своих обещаний о выводе из Кореи американских войск. Оставалась открытой дверь и для сепаратных переговоров с США. Мотивы Юга, в свою очередь, были связаны с попыткой обеспечения условий для дальнейшего наращивания собственных экономического и военного потенциалов, а также укрепления экономических отношений с КНР.
Советские эксперты считали, что воссоединение Кореи не является практически реальным. Характерно, что американские аналитики в этот период также озвучивали тезис о необходимости легализации двух Корей по типу двух Германий57. Реальность подтвердила прогнозы советских историков – в последующие недели существенного прорыва в межкорейских переговорах так и не было достигнуто. Довольно быстро диалог и вовсе зашел в тупик58.
Летом 1979 г. Вашингтон выступил с новыми дипломатическими инициативами. В июне, в преддверии официального визита Дж. Картера в Республику Корея, американцы предложили провести трехсторонние переговоры между КНДР, США и РК. Инициатива была настороженно воспринята южанами, которые посчитали, что такие переговоры могут создать иллюзию слабости их стороны и спровоцировать ложные надежды внутри Южной Кореи. Кроме того, эта идея могла быть воспринята как сигнал, снимающий барьеры на пути установления и развития отношений КНДР с союзниками США59.
Тем не менее в Сеуле было принято решение пойти навстречу пожеланиям американцев, и 1 июля 1979 г. Картер и Пак Чон Хи выпустили совместное коммюнике, в котором пригласили Север на трехсторонние переговоры. Впрочем, это предложение было отвергнуто северянами60. В конце июня те, пытаясь демонстрировать гибкость, сделали заявление, что на определенном этапе Южная Корея может быть привлечена к переговорам КНДР с США, если Сеул кардинально изменит свою позицию по вопросу о выводе иностранных войск61. Однако, не получив желаемого ответа, Пхеньян продолжал настаивать, что проблема объединения страны касалась только самих корейцев, а условия мирного договора должны обсуждать только Пхеньян и Вашингтон. Американская идея была охарактеризована как «еще один лукавый трюк для легализации существования двух Корей». Стоит отметить, что сходные оценки предложению Картера давало и посольство СССР в КНДР. Тем не менее дипломаты указывали на значимость факта первого прямого официального обращения США к КНДР, что могло быть шагом на пути к прямым переговорам62.
В любом случае, максимум уступок, на который были готовы идти северяне, заключался в допуске южан на американо-северокорейские переговоры в качестве наблюдателей. Это предложение, в свою очередь, было неприемлемо для Сеула63. В дальнейшем американцы пытались найти путь для возобновления межкорейского диалога, всячески подчеркивая, что предложение о проведении трехсторонних переговоров остается в силе.
Свои услуги в качестве посредника пытался оказывать и генеральный секретарь ООН К. Вальдхайм. Еще в начале мая 1979 г. он поочередно посетил Северную и Южную Корею и встретился с Ким Ир Сеном и Пак Чон Хи, пытаясь вновь усадить стороны за стол переговоров. И тот и другой корейский лидер высказали свою заинтересованность в сохранении мира на Корейском полуострове, но остались при своем мнении. Ким Ир Сен настаивал на необходимости недопущения закрепления раскола Кореи, Пак предлагал формулу одновременного вступления двух Корей в ООН64. В посольстве СССР в КНДР восприняли визиты Вальдхайма как ознакомительные. Советские дипломаты отмечали, что ни та ни другая сторона не нуждалась в услугах посредника. Все же можно говорить о положительном значении визита генсека ООН, так как до него КНДР отвергала все попытки организации направить на Север представителей для консультаций по корейскому вопросу65.
Вальдхайм, однако, не прекращал попыток добиться прогресса в межкорейских отношениях. В конце июля 1979 г. он предложил северокорейскому представителю при организации провести в его присутствии неформальную встречу с главой делегации США. В ходе мероприятия к ним должен был присоединиться делегат Южной Кореи. Эта идея была воспринята сдержанно, но не была отвергнута сразу. Торпедировали предложение американцы после консультаций с южанами – с их точки зрения даже пятиминутный разговор с северянами в отсутствие южнокорейских союзников имел важное символическое значение. Северяне, со своей стороны, считали, что реализация предложений Вальдхайма о возобновлении переговоров приведет лишь к цементированию раскола Кореи и требовали предоставления возможности ведения диалога не только с представителями режима Пака, но и с иными общественными силами Юга66.
Интересно, что в этот период Вашингтон попытался выйти на Москву и Пекин, доводя до их сведения свою готовность смягчить политику дистанцирования от контактов с северокорейцами при условии симметричных шагов со стороны КНР и СССР в отношении Юга. Содержательного ответа на эту идею американцы не получили. Единственным форматом межкорейского взаимодействия оставались переговоры представителей Красного Креста обеих Корей. Однако и здесь Пхеньян не отреагировал на южнокорейское предложение об их возобновлении67.
После убийства Пак Чон Хи в октябре 1979 г. и прихода к власти Чхве Гю Ха межкорейские переговоры вновь возобновились. Новый южнокорейский президент заявил о стремлении активизировать поддержку процесса мирного объединения страны68. С точки зрения Ким Ир Сена, новые политические условия на Юге также располагали к возобновлению попыток поиска платформы для восстановления единства Кореи мирными способами69. В январе 1980 г. северокорейцы предложили восстановить горячую линию между Сеулом и Пхеньяном, а также выступили с инициативой проведения прямых переговоров на уровне глав правительств. По мнению посольства СССР в КНДР, одной из целей могла быть попытка Севера сохранить за собой инициативу в обсуждении корейского вопроса и предотвратить возможный сговор США, Японии и КНР за его спиной. Данные опасения были подстегнуты состоявшимися в начале 1980 г. визитами в КНР японского премьер-министра М. Охиры и министра обороны США Г. Брауна. Еще одной мотивацией для северян могла быть попытка влияния на внутриполитические процессы нестабильного в этот период Юга. Советские дипломаты указывали, что к середине марта 1980 г. и Север, и Юг демонстрировали свою готовность идти на компромиссы. В посольстве СССР в КНДР оценивали как довольно высокие шансы на организацию встречи глав правительств. По мнению первого секретаря посольства СССР в КНДР К. Костюнина, это отвечало интересам Москвы с точки зрения ослабления военно-политической напряженности в Корее. Однако межкорейский диалог повышал риск того, что «враждебные социализму силы» попытаются использовать его для усиления северокорейского национализма и дальнейшего отрыва Севера от социалистического лагеря70.
На фоне развития межкорейского диалога северянам удалось достичь определенных подвижек и в развитии двусторонних отношений с США. Значимым событием середины 1980 г. стал визит в КНДР конгрессмена США от штата Нью-Йорк демократа С. Соларза. Поездка американца состоялась с 15 по 19 июля и стала первым за 30 лет визитом американского государственного деятеля в КНДР. Заметных результатов поездка не принесла, однако сама по себе она знаменовала новый этап в межгосударственных отношениях, связанный с прямыми двусторонними контактами по инициативе Севера и свободным обменом мнениями по ключевым вопросам71.
По сути, визит Соларза положил начало процессу наведения мостов между двумя странами. За ним последовали поездки в КНДР бывшего специального представителя Госдепартамента США Т. Рестона (2–9 сентября 1980 г.), председателя комитета по изучению Азии в США Син Рин Соба (27 октября – 2 ноября 1980 г.), группы корейских резидентов в США во главе с профессором Коппинского университета в Мериленде Ким Гван Хуном (29 июля – 19 августа 1980 г.), делегации Общества друзей в США во главе с С. Серманом (2–13 сентября 1980 г.)72.
В рамках межкорейского диалога обсуждение рабочих моментов продолжалось в Пханмунджоме вплоть до сентября. Диалог был прерван по инициативе Севера в связи с нестабильной политической ситуацией на Юге – северяне не желали вести переговоры с установленным в начале сентября режимом Чон Ду Хвана73.
Последней в 1980 г. значимой инициативой в деле объединения Кореи стала конкретизация в октябре Ким Ир Сеном методов создания предложенной в 1973 г. Конфедеративной Республики Кореи. Северокорейский лидер заявил, что единство страны можно восстановить через создание общенационального правительства. При этом предполагалось, что Север и Юг сохранят региональную автономию и возьмут на себя обязательства признать и терпимо относиться к политическим системам и идеологии друг друга.
Характерно, что северяне не признавали действующее правительство Юга и его конституционную систему Юсин в качестве подходящего партнера для создания конфедерации. В Москве считали, что северяне все более разочаровывались в перспективах революционных перемен на Юге и считали объективной тенденцию к закреплению ситуации сосуществования двух корейских государств74. Кроме того, в «свободном мире» обращали внимание на «неопределенность облика потенциального переходного процесса»75. Параллельно Пхеньян продолжал попытки установления двусторонних контактов с американцами, используя для этого посредничество И.Б. Тито. Курс США, однако, оставался неизменным, и Вашингтон дистанцировался от любых попыток выйти на него за спиной южнокорейцев76.
На фоне отказа американцев от своих планов по выводу американских войск с территории полуострова, первоначально декларировавшихся администрацией Картера77, эти события оказывали слабое влияние на курс инерционно к этому времени развивающейся корейской политики США78.
В целом, в течение 1974–1980 гг. американцы не сократили своего военного присутствия в Корее. В то же время дипломатическое сопровождение переговоров на эту тему и участие в поддержании межкорейского диалога по вопросам статуса РК и КНДР в ООН и сценариев потенциального объединения страны были в достаточной степени эффективными. Американцам удалось не допустить дестабилизации ситуации на юге Кореи даже в условиях внезапной смены власти после убийства Пак Чон Хи. Параллельно были созданы необходимые международные структуры, такие как Командование объединенными силами США и Республики Корея. Более того, американские дипломаты сумели добиться сохранения даже такого реликта Корейской войны, как Командование ООН. В США осознавали, что КНДР являлась единственной серьезной силой в регионе, заинтересованной в восстановлении единства страны. Однако американцы были уверены, что Пхеньян готов к диалогу только до тех пор, пока переговорный процесс провоцирует беспорядки на Юге и сеет недовольство политикой США в мире. В свою очередь, южнокорейские заявления на эту тему расценивались как пустые слова, годные лишь для умиротворения общественного мнения Юга. В этих условиях объединение было невозможно достичь одними лишь дипломатическими методами, и данная проблема сохраняла свою актуальность для США лишь как потенциальный источник напряжения в регионе.
1 Foreign Relations of the United States. 1969–1976 (далее – FRUS). Vol. E-12. Washington (DC), 2010. Doc. 241, 248; Doc. 249. P. 33.
2 См. например: Rosenberg W. Korea and Reunification // New Zealand International Review. 1977. Vol. 2. № 1. P. 30–31;Young C. Kim North Korea in 1980: The Son also Rises // Asian Survey. 1981. Vol. 21. № 1. P. 112–124; Manwoo Lee. Is North Korea Changing Course? // Asian Perspective. 1985. Vol. 9. № 1. P. 1–23; Koh B. North Korea’s Unification Policy: An Assessment // Asian Perspective. 1986. Vol. 10. № 1. P. 20–38; Han-Kyo Kim. South Korea’s Unification Policies: a Reassessment // Ibid. P. 3–19; Солин Д.В. Эволюция подходов к объединению Севера и Юга Корейского полуострова в 1950–1990-е гг. // Вестник Московского государственного лингвистического университета. 2011. № 608. С. 125–141; Хамутаева С.В. Проблема объединения Кореи в историографии КНДР. «Концепция конфедерализма» // Вестник бурятского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. 2011. № 4. С. 212–219; Yafeng Xia, Zhihua Shen. China’s Last Ally // Diplomatic History. 2014. Vol. 38. № 5. P. 1083–1113; Ланцова И.С., Ланко Д.А. Внутренние и международные факторы отношений между двумя корейскими государствами в 50–80-е годы XX века // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2017. Т. 6. № 1. С. 248–254; Василькова В.А. Причины срыва разрядки международной напряженности на Корейском полуострове // Россия и Америка в XXI веке. 2019. № 3. URL: https://rusus.jes.su/s207054760004930–0–1/ (дата обращения: 14.02.2023).
3 FRUS. Doc. 249. P. 31–34; Doc. 251.
4 Подписанный в 1972 г. руководством КНР и США документ, задавший рамки дальнейшего взаимодействия двух государств. Среди прочего в нем декларировался принцип «одного Китая».
5 Впоследствии северяне отклонили это предложение.
6 FRUS. Doc. 252, 253; The Carter Chill: US-ROK-DPRK Trilateral Relations, 1976–1979. Washington (DC), 2013. P. 511.
7 FRUS. Doc. 254.
8 Российский государственный архив новейшей истории (далее – РГАНИ). Ф. 5. Оп. 68. Д. 1868. Л. 8; Question of Korea. UN. General Assembly (29th sess.: 1974–1975) // URL: https://www.un.org/ru/ga/29/docs/29res.shtml (дата обращения: 14.02.2023).
9 См. подробнее: Krishnan R. North Korea and the Non-Aligned Movement // International Studies. 1981. Vol. 20. Iss. 1–2. P. 299–313.
10 Архив внешней политики Российской Федерации (далее – АВП РФ). Ф. 0102. Оп. 32. П. 137. Д. 17. Л. 62.
11 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 73. Д. 1505. Л. 18, 28.
12 АВП РФ. Ф. 0102. Оп. 32. П. 137. Д. 17. Л. 23, 25–26, 127.
13 FRUS. Doc. 265. P. 3; Doc. 266. P. 3.
14 FRUS. Doc. 266. Р. 6.
15 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 68. Д. 1867. Л. 20.
16 АВП РФ. Ф. 102. Оп. 36. П. 77. Д. 21. Л. 83.
17 Letter, John Scali to the President of the Security Council. 1975. June, 27 // Wilson Center Digital Archive. URL: https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/117542 (дата обращения: 14.02.2023); Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Резолюции 30-й сессии (1975). A/RES/3390 (XXX). 18 ноября 1975 года. Корейский вопрос // URL: https://www.un.org/ru/ga/30/docs/30res.shtml (дата обращения: 13.02.2023).
18 FRUS. Doc. 269. P. 1–7.
19 General Assambly, 30th session: 2409th plenary meeting, 18 November 1975 New York // URL: https://digitallibrary.un.org/record/745313 (дата обращения: 13.02.2023).
20 Теми странами, которые участвовали в подписании соглашения о перемирии – США, КНР и КНДР, но не Республикой Корея.
21 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Резолюции 29-й сессии (1975). A/RES/3333 (XXIX). 17 декабря 1974 года. Корейский вопрос // URL: https://www.un.org/ru/ga/30/docs/30res.shtml (дата обращения: 13.02.2023).
22 General Assambly, 30th session: 2409th plenary meeting.
23 АВП РФ. Ф. 0102. Оп. 32. П. 137. Д. 17. Л. 127, 130.
24 FRUS. Doc. 274. P. 2–3.
25 The Carter Chill. P. 20–21.
26 Ibid. P. 33.
27 Ibid. P. 90–91.
28 Группа северокорейских солдат напала на американских военнослужащих, собиравшихся произвести обрезку ветвей дерева, растущего в Объединенной зоне безопасности (район 38-й параллели) и мешавшего обзору с наблюдательного пункта США. Жертвами инцидента стало два американских офицера. См. подробнее: Садаков Д.А. Реакция США на инцидент с убийством топором в Корейской ДМЗ, 1976 г. // Американистика: актуальные подходы и современные исследования. Вып. XIV. Курск, 2022.
29 The Carter Chill. P. 472.
30 АВП РФ. Ф. 0102. Оп. 32. П. 137. Д. 17. Л. 184–186, 196.
31 Там же. Л. 232.
32 The Carter Chill. P. 99–100.
33 Ibid. P. 124–125, 128, 153.
34 Ibid. P. 153, 154.
35 Ibid. P. 216, 233–234, 407.
36 United Nations Command > History > Post-1953: Evolution of UNC // URL: https://www.unc.mil/History/Post-1953-Evolution-of-UNC/ (дата обращения: 14.02.2023); The Carter Chill. P. 427.
37 The Carter Chill. P. 71.
38 Ibid. P. 52.
39 Ibid. P. 13, 80; РГАНИ. Ф. 5. Оп. 73. Д. 1505. Л. 1.
40 Telegram 085099 from the Romanian Embassy in Pyongyang to the Romanian Ministry of Foreign Affairs. 1977. Aug., 18 // Wilson Center Digital Archive. URL: https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/114878 (дата обращения: 14.02.2023).
41 Carter Chill. P. 80–81.
42 Ibid. P. 16–17, 88.
43 Ibid. P. 241, 279.
44 Ibid. P. 109.
45 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 73. Д. 1505. Л. 14.
46 Carter Chill. P. 114, 235, 339.
47 Ibid. P. 423.
48 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 73. Д. 1505. Л. 7–8, 13.
49 Carter Chill. P. 314.
50 АВП РФ. Ф. 0102. Оп. 35. П. 145. Д. 18. Л. 67–68; Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. Р-4459. Оп. 43. Д. 21371. Л. 3–10.
51 См. Carter Chill. P. 315.
52 Ibid. P. 437, 443, 444, 450–452, 461–462; Korea’s Role for Peace and Stability // Korean Newsletter. 1979. Vol. II. № 11. P. 7.
53 Данное коммюнике стало значительным успехом в рамках межкорейского диалога. В нем декларировались ключевые принципы, на основе которых могло быть достигнуто объединение страны. Речь шла о независимости этого процесса от внешнего вмешательства, достижении единства мирными способами и необходимости преодоления различий между системами.
54 Carter Chill. P. 454, 463; РГАНИ. Ф. 5. Оп. 76. Д. 961. Л. 3.
55 Carter Chill. P. 494, 502.
56 Ibid. P. 476, 482.
57 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 76. Д. 961. Л. 5–6, 8, 11; Ф. 89. Оп. 76. Д. 8. Л. 6.
58 Carter Chill. P. 484, 512; Saxon W. History of Talks Between Koreas // The New York Times. 1.VII.1979. P. 12.
59 Carter Chill. P. 555, 560–562.
60 Note for the File: Meeting with Ambassador Han Si Hae (DPRK) on 1 June 1979. 1979. June, 5 // Wilson Center Digital Archive. URL: https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/119190 (дата обращения: 14.02.2023).
61 АВП РФ. Ф. 0102. Оп. 35. П. 145. Д. 18. Л. 96.
62 Там же. Ф. 102. Оп. 39. П. 87. Д. 24. Л. 21, 97.
63 President Carter’s Visit to South Korea – Proposal for Tripartite Talks rejected by North Korea // Keesing’s Record of World Events. 1979. Vol. 25. P. 29799; Carter Chill. P. 628–629, 642–643, 665.
64 АВП РФ. Ф. 0102. Оп. 35. П. 145. Д. 18. Л. 68–69; ГАРФ. Ф. Р-4459. Оп. 43. Д. 21371. Л. 89.
65 АВП РФ. Ф. 0102. Оп. 35. П. 145. Д. 18. Л. 70.
66 Carter Chill. P. XV, 495–496, 662, 666–667, 671–672.
67 Ibid. P. 666–667, 671–672.
68 Inaugural Address of President Choi Kyu Hah Following is the Official Translation of The Inaugural Address Delivered by President of The Republic of Korea Choi Kyu Hah on December 21, 1979 // WikiLeaks. URL: https://wikileaks.org/plusd/cables/1979SEOUL19198_e.html (дата обращения: 14.02.2023).
69 Tito Letter to the President. 1979. Dec., 14. // WikiLeaks. URL: https://wikileaks.org/plusd/cables/1979STATE322291_e.html (дата обращения: 14.02.2023); РГАНИ. Ф. 5. Оп. 76. Д. 958. Л. 15.
70 АВП РФ. Ф. 0102. Оп. 36. П. 148. Д. 17. Л. 2, 26–32, 53, 55; ГАРФ. Ф. Р-4459. Оп. 43. Д. 21371. Л. 136–137.
71 АВП РФ. Ф. 0102. Оп. 36. П. 148. Д. 17. Л. 97–99.
72 Там же. Л. 139–141.
73 Чон Ду Хван пришел к власти, победив на выборах, на которых он являлся единственным кандидатом. В значительной степени он пытался продолжать курс Пак Чон Хи на построение сильной авторитарной центральной власти. См. также: Han-Kyo Kim. Op. cit. P. 9.
74 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 76. Д. 958. Л. 19.
75 Young C. Op. cit. P. 115–117; Koh B. Op. cit. P. 21.
76 Manwoo Lee. Op. cit. P. 15.
77 US Troop Withdrawals from Korea // The Department of State Bulletin. 1979. № 2030. P. 37–38.
78 Prospects for The Inter-Korean Dialogue. 1980. Nov., 7 // CIA FOIA. URL: https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp85t00287r000102580002–6 (дата обращения: 14.02.2023); Reflections on Reunification. 1982. March, 3 // CIA FOIA. P. 1. URL: https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp83b00551r000200020022–2 (дата обращения: 14.02.2023).
About the authors
Denis А. Sadakov
Vyatka State University
Author for correspondence.
Email: rstk2005@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-4308-7276
кандидат исторических наук
Russian Federation, KirovReferences
- Khamutaeva S.V. Problema ob‘edineniia Korei v istoriografii KNDR. “Kontseptsiia konfederalizma” [The problem of Korean unification in DPRK historiography. “The Concept of Confederalism”] // Vestnik buriatskogo nauchnogo tsentra Sibirskogo otdeleniia Rossiiskoi akademii nauk [The Bulletin of the Buryat Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences]. 2011. № 4. S. 212–219. (In Russ.)
- Lantsova I.S., Lanko D.A. Vnutrennie i mezhdunarodnye faktory otnoshenii mezhdu dvumia koreiskimi gosudarstvami v 50–80-e gody XX veka [Domestic and international factors of relations between the two Korean states in the 50s and 80s of the 20th century] // Azimut nauchnykh issledovanii: ekonomika i upravlenie [Azimuth of Scientific Research: Economics and Management]. 2017. T. 6. № 1. S. 248–254. (In Russ.)
- Sadakov D.A. Reaktsiia SShA na intsident s ubiistvom toporom v Koreiskoi DMZ, 1976 g. [US Response to the 1976 Axe Murder Incident at the Korean Demilitarized Zone] // Amerikanistika: aktual’nye podkhody i sovremennye issledovaniia [American Studies: Current Approaches and Contemporary Research]. Vyp. XIV. Kursk, 2022. (In Russ.)
- Solin D.V. Evoliutsiia podkhodov k ob‘edineniiu Severa i Iuga Koreiskogo poluostrova v 1950–1990-e gg. [The Evolution of Approaches to the Unification of the North and the South of the Korean Peninsula in the 1950s and 1990s] // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta [Vestnik of Moscow State Linguistic University]. 2011. № 608. S. 125–141. (In Russ.)
- Vasil’kova V.A. Prichiny sryva razriadki mezhdunarodnoi napriazhennosti na Koreiskom poluostrove [Reasons for disrupting detente on the Korean Peninsula] // Rossiia i Amerika v XXI veke [Russia and America in the 21th century]. 2019. № 3. URL: https://rusus.jes.su/s207054760004930-0-1/ (accesses date: 14.02.2023). (In Russ.)
- Han-Kyo Kim. South Korea’s Unification Policies: a Reassessment // Asian Perspective. 1986. Vol. 10. № 1. P. 3–19.
- Koh B. North Korea’s Unification Policy: An Assessment // Asian Perspective. 1986. Vol. 10. № 1. P. 20–38.
- Krishnan R. North Korea and the Non-Aligned Movement // International Studies. 1981. Vol. 20. Iss. 1–2. P. 299–313.
- Manwoo Lee. Is North Korea Changing Course? // Asian Perspective. 1985. Vol. 9. № 1. P. 1–23.
- Rosenberg W. Korea and Reunification // New Zealand International Review. 1977. Vol. 2. № 1. P. 30–31.
- Saxon W. History of Talks Between Koreas // The New York Times. 1.VII.1979.
- Yafeng Xia, Zhihua Shen. China’s Last Ally // Diplomatic History. 2014. Vol. 38. № 5. P. 1083–1113.
- Young C. Kim North Korea in 1980: The Son also Rises // Asian Survey. 1981. Vol. 21. № 1. P. 112–124.
Supplementary files