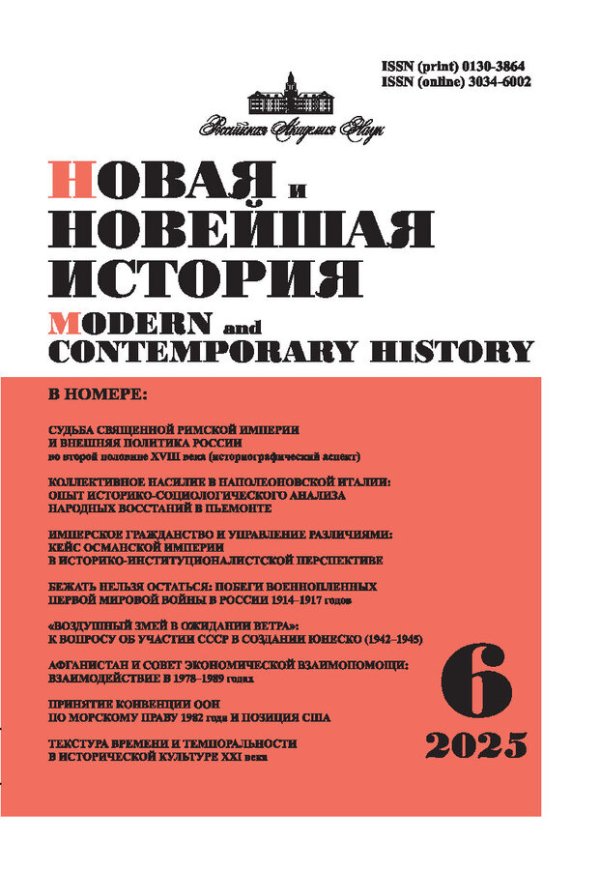Why Did the German Offensive on Kursk Not Take Place in May 1943? New Documents
- Authors: Zamulin V.N.1
-
Affiliations:
- Southwestern State University
- Issue: No 3 (2024)
- Pages: 228-238
- Section: Analysing original documents
- URL: https://journal-vniispk.ru/0130-3864/article/view/259848
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0130386424030175
- ID: 259848
Cite item
Full Text
Abstract
The Battle of Kursk went down in world military history as a key stage in the USSR’s struggle against Nazi Germany. However, the peculiarity of this large-scale event lies not only in this, but also in the unique period of its planning and preparation, which lasted three months, relative to other battles and major battles. During this period only one offensive operation, Operation Citadel, was being developed in Berlin, which was to form the core of the summer campaign. The author analyses documents preserved in the Federal Archives of the Federal Republic of Germany, which reveal the course of the meeting in Munich on May 4, 1943, where the potential of two Wehrmacht strike groups concentrated in the Kursk Bulge area at the end of April 1943 was discussed, successfully implementing the plan of encirclement of Soviet troops in early May 1943, and the opinions expressed by Hitlers, generals and field marshals who were privy to its essence, on this issue. The meeting went down in history as the most important event in the planning process of the 1943 Wehrmacht summer campaign on the Soviet-German front, as it resulted in Hitler making a number of important decisions that, according to some of its participants, significantly influenced its results.
Full Text
Последняя декада апреля и первая декада мая 1943 г. в истории Курской битвы и всей летней кампании в целом занимает особое место. В этот период в Ставке Гитлера, штабе сухопутных войск Германии (ОКХ), а также в штаб-квартирах групп армий (ГА) «Центр» и «Юг» параллельно шли два очень важных процесса. Первый – пополнение войск ударных группировок и сосредоточение их для наступления на Курск (план «Цитадель), которое было намечено на первые числа мая и рассматривалось в качестве ядра летней кампании вермахта на советско-германском фронте. Второй (хотя, возможно, это покажется странным) – процесс выработки общего замысла летней кампании, но без операции «Цитадель». Ключевым событием, которое коренным образом изменило направление этой большой работы, явилось совещание в Мюнхене 4 мая 1943 г. Его результатом стало решение Гитлера провести операцию «Цитадель» не в мае, а в июне. Поводом для переноса даты стало письмо от 24 апреля 1943 г. генерал-полковника В. Моделя, командовавшего 9-й армией, на основе которой была сформирована северная группировка для удара на Курск, о неготовности его войск к операции в начале мая. По мнению некоторых участников тех событий, в частности командующего ГА «Юг» фельдмаршала Э. фон Манштейна, это решение Гитлера фактически привело к провалу «Цитадели»1.
О ходе совещания, его повестке и мнениях участников исследователям впервые стало известно из мемуаров главного инспектора бронетанковых войск вермахта Г. Гудериана 2 и воспоминаний Э. фон Манштейна3. Они были изданы на немецком языке в первой половине 1950-х годов и до настоящего времени для большинства историков являются главным источником информации об этом важнейшем событии, даже для тех, кто активно работал с материалами вермахта и военно-политических структур нацистской Германии, хранящихся в западных архивах, например Э. Клинк, автор первого немецкого фундаментального труда о планировании, подготовке и проведении «Цитадели» на широкой базе архивных источников4.
В мемуарах и генерал, и фельдмаршал неплохо изобразили себя в исторических интерьерах и довольно полно описали то, как боролись против ошибочной точки зрения Гитлера. Однако обсуждение вопросов, касавшихся непосредственно «Цитадели», в них описано довольно скупо, настолько кратко и поверхностно, что порою непонятно даже, кто из ключевых фигур руководства вермахта присутствовал на совещании. Например, Гудериан пишет, что Модель был на нем лично5, а на основе записок Манштейна однозначного вывода сделать невозможно. Поэтому мемуары этих военных деятелей, широко используемые исследователями Курской битвы, как источник ненадежны ввиду своего крайнего субъективизма и не помогают провести добротный анализ даже отдельных, узловых моментов планирования наступления на Курск. Вместе с тем ни протоколов этого совещания, ни каких-либо иных архивных документов, подготовленных по его итогам и заслуживающих доверие специалистов, в настоящее время не опубликовано. Вероятно, поэтому отношение современных западных исследователей к совещанию в Мюнхене неоднозначное. Например, американские ученые Д. Гланц и Д. Хауз в их труде «Курская битва» о нем вообще не упоминают, хотя и отмечают, что наступление, назначенное на 4 мая, Гитлер в последний момент перенес на 12 июня6. А германский исследователь Р. Тёппель в монографии о Курской битве отвел ему меньше страницы7, позиции участников в ней изложены поверхностно и далеко не так, как в мемуарах Э. фон Манштейна и Г. Гудериана, причем автор не уточнил источник этих сведений.
Архивные материалы, ставшие сегодня доступными для историков, показывают, что вся деятельность и решения Гитлера во второй половине апреля 1943 г., это шаги человека, который не был уверен и в необходимости для Германии проведения именно операции «Цитадель», и в возможности реализации ее целей в полном объеме. Поэтому после знакомства с письмом Моделя он хотя и не без колебания, но принял предложение начальника штаба ОКХ генерал-полковника К. Цейцлера остановить выдвижение войск на исходные позиции для начала «Цитадели» в первой декаде мая 1943 г. и обсудить весь комплекс проблем, поднятых в письме, с командованием ГА «Юг» и «Центр» и участниками разработки плана летней кампании. Однако причины этой неуверенности историками до конца пока не изучены.
В Федеральном военном архиве Германии мы обнаружили журнал боевых действий ГА «Юг» за период с 26 марта по 4 июня 1943 г., ранее не вводившийся исследователями в научный оборот. В нем содержатся записи начальника штаба этой ГА генерал-лейтенанта Т. Буссе, присутствовавшего на совещании, о том, как оно было организовано и как проходило обсуждение основных проблем. В настоящее время это единственный выявленный нами документ, в котором в деталях изложены как позиция самого Гитлера, так и мнения собравшихся, а также ответы и реплики Гитлера в ходе дискуссии по ключевым вопросам. Кроме того, он дает возможность взглянуть на процесс выработки стратегического решения на переломном этапе войны изнутри, помогает понять и ситуацию с наличием сил и средств у Германии перед первой датой наступления, и мотивы его отмены.
Как свидетельствуют записи Буссе, за час до начала совещания, в 12:00 (берлинское время) Цейцлер в отдельном помещении, здесь же в Мюнхене, собрал командующих ГА «Юг» и «Центр» и их начальников штабов, чтобы изложить причины, приведшие к нему, и свою позицию по ключевым вопросам с целью заручиться их поддержкой. В начале встречи начальник штаба ОКХ заявил: «Фюрер после доклада генерал-полковника Моделя стал сомневаться, сможет ли наступление пробиться через оборону русских. Главной причиной колебаний фюрера стал план вражеской оборонительной системы перед ударным клином 9А8, имеющей, как говорят, 20 км глубину с узкими траншеями. Для прорыва этой системы обороны генерал-полковник Модель предложил шестидневный план наступления, на основании которого фюрер пришел к выводу, что:
- Сомнительно, чтобы пехота передовых подразделений 9А при запланированной поддержке танковых частей могла бы выполнить задачу.
- При такой продолжительности прорыва, возникает сомнение в возможности для создания “котла” [под Курском]. Есть опасность, что противник, опираясь на сильную оборонительную систему, сможет отвести силы из намечающегося окружения.
Поскольку фюрер настаивает на том, что в свете военной и политической ситуации, эта операция должна стать событием года и принести ощутимые результат, он считает, что надо существенно усилить ударные войска танками и тяжелым вооружением – особенно ГА “Центр”. Поэтому прежде всего встает вопрос о поставке “тигров”, противотанковой защиты для танков Т-IV, “шмелей”9, противотанковых орудий и “фердинандов”10. Поскольку необходимое количество техники можно собрать только к 10 июня 1943 г., фюрер хочет передвинуть операцию. Это его решение поддерживает генерал-полковник Гудериан»11.
Далее Цейцлер изложил свою точку зрения, которая кардинально отличалась от позиции Гитлера, и, что очень важно, не учитывала состояние германских войск под Курском к началу мая. Внимание присутствующих он акцентировал не на готовности советской стороны к отражению сильного удара, как это делал Модель, а на большей вероятности того, что одну из главных проблем вермахта, на которую указывали противники «Цитадели», дефицит боевой техники и вооружения, через месяц решить невозможно, а советская сторона к этому времени сможет настолько усилить оборону, что проведение операции потеряет всякий смысл. «Я против любого переноса начала наступления, – убеждал он собравшихся, – поскольку, даже не говоря о том, что войска уже двинулись вперед, части противостоящего противника используют перенос наступлению в свою пользу. Мы отдаем им наше преимущество – сейчас они еще не готовы нас встретить, и чем раньше мы ударим, тем больше вероятность их разбить и использовать свои оперативные резервы для других целей. Я также очень сомневаюсь, что требуемые поставки танков и техники могут быть осуществлены в указанные сроки. Опыт прошлого говорит об обратном. Кроме того, “фердинанды” страдают от еще большего числа “детских болезней”, т. е. они настолько не доработаны как новая конструкция, что даже Гудериан сомневается, будут ли они к июню готовы к применению»12. В конце своей речи генерал попросил поддержать его точку зрения на встрече у фюрера. Обмена мнениями не предполагалось, поэтому сразу же все присутствующие направились в приемную Гитлера.
Совещание началось в 13:00 и продолжалось примерно четыре часа. По свидетельству начальника штаба ГА «Юг» на него пригласили: К. Цейцлера, Э. фон Манштейна, Т. Буссе, командующего ГА «Центр» фельдмаршала Г. фон Клюге, его начальника штаба генерал-майора Х. фон Эльверфельдта, Г. Гудериана, начальника штаба ВВС Германии генерал-полковника Г. Ешоннека, начальника управления личного состава ОКХ генерал-майора Р. Шмундта и начальника оперативного отдела ОКХ полковника Шерффа13. Г. Гудериан вспоминал, что присутствовал и министр вооружения А. Шпеер14, но архивный документ это не подтверждает. Первым выступал Гитлер, и уже с первых минут собравшимся стало ясно: он сомневается в том, что если войска ГА «Центр» и «Юг» перейдут в наступление на Курск в ближайшее время, то смогут добиться ожидаемого результата. Вот как эта ситуация изложена в журнале боевых действий ГА «Юг» со слов Буссе: «Фюрер в длинной речи высказал причины, по которым хочет передвинуть начало наступления. Основные положения следующие:
- Его очень впечатлили предоставленные генерал-полковником Моделем схемы вражеских укреплений на участке 9А.
- Соотношение сил наводит на раздумья.
- Неудавшееся наступление на Новороссийск показало, что наступательной энергии пехоты для прорыва хорошо укрепленных систем обороны, да еще и против ожесточенно обороняющегося противника, без сильной танковой поддержки недостаточно.
Он подозревает, что с 9А в операции “Цитадель” произойдет то же самое, поскольку 9А собирается атаковать силами пехоты, придержав танковые дивизии. А ГА “Юг” в связи с нехваткой пехотных дивизий вынуждена танковые дивизии ставить в прорыв.
Он подозревает также, что пехоты не хватит, а гренадеры и танки пострадают при первом ударе и будут не в состоянии развить наступление.
Он опасается, что формирование усиления для войск будет окончено только к 10 июня. При этом для проведения “Цитадели” особое значение имеет экономия сил в ходе борьбы с вражескими укрепленными пунктами и очагами сопротивления»15.
Как вспоминал Манштейн, Гитлер планировал за май и первую декаду июня существенно усилить войска под Курском, направив туда все образцы новых танков «тигр», «пантера» и тяжелые самоходки «фердинанд», а главное – увеличить общее количество бронетехники в дивизиях. Речь шла почти об удвоении числа линейных танков и штурмовых орудий.
Затем он детально остановился на поступивших ему в конце апреля двух предложениях.
Первое исходило от Цейцлера: начать операцию в середине мая по уже согласованному плану, опираясь на приказ № 6 от 15 апреля 1943 г. Начальник штаба ОКХ считал, что в ходе нее за счет лучшей подготовки войск и управления ими вермахт понесет меньшие потери и существенно обескровит силы двух советских фронтов на Курской дуге. Это создаст благоприятные условия для обороны на всем Восточном фронте и положительно повлияет на дальнейший ход войны.
Второе предложение, ставшее поводом для проведения этого совещания, внес Модель. С 30 апреля 1943 г. он вновь быль назначен временно исполняющим обязанности командующего ГА «Юг», а потому в отсутствие Манштейна и Клюге в Мюнхен прилететь не мог. Суть его письма от 24 апреля Гитлер подробно пересказал присутствующим и, как вспоминал Гудериан, на его основе делал «совершенно правильный вывод, что противник ожидает от нас именно такого наступления, и чтобы достичь успеха, мы должны либо придумать какую-то совершено новую тактику, либо вообще отказаться от этой идеи»16.
Закончив почти 45-минутную речь, Гитлер попросил командующих обеих групп армий высказать свое мнение по вопросу об отсрочке начала «Цитадели». Против аргументов командующего 9А о большом некомплекте тяжелого вооружения и бронетехники в войсках его армии и возросшей мощи обороны Центрального фронта (это было видно на представленной Моделем аэрофотосъемке), удерживавшего северную часть Курской дуги, возражать было трудно. Поэтому сторонники наступления на Курск, пользуясь тем, что генерал-полковник лично ответить не мог, в своих выступлениях старались уходить от конкретики, выдвигая на первый план возможные негативные последствия затягивания операции и обвиняя Моделя в преувеличении угрозы. В ходе обсуждения постепенно внимание сконцентрировалось на двух проблемах: не готовности войск для столь масштабной операции и на возможном русском наступлении в Донбассе и под Орлом в ближайшее время. Поэтому практически все, кто участвовал в дискуссии, и прежде всего командующие ГА «Центр» и «Юг», останавливались на них.
Точка зрения Манштейна на суть проблем, ставших поводом к совещанию, по мнению некоторых генералов, была не совсем ясной. Такое же впечатление создается и при сравнительном анализе документов ГА «Юг» и текста его мемуаров. Например, Гудериан вспоминал: «Он высказался в том духе, что, начнись наступление в апреле, оно может и удалось бы, а если и вообще начинать его, то надо бы еще пару полностью укомплектованных пехотных дивизий. Гитлер заявил, что у него нет таких дивизий и пусть Манштейн оперирует тем, что есть, после чего вновь повторил вопрос, но внятного ответа не получил»17. Из записи Буссе в журнале боевых действий группы армий: «Генерал-фельдмаршал фон Манштейн сказал примерно следующее: он не может оценить, насколько важна и необходима на основании общей картины с военной и политической точек зрения более ранняя победа на Востоке. Однако силы, имеющиеся у его группы армий, в сравнении с силами противника слабы, особенно пехота. Он считает, что успех от отсрочки будет только в том случае, если до ее окончания удастся предоставить его группе армий дополнительные пехотные дивизии. В деталях:
- По моему мнению, успех на Востоке нужно развить до того, как падет Тунис и Запад откроет второй фронт.
- Ожидание означает повышение рисков на р. Миус – Донецком фронте. Сейчас русские там, вероятно, еще не готовы к наступлению, а в июне точно будут готовы.
- Под вопросом, сможет ли прирост наших сил компенсировать рост боеспособности русских (производство танков за один месяц с русской стороны, повышение морального уровня, оправление от весенних неудач, укрепление их оборонительных позиций).
На это фюрер бросил, что рассчитывать на пехотные дивизии не стоит в любом случае, и акцентировал внимание на том, чтобы в широком смысле заменить пехотные силы танками»18.
Однако в мемуарах фельдмаршал писал, что он выступал за скорейшее начало операции, так как убежден, что перенос наступления ничего немецкой стороне не давал. Во-первых, если отложить его до получения необходимого количества танков и другого вооружения обеими группами армий, а это уже было известно – примерно месяц, советские войска на Курской дуге все равно получат больше бронетехники, чем германские. По данным фельдмаршала, в это время его группа располагала 686 танками и 160 штурмовыми орудиями 19 (хотя в действительности танков было значительно больше: по списку всего – 108720), а советская промышленность давала фронту в месяц не менее 1500 боевых машин. Во-вторых, соединения Красной армии за это время приведут себя в порядок и обретут значительную мощь, в том числе и в моральном отношении. В-третьих, к лету возрастет опасность нанесения русскими удара на Донце и Миусе21. И судя по обнаруженным в германском архиве материалам, это не плод послевоенных размышлений фельдмаршала, а его мнение, к которому он пришел в конце весны 1943 г. Так, согласно документам штаба 9А, еще 3 мая 1943 г. ОКХ сообщило Клюге о том, что Манштейн настаивает на начале проведения «Цитадели» 9 мая22.
Возможно, это покажется странным, но горячим сторонником немедленного начала наступления был и Клюге. Он безоговорочно поддержал Цейцлера и критически отозвался о данных, представленных его подчиненным генерал-полковником Моделем. Буссе отмечал: «Генерал-фельдмаршал фон Клюге однозначно выразился против отсрочки наступления и указал, что данные генерала-полковника Моделя о силе вражеских укреплений, по его мнению, сильно преувеличены. Схема, вызывающая вопросы, описывает большое количество старых укреплений, частично наших с прошлых боевых действий. Он высказал предположение: мы дождемся того, что придется отводить атакующие части, и мы в этом году вообще не нанесем удары. Фюрер возразил на высказывания фельдмаршала фон Клюге, что генерал-полковник Модель в своем докладе был очень оптимистичен, пессимистическую нотку в обсуждение вопроса внес он сам»23.
Вероятно, на точку зрения Клюге повлиял главным образом субъективный фактор – ревность и натянутые личные отношения с Моделем, о которых было известно всем. «Клюге, который явно чувствовал себя обойденным при этом докладе Моделя, – вспоминал Манштейн, – заявил в свойственной ему резкой форме: данные Моделя о том, что глубина позиций противника достигает 20 км преувеличены. На аэрофотоснимках, по его мнению, были зафиксированы только уже развалившиеся от прежних боев окопы. Затем фельдмаршал указал на то, что при дальнейшей отсрочке мы упустим инициативу. Это может привести к тому, что мы будем вынуждены снять части с фронта “Цитадели”. Здесь он имел, вероятно, в виду в первую очередь опасное положение на Орловской дуге»24.
Если судить по воспоминаниям Гудериана, то из всех присутствовавших позицию Моделя поддержал он один. Причем его выступление было наиболее последовательным и аргументированным. Он якобы назвал «Цитадель» бессмысленный затеей и подчеркнул: «Если бы мы сейчас начали наступление по плану Цейцлера, то понесли бы тяжелые потери в танках, которые в течение 1943 г. уже не удалось бы восполнить. Ведь требуется поставка новых танков и на Западный фронт, для мобильных резервов, чтобы можно было бы бросить их против высадки союзников, которая наверняка состоится в 1944 г.»25. Кроме того, Гудериан заявил, что надежды начальника штаба ОКХ на новые танки «пантера» не вполне оправданны. Как любая новая техника, они не лишены серьезных недостатков, исправить которые до начала наступления промышленность не в состоянии.
Однако в журнале боевых действий ГА «Юг» позиция главного инспектора бронетанковых войск вермахта, со слов Буссе, изложена по-иному: «Генерал Гудериан высказался в том ключе, что мы непременно должны сэкономить на живой силе, бросив вперед усиленную материальную часть. Он за то, чтобы собрать максимальное число танковых частей в одном месте или у группы армий “Центр”, или у группы армий “Юг” и ударить с большим превосходством сил. Генерал-полковник Ешоннек дополнил мнение генерала-полковника Гудериана, [сказав,] что ему этот вариант нравится больше, поскольку тогда можно в этом месте сконцентрировать и всю имеющуюся авиацию. Он сообщил, что основная группировка авиации противника на восточном фронте собрана против ГА “Юг”, и скорее всего русская наступательная операция будет проводиться на этом направлении. С точки зрения авиации усиления от отсрочки ждать не стоит. Дополнительно можно получить две группы пикирующих бомбардировщиков26»27.
Остальные полностью разделяли мнение Цейцлера. Удивляться такому единодушию и недальновидности не стоит. На совещании присутствовали не просто генералы и фельдмаршалы, которые планировали конкретную боевую операцию, а в значительной мере политики, для которых в этой проблеме военный аспект не являлся ключевым. «Мир, в котором мы жили, принуждал к ханжеству и лицемерию… Соперники редко искренне разговаривали друг с другом… Они плели интриги», – писал Шпеер28. Немаловажную роль играло и стремление избежать угроз своей уже выстроенной карьере, сохранить стабильность своей группировки и т. д. Официально же главный аргумент сторонников удара на Курск в мае 1943 г. без обиняков высказал фельдмаршал Кейтель: «Мы должны наступать из политических соображений»29. Оно было созвучно желаниям Гитлера, но инстинкт самосохранения у него не атрофировался, и, вероятно, поэтому трезвый анализ, представленный в письме Моделя, он воспринял очень серьезно.
В этой связи интересно понять мотивы заявления Клюге, учитывая его положение в процессе подготовки и проведения «Цитадели», и Гудериана, единственного из высокопоставленных военных, являвшегося последовательным противником операции. Для этого обратимся к книге британского исследователя К. Макси, в которой изложена причина известного спора фельдмаршала и генерал-полковника, возникшего еще в 1941 г.: «Конфликт представлял собой столкновение двух образцов мышления – отважного командира [Гудериана], который сплошь и рядом шел на риск, пусть даже рассчитанный, и благоразумного генерала [Клюге], стремившегося к сохранению своего личного благополучия, зависевшего от безопасного положения его армии в сражении, и предпочитавшего при возможности уклониться от всякого риска, a не идти ему навстречу»30.
Английский историк точно подметил суть каждого из этих двух военачальников, которая диктовала им линию поведения и на совещании 4 мая. «Умный Ганс», как называли Клюге в вермахте, не нес персональной ответственности за «Цитадель», она возлагалась на Моделя. Поэтому для него было безопаснее и удобнее действовать в рамках замысла фюрера, мнения ОКХ и во всем их поддерживать. Гудериан же еще в 1941 г. показал, что он во главу угла ставит интересы дела, и поэтому во время обсуждения проблем на совещании в Мюнхене он думал не об угрозе собственной карьере, если Гитлер будет недоволен его позицией, а об эффективности решения стоявших задач.
Судя по дальнейшим шагам Гитлера, обсуждение подготовки наступления только укрепило мнение, которое у него сложилось после письма Моделя, – дату наступления надо переносить. Хотя на совещании окончательного решения фюрер не огласил, взяв короткую паузу для размышления. Эта операция продолжала оставаться для него главной летом 1943 г., поэтому он решил подготовиться к ней более основательно. Хотя, вероятно, командующий 9А не только зародил у него очень серьезные сомнения в возможности реализовать намеченный план в полном объеме, но и дал серьезный повод вновь вернуться к иным вариантам летней кампании. Об этом свидетельствуют воспоминания людей, окружавших его в этот момент. 7 мая 1943 г. министр пропаганды Й. Геббельс сделал запись в дневнике о встрече с Гитлером, который прибыл из Мюнхена в Берлин после совещания: «На Востоке фюрер хочет провести ограниченную наступательную операцию, а именно в районе Курска. В зависимости от обстоятельств он хочет выждать, будут ли большевики атаковать нас сами. Это дало бы нам лучшие шансы, чем если бы мы сами проявили инициативу»31. А 23 мая Геббельс опять поднимает эту тему и пишет, что фюрер вначале хочет позволить Красной армии начать наступление, чтобы затем контратаковать, т. е., по сути, Гитлер возвратился к идее Манштейна почти четырехмесячной давности32. О том, что после письма Моделя и обсуждения в Мюнхене «Цитадель» уже не казалась Гитлеру столь перспективной, свидетельствует и его разговор с Гудерианом 10 мая, на котором остановлюсь ниже.
Но вернемся к событиям, последовавшим сразу после совещания 4 мая. Манштейн пишет, что о решении Гитлера перенести дату наступления на 12 июня, он узнал 11 мая33. Хотя начальник штаба 4-й танковой армии (ТА) ГА «Юг» генерал пехоты Ф. Фангор утверждал, что письменный приказ о подготовке наступления в июне он получил уже 6 мая 1943 г.34 Действительно, решение было принято на вторые сутки после совещания. Возможно, эта путаница связана с тем, что фельдмаршал в это время все еще находился в отпуске для лечения и не мог отслеживать ситуацию в деталях. Из Берлина в расположение своей группы он прибыл лишь 10 мая. В. Модель о том, что отсрочка с большой вероятностью все же будет, узнал уже 4 мая. В 17:25 ему позвонил генерал-лейтенант Г. Кребс и, хотя еще не было официального документа, посоветовал ему в целях маскировки готовить рассредоточение войск армии, уже собранных на исходных позициях для удара35. Перенос даты наступления на целый месяц принципиальных изменений в суть замысла, изложенного в приказе Гитлера № 6 от 15 апреля 1943 г., не внес. Его общая схема оставалась прежней – встречные удары двух групп армий под основание дуги в направлении Курска, а лидером по-прежнему выступала ГА «Юг». Существенному пересмотру подвергнутся только состав группировок и конкретные направления ударов их соединений.
Решение об отсрочке немедленно вызвало возражение, причем не только ОКХ, но и некоторых командующих армиями, главным образом ГА «Юг». Так, 7 мая генерал танковых войск В. Кемпф, командующий одноименной группой армий «Кемпф», в беседе с К. Цейцлером заявил, что этот шаг отрицательно повлияет и на оперативные вопросы, и на психологическое состояние войск, он принесет больше выгод русским, чем немцам. Начальник штаба ОКХ разделял эту оценку и пообещал донести ее до фюрера.
Но Гитлеру в это время было не до психологии. Безусловно, он не мог полностью игнорировать мнение профессионалов, однако причины его колебаний в отношении начала операции имели под собой прежде всего материальную основу и были связаны с отсутствием необходимых сил и средств. В первую очередь сомнения в успехе усиливались из-за сложной ситуации с бронетехникой. Вероятно, именно она перевесила все доводы сторонников скорейшего перехода в наступление. Если опираться на записи Гудериана, то до 3 мая 1943 г. из Германии Клюге получил всего 286 танков, а Манштейн – 61636. На момент подписания Моделем письма, т. е. 24 апреля, по данным штаба 9А, в шести ее танковых дивизиях (тд) (2, 4, 9, 12, 18 и 20) числилось 192 танка (из которых 75 боевые машины или 39% устаревшие Т-III и Т-IV с короткоствольной пушкой)37, т. е. в среднем 32 – на одну дивизию, или менее одного танкового батальона. Для прорыва главной полосы обороны Центрального фронта ранее ему был обещан батальон новых тяжелых танков Т-VI «тигр» и 200 Т-V «пантера»38. В это время первые 20 «тигров» только готовились к отправке из Германии, а когда будут выпущены первые «пантеры», было неясно.
По состоянию на 4 мая 1943 г. во всех восьми танковых дивизиях ГА «Центр» по списку числилось 442 Т-III и Т-IV, из них 314 в строю, а 128 (30% от общего числа) – в ремонте. Таким образом, средняя численность боевых машин в танковых полках дивизии ГА «Центр» составляла 39 единиц, т. е. примерно в четыре раза меньше, чем полагалось по штату. Самой укомплектованной была 8 тд, она располагала 53 танками, а самой слабой – 18 тд, в ней числилось лишь 26 шт. О низкой укомплектованности техникой подвижных соединений 9А свидетельствует донесение ее штаба на 23:30 3 мая 1943 г. Согласно ему, в это время в шести тд (2, 4, 9, 12, 18, 20) числился всего 231 танк, в том числе 109 Т-III и Т-IV 39 (47,2%) с короткоствольными орудиями, которые к этому временем уже не отвечали требованиям боя. Таким образом, средняя численность танкового полка одной дивизии составляла 38,5 боевых машин, или более чем в 4 раза ниже штатной (168 шт.).
9А должна была перейти в наступление в ближайшие дни, но Модель не представлял, какими средствами прорывать оборону Центрального фронта и овладевать в его глубине (75 км от линии фронта) крупным укрепленным городом Курск, особенно с учетом данных от авиаразведки об усилении советских войск на этом направлении.
В ГА «Юг» положение складывалось лучше, но ненамного. Всего она имела 1087 танков, но из этого числа в строю находилось 72840. В среднем по дивизии – 56 танков, т. е. примерно в три раза меньше штата. Перекос в обеспечении бронетехникой групп армий Клюге и Манштейна – следствие событий февраля – марта 1943 г. в южном секторе советско-германского фронта, когда ОКХ передало ГА «Юг» для проведения контрудара на Украине не только основную часть подвижных соединений, действовавших на этом направлении, но и резервы из Европы. Эта особенность войск ГА «Юг» (большее число танковых дивизий и их более высокая укомплектованность бронетехникой) сохранилось до начала Курской битвы и напрямую повлияла на ее планирование. Согласно замыслу «Цитадели», бόльшую часть пути (125 км) до предполагаемой встречи в районе Курска предстояло преодолеть именно ударной группировке Манштейна.
В ГА «Центр» и «Юг» наблюдался перекос и в обеспечении новинками танкопрома – «тиграми» и «пантерами». К 4 мая войска ГА «Юг» получили 67 Т-VI, а ГА «Центр» (в том числе 9А) ни одного. Несмотря на то что по плану, утвержденному Берлином, до 3 мая в ГА «Центр» должно было поступить 20 «тигров»41.
Более трудное положение складывалась с Т-V, которые еще в начале апреля 1943 г., обещали Моделю. Этих танков в войсках не было, и к началу совещания в Мюнхене их даже не готовили к отправке на фронт. 10 мая в Берлине состоялось совещание с участием Гитлера по вопросу их выпуска, так как план поставок уже был сорван и перспективы его выполнения стали неясны. В ходе совещания представители промышленности пообещали наверстать упущенное к концу мая и даже перевыполнить установленные показатели, якобы вместо 250 предполагалось выпустить 324 Т-V.
Эти цифры в литературе появились благодаря Гудериану, именно он впервые упомянул их в мемуарах42. В действительности же, как свидетельствуют архивные источники, в частности его же записи к докладу на совещании 4 мая 1943 г., планы поставок этих танков были иными. В мае планировалось произвести 300 Т-V, в июне – 165, а в июле – 20643. Предполагалось, что первые два танковых батальона «пантер» будут готовы только к 31 мая и еще два противотанковых дивизиона в составе 90 самоходных артустановок (САУ) «фердинанд». Для того чтобы эти цифры были понятны, вспомним: во-первых, итоги «Цитадели», во-вторых, численность этих боевых машин относительно других типов бронетехники в начале июля 1943 г. в ударных группировках Модель и Манштейна. В 9А тогда было 522 танка (477 Т-III и Т-IV, 45 Т-VI) и 215 САУ (125 САУ «мардер», 90 САУ «фердинанд»), а в 4ТА и ГА «Кемпф» – 1016 танка (в том числе 102 Т-VI и 200 Т-V), 247 штурмовых орудия.
При столь низкой укомплектованности техникой танковых соединений для успеха наступления крайне важным являлся уровень боеготовности пехотных дивизий 9А, но и они находились в плачевном состоянии. «Общая боевая численность двадцати дивизий, переданных 9А, 16 мая составляла 66 137 человек со средней боевой численностью в дивизиях всего лишь 3306 (примерно 60% от положенной численности даже для пехотных дивизий из шести батальонов). Согласно стандартам немецкой армии, недостаток в боевой численности мог быть превышен только в четырех из двадцати соединений Моделя (2 и 12 тд, 10 моторизованная дивизия и 78 штурмовая дивизия)»44.
Примерно такое же удручающее положение дел описал Модель и в докладе от 24 апреля 1943 г., и во время личной встречи с Гитлером 27 апреля 1943 г. Цифры говорили сами за себя, и вывод напрашивался лишь один: пока войска под Курском выполнить задачи наступления не в силах. Поэтому у Гитлера иного выбора, как перенести его начало хотя бы на месяц, просто не могло быть.
Вместе с тем в этот момент он, вероятно, уже начал осознавать, что это решение, по сути, хоронит и саму идею «Цитадели». Об этом свидетельствует его разговор с Гудерианом сразу после совещания 10 мая 1943 г., который вновь попытался переубедить фюрера вообще отменить операцию. Генерал спросил: «Почему Вы так хотите в этом году наступать на Востоке?.. Да сколько, по-вашему, людей в мире вообще знают, где находится этот Курск? Мировой общественности абсолютно все равно, удержим ли мы Курск или нет. Гитлер сказал:
— Вы совершенно правы, когда я думаю об этом наступлении, меня начинает мутить.
Я ответил на это:
— Ваш организм реагирует совершенно правильно. Забудьте об этом.
Гитлер заверил меня, что он еще не принял никакого решения, и на этом все закончилось».
Предваряя описания этого эпизода, бывший главный инспектор танковых войск отметил важные изменения, которые произошли к этому времени (к 10 мая) во взглядах Гитлера. «Он уже видел, с какими трудностями нам придется столкнуться, – пишет Гудериан. – Это великое предприятие никак не может принести столь же великие плоды, а вот наши оборонительные меры на Западе пострадают ощутимо»45.
Действительно, из архивных источников вытекает, что к началу мая эйфория от мартовских успехов на Украине и ободряющих донесений разведки о низкой боеспособности советских дивизий под Курском уже прошла. На фоне усиления обороны Красной армии в районе Курской дуги и существенного отставания промышленности Германии с выпуском новой бронетехники, проблемы, на которых указывали противники «Цитадели», для Гитлера стали очевидны. Однако, как покажет время, это был период лишь частичного отрезвления. Идея одним ударом покончить с крупными проблемами и вновь взять инициативу на Востоке в свои руки крепко засела в сознании Гитлера.
Несколько по-иному трактовал мотивы его решения Шпеер. Он считал, что в тот момент Гитлер вполне трезво оценивал ситуацию и шансы Германии в войне с СССР, просто его охватили безысходность и страх перед неминуемым крахом. «Основной причиной его стремления во чтобы то ни стало настоять на своем явилось безнадежное положение, в котором он оказался из-за несокрушимой мощи противников, – писал он. – В январе 1943 г. они договорились требовать только безоговорочной капитуляции Германии. Гитлер был, пожалуй, единственным, кто полностью осознавал всю серьезность их заявлений и не строил никаких иллюзий, в то время как Геринг, Геббельс и кое-кто еще из его соратников подчас в разговорах не скрывали намерения использовать политические разногласия между Англией, США и Советским Союзом. На оперативных же совещаниях он все чаще повторял: “Не стройте иллюзий. Назад пути нет. Мы можем двигаться только вперед. Все мосты сожжены”»46.
Таким образом, обе приведенных выше оценки в принципе не противоречат друг другу и, думаю, верно излагают мотивы и состояния Гитлера по этой проблеме.
1 Манштейн Э. Утерянные победы. М., 2016. С. 499, 500.
2 Гудериан Г. Воспоминания немецкого генерала. Танковые войска Германии во Второй мировой войне 1939–1945 гг. М., 2009. С. 337–338.
3 Манштейн Э. Указ. соч. С. 483–487.
4 Klink E. Das Gesetz des Handels. Die Operation “Zitadelle” 1943. Stuttgart, 1956. S. 140.
5 Манштейн Э. Указ. соч. С. 337.
6 Glantz D.M., House J.M. The Battle of Kursk. Lawrence, 1999. Р. 55.
7 Töppel R. Kursk 1943. Die größte Schlacht des Zweiten Weltkriegs. Paderborn, 2018. S. 36.
8 9-я армия вермахта.
9 150-мм самоходная гаубица.
10 Противотанковая самоходная артиллерийская установка (САУ) со 88-мм орудием, длина ствола которого составляла 71 калибр.
11 Bundesarchiv-Militärarchiv (далее – BA-MA). RH 19 VI/45. Bl. 78–80.
12 BA-MA. RH 19 VI/45. Bl. 81, 82.
13 Ibid. Bl. 80.
14 Гудериан Г. Указ. соч. С. 337.
15 BA-MA. RH 19 VI/45. Bl. 80.
16 Гудериан Г. Указ. соч. С. 337–338.
17 Там же. С. 338.
18 BA-MA. RH 19 VI/45. Bl. 81.
19 Манштейн Э. Указ. соч. С. 487.
20 National Archives and Records Administration (далее – NARA) USA. T. 312. R. 317. F. 7886074.
21 Манштейн Э. Указ. соч. С. 486.
22 NARA USA. T. 312. R. 317. F. 7886074.
23 BA-MA. RH 19 VI/45. Bl. 81.
24 Манштейн Э. Указ. соч. С. 485–486.
25 Гудериан Г. Указ. соч. С. 338.
26 Штатная численность группы – 40 самолетов.
27 BA-MA. RH 19 VI/45. Bl. 82.
28 Шпеер А. Воспоминания. М., 2010. С. 351.
29 Цит. по: Великая Отечественная война, 1941–1945. Военно-исторические очерки. Кн. 2. Перелом. М., 1998. С. 256.
30 Макси К. Гудериан. Смоленск, 2001. С. 244–245.
31 Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Teil II. Diktate 1941–1945. Bd. 8. München, 1996. S. 314.
32 BA-MA. RH. 19-VI/39. S. 746–749.
33 Манштейн Э. Указ. соч. С. 487.
34 Ньютон С. Курская битва: немецкий взгляд. М., 2006. С. 98.
35 NARA USA. T. 312. R. 317. F. 7886076.
36 Доклады генерал-инспектора танковых войск Гудериана Гитлеру с 3.5.1943 г. по 1.6.1944 г. // Архив Института военной истории Министерства обороны РФ (далее – Архив ИВИ МО РФ). Ф. 191. Оп. 233. Д. 108. Ч. 1. М., 1947. С. 7.
37 NARA USA. T. 312. R. 320. F. 7889589, 7889597.
38 Архив ИВИ МО РФ. Ф. 191. Оп. 233. Д. 108. Ч. 1. С. 7.
39 NARA USA. T. 312. R. 320. F. 7889556, 7889563.
40 Архив ИВИ МО РФ. Ф. 191. Оп. 233. Д. 108. Ч. 1. С. 6–7.
41 Там же.
42 Гудериан Г. Указ. соч. С. 340.
43 Архив ИВИ МО РФ. Ф. 191. Оп. 233. Д. 108. Ч. 1. С. 9.
44 Ньютон С. Указ. соч. С. 468.
45 Гудериан Г. Указ. соч. С. 340.
46 Шпеер А. Указ. соч. С. 383.
About the authors
Valery N. Zamulin
Southwestern State University
Author for correspondence.
Email: zamulin@yandex.ru
доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник
Russian Federation, KurskReferences
- Guderian G. Vospominaniia nemetskogo generala. Tankowye voiska Germanii vo Vtoroi mirovoi voine [Memoirs of a German general. Panzer troops of Germany in the Second World War 1939–1945]. Moskva, 2009. (In Russ.)
- Macksey K. Guderian [Guderian]. Smolensk, 2001. (In Russ.)
- Manstein E. Uteriannye pobedy [Lost victories]. Moskva, 2016. (In Russ.)
- Newton S. Kurskaia bitva: nemetskii vzgliad [The Battle of Kursk: a German view]. Moskva, 2006. (In Russ.)
- Speer A. Wospominaniia [Memoirs]. Moskva, 2010. (In Russ.)
- Velikaia Otechestvennaia voina. 1941–1945. Kn. 2. Perelom [The Great Patriotic War, 1941–1945. Book 2. Turning point]. Moskva, 1998. (In Russ.)
- Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Teil II. Diktate 1941–1945. Bd. 8. München, 1996.
- Glantz D.M., House J.M. Then Battle of Kursk. Lawrence, 1999.
- Klink E. Das Gesetz des Handels. Die Operation “Zitadelle” 1943. Stuttgart, 1956.
- Töppel R. Kursk 1943. Die größte Schlacht des Zweiten Weltkriegs. Paderborn, 2018.
Supplementary files