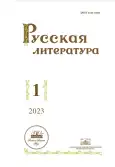SEARCHING FOR HAPPINESS AND FORTUNE: ANCIENT AND FRENCH SOURCES OF K. N. BATIUSHKOV’S FAIRY-TALE THE WANDERER AND THE HOME-LOVER
- Authors: Dobritsyn A.A.1
-
Affiliations:
- Université de Lausanne
- Issue: No 1 (2023)
- Pages: 5-19
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0131-6095/article/view/126733
- DOI: https://doi.org/10.31860/0131-6095-2023-1-5-19
- ID: 126733
Full Text
Abstract
The article discusses the intertextual links of Batiushkov’s verse-tale The Wanderer and the Home-Lover. As formulated in Batiushkov’s letters, the tale’s central idea is closely connected with French maxims, and especially poetic punchlines. The philosophical quest of the protagonist, which forms the basis of the plot, culminates in him acquiring of Pyrrhon’s skeptical wisdom. The study reveals multiple borrowings from French poetry and treatises on classical Antiquity.
Keywords
Full Text
ПОИСКИ СЧАСТЬЯ И ФОРТУНЫ: АНТИЧНЫЕ И ФРАНЦУЗСКИЕ ИСТОЧНИКИ СКАЗКИ К. Н. БАТЮШКОВА «СТРАНСТВОВАТЕЛЬ И ДОМОСЕД»«Странствователь и Домосед»1 остается до сих пор не вполне разгаданным произведением Батюшкова. В жанровом отношении естественней всего квалифицировать его как стихотворную сказку, так его определял и сам автор. Поскольку жанр этот пришел из Франции, большая часть русских стихотворных сказок — более или менее свободные переработки французских. Но батюшковский текст не является переложением какого-либо одного произведения, в нем следует видеть самостоятельное сочинение, хотя и включающее ряд заимствованных элементов; при этом смысл его проясняется, если распознать источники, на которые поэт в той или иной степени опирался. Помимо французской культуры, игравшей немалую роль в формировании батюшковского поэтического языка, в данном случае для понимания сказки существенными оказываются некоторые доктрины античной философии.2 Поэтому в настоящей работе для интерпретации «Странствователя и Домоседа» привлекаются письма Батюшкова, в которых упоминается это сочинение и цитируются моральные сентенции французского происхождения, его стихотворения, содержащие родственную топику и тематику, а также французские трактаты о греческих философах и их учениях.Сказка о Странствователе и Домоседе — самая пространная поэтическая вещь Батюшкова (383 строки), поэтому стоит кратко напомнить ее сюжет. Два брата живут в деревне недалеко от Афин, получают неожиданное наследство, после чего один — Домосед Клит — решает вложить унаследованные деньги в дом и хозяйство, а другой — Филалет — на эти деньги отправляется путешествовать, чтобы приобрести мудрость и, благодаря ей, славу. Он плывет сначала в Египет к жрецам, затем посещает разных греческих мудрецов, но ни одно учение его не устраивает; он теряет все деньги и в отчаянии пытается утопиться. Его спасает старый философ скептик Памфил, Филалет живет у него в лесу несколько дней и наконец возвращается в родные Афины; демонстрируя свежеприобретенную скептическую мудрость, он произносит на площади речь о готовящейся войне, но его прогоняют смехом и даже камнями, а спасает его от разгневанной толпы родной брат Домосед Клит. Филалет гостит несколько дней у Клита, вскоре начинает ностальгически вспоминать свои путешествия и рассказывать о них, наконец не выдерживает домашней скуки и снова пускается в странствие на поиски вечной весны.Автокомментарии в эпистолярии Батюшкова и французские сентенцииСказка содержит отступления открыто автобиографического характера: автор вспоминает о русской армии в Париже, о своем возвращении в Петербург. Однако интереснее скрытый интимный подтекст сказки, о котором мы знаем из писем Батюшкова.3 Вяземскому он пишет 10 января 1815 года: «Теперь кончил сказку „Домосед и странствователь“, которая тебе, может быть, понравится, потому что напомнит обо мне. Я описал себя, свои собственные заблуждения и сердца и ума моего».4Здесь очевидна отсылка к названию романа Кребийона-сына (Claude-Prosper Jolyot de Crébillon, 1707-1777) «Заблуждения [блуждания] сердца и ума» («Les égarements du cœur et de l’esprit»).5 Примерно через месяц, в феврале того же 1815 года в очередном письме Батюшков обещает: «Верь мне, что я болен не одним воображением, и в доказательство чего пришлю тебе мою сказку „Странствователь и Домосед“, где я сам над собою смеялся. Стих и прекрасный „Ум любит странствовать, а сердце жить на месте“ стих Дмитриева подал мне мысль эту. И где? В Лондоне, когда, сидя с Севериным на берегах Темзы, мы рассуждали об этой молодости, которая исчезает так быстро и невозвратно» (2, 322).Здесь поэт снова намеком дает ключ к толкованию своего произведения и его названия, цитируя чужие слова (на этот раз не Кребийона, а Дмитриева). Из них образуется параллель: Странствователь — ум, Домосед — сердце, так что героями сказки оказываются Ум и Сердце. И в февральском письме, как и в предыдущем, Батюшков прямо говорит, что писал о себе («где я сам над собою смеялся»).В сказке совмещены несколько топосов. Вот основные три: 1) герой ищет счастья в разных странах; 2) идиллический топос (данный лишь в общих чертах): счастливая жизнь Клита у себя дома; 3) топосом является и само противопоставление первого и второго — суетных поисков счастья вовне и счастливой жизни дома, — которое, собственно, и обозначено в заглавии. Батюшков разрабатывал вариант этой оппозиции, кратко выраженный строкой, которую он приписывал Дмитриеву (« Ум любит странствовать, а сердце жить на месте») и которая в некоторых ранних списках даже поставлена эпиграфом к сказке.6 Но в известном сейчас корпусе произведений Дмитриева упомянутый стих отсутствует.Комментаторы строили различные предположения о происхождении цитированного александрена, допуская, в частности, авторство самого Батюшкова.7 Решение выглядит проще: как и многие другие афористичные строки русской поэзии, этот стих имеет французское происхождение, представляя собой удачный перевод двух октосиллабов маркиза де Пезэ (Alexandre Frédéric Jacques de Masson marquis de Pezay, 1741-1777), выполненный, вероятно, и в самом деле Дмитриевым8 и известный Батюшкову:l’esprit peut aimer les voyages:mais le cœur chérit le séjour...9Строки де Пезэ, видимо, запомнились читателям и породили некоторое количество подражаний. Во всяком случае, после них во французской литературе появились похожие по смыслу сентенции, например заключительный стих послания Делиля «Двум путешествующим детям» («Epître à deux enfants voyageurs»):On peut s’instruire ailleurs; on ne vit que chez soi.10Еще ближе по смыслу к двустишию де Пезэ значительно более позднее высказывание Ипполита Риго: «L’esprit s’amuse en voyage, mais le cœur s’ennuie; c’est un voyageur qui l’a dit, et il a raison».11Эти две сентенции по хронологическим причинам никак не могут быть генетически связаны с батюшковской сказкой, но свидетельствуют об успехе бонмо маркиза де Пезэ и показывают, что не только Дмитриев обратил внимание на две удачные строки в посредственном стихотворении.Через несколько месяцев после написания сказки Батюшков цитирует другую, но родственную мысль, выраженную в сходной антитетической форме. В письме к Вяземскому в марте 1815 года он дважды приводит стих самого Вяземского из послания «К друзьям» (1814 или 1815): «Успехов просит ум, а сердце счастья просит» (2, 324, 325; № 190). В следующем письме, написанном через несколько дней, он повторяет то же изречение еще раз (2, 327; № 191). Столь полюбившаяся Батюшкову строка дополняет и поясняет афоризм Дмитриева: сердце любит жить на месте потому именно, что счастья просит, а счастье обретается дома.12 Она также является переводной, заимствованной из Экушара-Лебрена, причем словом ‘сердце’ Вяземский передал французское âme‘душа’:La Gloire nous égare: ivre d’un fol Honneur,L’Esprit veut des Succès; l’Ame veut le Bonheur...13Двустишие Лебрена полностью приложимо к батюшковскому Странствователю: ум Филалета просит успеха и почестей (Honneur),а душа — счастья (Bonheur);жажда славы толкает его на суетный путь, где душа не находит желанного счастья.14Трудно сказать, знал ли Батюшков, что цитируемые им в письмах русские строки восходят к французским сентенциям, но мы видим, что именно переводные максимы приходят ему на память, и этот выбор свидетельствует о его эстетических предпочтениях и показывает, на каких образцах формировался его вкус и какая литература предоставляла формы для выражения его мысли.И александрен Лебрена-Вяземского, и сентенция де Пезе-Дмитриева вписываются в разветвленную традицию, противопоставляющую ум и сердце. В частности, важно, что с умом соотносится сфера неустойчивости, движения, поиска, узнавания нового; с сердцем — область чувств и ощущений, особенно счастья, покоя, устойчивости, а также интуитивно уверенного знания правоты, правильного пути.15Во французской литературе такое противопоставление традиционно оформляется как остроумная афористичная антитеза, trait d’esprit;вот пара характерных примеров:L’esprit peut nous égarer; mais le cœur ne nous trompe jamais.16Notre esprit veut savoir, mais le cœur veut sentir.17При поисках счастья лучше прислушиваться к велению сердца, уму в этом доверять не следует, он может сбить с правильного пути. Если же сердце начинает заблуждаться, ум тем более не может вывести на верную дорогу:L’esprit s’aveugle quand le cœur s’égare.18Последний афоризм происходит, вероятно, из известной максимы Ларошфуко: «L’esprit est toujours la dupe du cœur» — ум всегда бывает обманут сердцем.19 Широкое распространение подобных сентенций (с их почти фольклорной вариативностью) свидетельствует, что они приближались к таким языковым конструктам, как пословицы и поговорки.Вспоминая батюшковское письмо Вяземскому (10 января 1815 года), мы можем уточнить: «Странствователь и Домосед» говорит не просто о блужданиях ума и сердца, но об их блужданиях в поисках дороги к счастью, так что все приведенные сентенции имеют к сказке прямое отношение.Странствия в поисках счастьяЧисто формально историю «Странствователя и Домоседа» можно отнести к тем сюжетам, где тихое спокойное существование противопоставлено бурной, опасной и тем самым более привлекательной жизни.Сопоставление жизни трудной, но достойной и жизни легкой, но бесславной сочетается часто с еще одним важным топосом — топосом выбора жизненного пути («герой на распутье», homo viator in bivio).Мотив встречается уже в античности, впервые, по-видимому, у Гесиода (Op. 287-292). Несколько веков спустя он был использован в притче софиста Продика «Геракл на распутье», повествующей, как две богини — Порочность и Добродетель — склоняли Геракла выбрать жизненный путь — соответственно легкий путь порока или трудный путь добродетели. Притча известна нам благодаря Ксенофонту, который приводит ее в «Воспоминаниях о Сократе» (Xen. Mem.,II, 1, 21-34).20В истории Продика о Геракле, которая послужила матрицей для всех последующих воплощений интересующего нас топоса, Геракл выбирает метафорический путь, т. е. тяжелую и опасную, но славную (и потому добродетельную) жизнь. В сказке Батюшкова речь идет о реальном, а не метафорическом странствии. Оно оказывается хлопотным и трудным, но можно ли сказать, что, пустившись в далекую и непростую дорогу, герой выбрал тем самым более добродетельную, более угодную богам жизнь?Герой сказки стремится к славе, как и в изначальном мифе, но в Странствователе это стремление — не проявление добродетели, а признак «беспокойного ума», по слову Бюсси-Рабютена в письме к Мадам де Скюдери: «Je ne sai pourquoi notre ami est allé si loin, & encore moins pourquoi il en est revenu. Ces voyages-là marquent souvent un esprit inquiet».21Всеми своими невзгодами Странствователь Филалет обязан именно своему беспокойному уму, который не позволяет ему ни на чем остановиться (это, похоже, автобиографическое описание). Можно считать, что Батюшков невольно полемизирует с притчей Продика в духе моралистов XVII-XVIII веков. Обычай отправлять молодых людей в путешествие для образования и воспитания ума и сердца вызвал к жизни соответствующие рассуждения моралистов как в пользу странствий, так и против них.Так, бернец де Мюральт (Béat Louis de Murait, 1665-1749) в своем «Письме о путешествиях» склоняется к мысли о бесполезности путешествий, которые могут повредить воспитанию сердца и представляются желательными лишь праздному, незанятому уму (он делает исключение лишь для законодателей и философов, которым путешествия необходимы для ознакомления с чужой мудростью и образцами законов): «...on peut dire que la fortune, que tant de voyageurs cherchent, & qu’ils ne trouvent point, les attend à leur retour, & dans cette vûe que l’on doit se hâter de voyager».22Воспитание сердца более важно и само по себе, и потому, что оно способно исправить недостаточное образование ума: «...c’est un abus que de vouloir se former l’esprit en lui-même, & indépendamment du vrai qui en doit faire l’objet. C’est le cœur qu’il faudroit tâcher de former aux jeunes gens, en leur inspirant des principes de droiture & de probité Les qualités du cœur, ou nous dispensent d’avoir celles de l’esprit & nous ornent suffisamment, ou elles les rectifient & les perfectionnent ».23В сказке Батюшкова ситуация выбора между познавательным путешествием и счастливым домоседством иллюстрируется особенно наглядно, поскольку два ее персонажа воплощают сразу обе альтернативные судьбы. Все внимание, однако, уделено герою Странствователю, Домосед остается для сравнения.Таков топический фон сказки, а основу ее фабулы (если брать ее в самом схематическом виде) составляют, как было указано В. П. Степановым и Н. М. Гайденковым, две басни Лафонтена — в первую очередь, «Тот, кто бегает за Фортуной, и тот, кто ждет ее в своей постели» («L’Homme qui court après la Fortune et l’Homme qui l’attend dans son lit», VII.12), а также «Два голубя» («Les deux pigeons», IX.2):24 «„Странствователь и домосед“ является попыткой приблизиться к поэме, используя традиционную форму стихотворной сказки. Сюжет близок к неоднократно переводившейся в России басне Лафонтена „Искатели фортуны“ , но разработан в лирическом ключе и имеет отчетливо выраженный автобиографический подтекст».25Заглавие батюшковской сказки можно рассматривать как предельно лаконичную передачу названия лафонтеновской басни (L’Homme qui court après la Fortune — Странствователь, l’Homme qui l’attend dans son lit — Домосед). Оба произведения открываются преамбулой, рассказываемой от первого лица. Собственно история персонажей также начинается в обеих сказках сходным образом, в частности, подчеркивается, что герои живут в скромном достатке:Два брата, Филалет и Клит, смиренно жилиВ предместии Афин под кровлею одной;В довольстве? Не скажу, но с бодрою душойВстречали день и ночь спокойно проводили...(1, 241)Ср. у Лафонтена:Certain couple d’amis en un bourg étably,Possedoit quelque bien .26Дальше возникают различия. Никакое внешнее событие не побуждает лафонтеновского персонажа к отъезду; он, в силу своего характера, всегда мечтал привлечь к себе Фортуну и в конце концов созрел, чтобы устремиться на ее поиски. Батюшковскому же герою достается наследство (т. е. Фортуна делает ему подарок в самом начале), и только тогда он решает отправиться в дальние страны, причем не за Фортуной, а за мудростью и за славой. Впрочем, здесь Батюшков не высказывается определенно. В начале сказки Филалет отправляется за мудростью, видя счастье в самом обучении философии:«Чего же хочешь ты?» — «Я?.. славен быть хочу».— «Но чем?» — «Как чем? — умом, делами,И красноречьем, и стихами,И мало ль чем еще? Я в Мемфис полечуДелиться мудростью с жрецами:Зачем сей создан мир? кто правит им и как?Где кончится земля? где гордый Нил родится?Зачем под пеленой сокрыт Изиды зрак,Зачем горящий Феб все к западу стремится?Какое счастье, милый брат!»Благодаря обретенной мудрости он надеется прославиться и ищет счастье теперь уже в обретении славы:«Я буду в мудрости соперник Пифагора! —В Афинах обо мне тогда заговорят.В Афинах? — что сказал! — от Нила до БосфораПрославится твой брат, твой верный Филалет!Какое счастье! »(1, 242)Далее сказка повествует о непростых поисках мудрости в Египте и Греции:Скорей из Мемфиса бежатьОт гнева старцев разъяренных,От крокодилов, псов и луковиц священных27И между греков просвещенныхЛюбезной мудрости искать.(1, 244)Однако в следующих стихах Батюшков, кажется, проговаривается, что конечной целью поисков Странствователя является счастье само по себе:28Наш странник обходилПоля, селения и грады,Но счастия не находилПод небом счастливым Эллады.(1, 245)Герой не находит счастья потому, что он «Повсюду гость среди людей, / Везде за трапезой чужою...», т. е. нигде не дома. Слово «дом» не произносится, но автор как будто хочет неявно напомнить о забытом было Домоседе.Погоня за счастьем является рекуррентным (и автобиографическим) мотивом у Батюшкова, причем в раннем «Послании к Хлое» (1804/1805) она синонимична поискам Фортуны, которые традиционно противопоставлены идиллическому топосу («истинное счастье обретается в простой хижине»):Решилась, Хлоя, ты со мною удалитьсяИ в мирну хижину навек переселиться.За счастьем мы бежим, но редко достигаем,Бежим за ним вослед — и в пропасть упадаем!Таков и человек! Куда ни бросим взгляд,Узрим тотчас, что он и в счастии не рад.Довольны все умом, Фортуною ни мало.Что нравилось сперва, теперь то скучно стало:То денег, то чинов, то славы он желает.29Но славы посреди и денег он — зевает!(1, 341-342)И здесь мы видим, как Батюшков применяет в своих целях французские сентенции (на сей раз без посредничества русских переводчиков): стих «Довольны все умом, фортуною ни мало» входит в ряд сопоставлений и антитез, со- и противополагающих ум, сердце, душу, счастье, фортуну, и верно передает двустишие из моральных стансов мадам Дезульер:Nul n’est content de sa fortune, Ni mécontent de son esprit.30Это двустишие многократно цитировалось, например, Лагарпом в «Лицее»,31 именно оттуда, скорее всего, Батюшков его и узнал. Оно восходит к афоризму маркизы де Сабле, приятельницы и отчасти вдохновительницы герцога Ларошфуко: «C’est un défaut bien commun de n’être jamais content de sa fortune, ni mécontent de son esprit».32Но если люди и довольны собственным умом (или остроумием), никто не осмеливается, говорит Ларошфуко, открыто выражать свое удовлетворение: «Chacun dit du bien de son cœur, & personne n’en ose dire de son esprit».33Здесь мы снова имеем дело с противопоставлением ума и сердца. Имела хождение и сентенция, согласно которой люди выглядят довольными сердцем, но испытывают неудовлетворенность умом: «On paroît toujours aux autres plus satisfait de son cœur que de son esprit»;34 «On paroît ordinairement plus satisfait de son cœur que de son esprit, mais on est toujours soi-même plus satisfait de son esprit que de son cœur».35Как и в первой части статьи, мы видим набор антитетических сентенций на сходные темы, демонстрирующий, что во французском обществе к подобным bons mots относились не как к неприкосновенным изречениям (которые нельзя трогать и менять), а как к мыслям, находящимся в общем пользовании. Удачные афоризмы были продуктивными, они порождали другие, так что возникал целый букет вариаций на некоторую тему. Но при заимствовании в другую культуру, похоже, эта продуктивность исчезает, сентенции фиксируются; в батюшковские тексты из всего многообразия максим об уме, сердце, фортуне и счастье вошли лишь те, что имели стихотворную (т. е. в известном смысле застывшую) форму.Значение слова ‘Фортуна’ у Батюшкова менялось с течением времени. В раннем (1804/1805) стихотворении «К Филисе» ‘Фортуна’ почти синонимична ‘счастью’, как следует из следующего пассажа:Как пылинка вихрем поднята,Как пылинка вихрем брошена,Так и счастье наше чудноеТо поднимет, то опустит вдруг.Часто бегал за ФортуноюИ держал ее в руках моих:Чародейка ускользнула тутИ оставила колючий терн.(1, 347)Через двенадцать лет, в письме Гнедичу (в июле 1817 года) поэт различает эти понятия: «Но скажи Вяземскому, что Фортуна не есть счастие, а существо, располагающее злом и добром, нечто похожее на судьбу» (2, 447).36 Батюшков не всегда понимает Фортуну в лафонтеновском смысле: у французского баснописца это «успех», причем чаще всего «успех при дворе», который по природе ненадежен и непродолжителен, тогда как под счастьем понимается обычно устойчивое и продолжительное состояние.37 Можно сказать, что персонажи Батюшкова (а зачастую и лирический герой) ищут eudaimonia, а не eutuchia.Во французской поэзии в конце XVIII столетия появилась вариация басни Лафонтена, где поиски фортуны заменены как раз поисками счастья, это сказка-басня Франсуа-Бенуа Офмана «Человек, стремящийся за счастьем» («L’Homme qui court après le bonheur»).38 Заметим, что хотя Офман и подражает названию лафонтеновской сказки, он заменяет эфемерную и капризную Фортуну (Fortune) на более благоразумное и постоянное счастье (bonheur). Его герой Дамис, подобно персонажу Батюшкова, нигде не может остановиться в своих поисках, попадает в самые привлекательные места, но они не могут его удержать, он снова и снова отправляется в странствие, пока не находит храм, вход в который закрыт занавесом с надписью «Здесь нет страданий»; сорвав занавес, Дамис видит гробницу. Басня Офмана интересна именно тем, что ее персонаж бежит не за переменчивой удачей-фортуной, а упорно ищет надежное, постоянное счастье.39Сюжеты античной философииВ письме от 25 марта 1815 года Батюшков обращался к Вяземскому со следующим предложением: «Зачем ты не испытываешь род сказки? Зачем Дмитриеву оставлять одному это поле . Дай бог, чтобы мой опыт («Странствователь и Домосед». — А. Д.) тебя воспалил. Пиши в роде „Модной жены“» (2, 326-327). «Модная жена» упомянута здесь не зря. Разрабатывая многочисленные эпизоды своего повествования, Батюшков, как и Дмитриев, прибегает к мозаике элементов, заимствованных из разнородных источников, от Лафонтена до трактатов по античной философии.Так, история Филалета перекликается с изложенной Диогеном Лаэртским жизнью Демокрита: «Деметрий в „Соименниках“ и Антисфен в „Преемствах“ сообщают, что он (Демокрит. — А. Д.) совершил путешествие и в Египет к жрецам, чтобы научиться геометрии, и в Персию к халдеям, и на Красное море; а некоторые добавляют, что он и в Индии встречался с гимнософистами, и в Эфиопии побывал. Из трех братьев он был младшим при разделе наследства и взял себе меньшую долю имущества, состоявшую в деньгах, так как они были ему нужны для путешествия, и братья это хитро сообразили. Деметрий говорит, что его доля превышала сто талантов, и все это он истратил».40Филалет, подобно греческому атомисту, делит наследство с братом и отправляется на поиски мудрости, начав свои странствия с посещения Мемфиса и потратив в них все деньги. Диоген упоминает лишь Египет в целом, но в некоторых французских книгах можно встретить утверждение, что Демокрит учился именно у жрецов Мемфиса, как и персонаж Батюшкова (например: «Les Prêtres de Memphis lui avoient encore appris différents secrets de Chimie»41).У Диогена Лаэртского почерпнуты, видимо, и сведения о плаще Кратета — философа-киника, с которым собирался соперничать Филалет, надеющийся достичь такой славы, что «афиняне забудут Демосфена. / И Кратеса в плаще...».Ср. у Диогена о Кратете, сыне Асконда, одном «из славнейших учеников Пса»:42 Кратет «бросился в философию с таким рвением, что даже попал в стихи Филемона, комического поэта. У того сказано:Он, как Кратет, зимой одет во вретище,А летом бродит, в толстый плащ закутавшись.43А Менандр в комедии „Сестры-близнецы“ упоминает о нем так:Пойдешь со мною, в грубый плащ закутана,Как некогда жена Кратета-киника...»44Но Диогеновы «Жизнь и мнения» — не единственный источник (или протоисточник) Батюшкова. Уже в самом начале сказки Филалет, надеющийся стать «в мудрости соперник Пифагора», собирается учиться у пифагорейцев и предвидит суровые испытания (включая обет молчания), через которые должен будет пройти:Какое щастье! десять летЯ стану есть траву и нем как рыба буду;Но красноречья дар, конечно, не забуду.(1, 242)Авторская ирония дает почувствовать читателю оксюморонность самой возможности пифагорейской элоквенции. Тем не менее похвалы красноречию молчальника Пифагора можно найти, например, в «Словаре» Пьера Бейля: «Il faloit que son Eloquence eût beaucoup de force, puis que ses Exhortations portèrent les habitans d’une grande ville plongée dans la débauche à fuir la luxe & la bonne chere.»;45 «Son silence même étoit éloquent, & contribua autant que sa voix à la réforme, comme l’a fort bien remarqué un ancien poëte».46В конце своих странствий Филалет попадает к «скептическому мудрецу» Памфилу, учение которого, пожалуй, наиболее важно для сюжета сказки. Филалет, чье имя значит «любитель/друг истины», в начале путешествия убежденный в том, что найдет мудрость (к которой приложится и слава), отвергает одну философскую школу за другой, чтобы в финале принять пирронизм, а следовательно, усомниться в самом существовании истины, а значит, и истинной мудрости.Если начало истории Странствователя заимствовано во многом из жизнеописания Демокрита (см. выше), к концу рассказа путь Филалета сближается с судьбой Пиррона: «Il cherchoit donc toute sa vie la vérité; mais il se ménageoit toujours des ressources pour ne tomber pas d’accord qu’il l’eût trouvée».47Таким образом, безуспешные поиски счастья переплетаются со столь же безрезультатными поисками мудрости и истины. Поскольку в Странствователе Батюшков отчасти описывал себя, это бросает свет на мировоззрение самого поэта.Батюшковское изложение украшено деталями, почерпнутыми из описаний Пирроновой философии. Так, пассаж, в котором Памфил убеждает Филалета не топиться, является вольным пересказом известного анекдота, фигурирующего во множестве трактатов и словарей, как серьезных, так и легковесных. Вот вариант из «Энциклопедианы», объемистого сборника bons mots: «Pyrrhon soutenoit que vivre & mourir étoit la même chose. Un de ses disciples choqué de cette extravagance, lui ayant dit: Pourquoi donc ne mourrez-vous pas? „C’est précisément, répondit-il, parce qu’il n’y a aucune différence entre la mort & la vie“».48В версии Батюшкова аргументация, по существу, аналогична:Рассудок ли тебя влечет в реку иль страсти?Рассудок: но его что нам вещает глас?Что жизнь и смерть равны для нас.Равны — так незачем топиться.Мимолетно упомянув такое понятие скептиков, как атараксия, русский поэт заставляет Памфила высказать тезисы, напоминающие скорее индусов, чем греков (впрочем, согласно Диогену Лаэртскому, Пиррон встречался с «индийскими гимнософистами»):— «Все призрак! — под конец хозяин заключил: —Богатство, честь и власти,Болезнь и нищета, несчастия и страсти,И я, и ты, и целый свет, —Все призрак!» — «Сновиденье!» —Со вздохом повторял унылый Филалет;Но, глядя на сухой обед,Вскричал: «Я голоден!» — «И это заблужденье,Все грубых чувств обман; не сомневайся в том».(1, 246)Такая интерпретация Пирроновых положений может основываться на некоторых французских комментариях, см., например, в «Словаре» Бейля: «...personne parmi les bons Philosophes ne doute plus, que les Sceptiques n’aient raison de soutenir que les qualitez des corps, qui frapent nos sens, ne sont que des aparences».49Возможно, это понимание подкреплялось изложением Авла Геллия (приводим единственный имевшийся тогда французский перевод): «.chaque objet nous paroît tel que nous le jugeons d’après la sensation qu’il excite en nous & que nos organes nous le représentent, mais non pas tel qu’il existe réellement & indépendamment de nos jugemens particuliers».50Во всяком случае, Филалет воспринимает начала скептической философии достаточно, чтобы по возвращении в Афины попытаться крайне неуместно применить пирронизм в политической риторике. Скептики учат, что на каждую убедительность найдется противоположная (égalité dans les persuasions opposées): «...après avoir montré par quels moyens on se persuade une chose, ils employent les mêmes moyens pour en détruire la croyance».51Следуя усвоенному учению, Филалет доказывает, что объявлять войну и оставаться в мире равно опасно, и на вопрос афинских граждан: «Что ж делать?» — отвечает:«Что делать?.. — сомневаться.Сомненье мудрости есть самый зрелый плод.52Я вам советую, граждане, колебаться —И не мириться, и не драться!..»(1, 248)Его провал описывается тем же ироническим тоном, что и остальные приключения; но в данном случае этот тон иллюстрирует скептический парадокс: позиция пирронизма сама подвержена скептической оценке. Последняя найденная и уже было принятая Филалетом мудрость оказывается если не ложной, то сомнительной, а не приобретя мудрости, он теряет и надежду на счастье. Чтобы подчеркнуть эту безнадежность, в финале автор отправляет своего alter ego за розами в снега гипербореев (т. е. за заведомо недостижимой мечтой, в заведомо безуспешное странствие). В элегии «Воспоминания» (1814?—1815) Батюшков восклицает: «Есть странствиям конец — печалям никогда!» (1, 407). Но для Филалета не предвидится конца и странствиям.Некоторые другие подробности, оживляющие повествование, могли быть почерпнуты Батюшковым из французских книг об античной жизни и из романов на греческие темы. Так, Филалет обещает не превозноситься, в противоположность кичливому Демосфену:Не стану я моим превозноситься даром,Как наш Алкивиад, оратор слабых жен,Или надутый Демосфен,Кичася в пурпуре пред царскими послами.(1, 242)О пурпурной одежде Демосфена никакие источники, кажется, не сообщают, но из речи Эсхина известно о пурпурных коврах, которые Демосфен расстелил перед послами македонского царя Филиппа: «Il me reste à vous faire connoître la basse flatterie de ce Démosthéne qui, pendant un an entier qu’il siégea dans le sénat, n’accorda de place distinguée à aucun ambassadeur, et, cette fois seulement, fit dresser un trône pour les députés de Philippe, y plaça de superbes carreaux, l’orna de magnifiques tapis de pourpre...»53Эти сведения были использованы Бартелеми в его знаменитом романе «Путешествие юного Анахарсиса по Греции», откуда могли попасть и к Батюшкову: «Les ambassadeurs de Philippe assistent régulièrement aux spectacles que nous donnons dans ces fêtes. Démosthène leur avait fait décerner par le sénat une place distinguée. Il a soin qu’on leur apporte des coussins et des tapis de pourpre».54* * *В «Странствователе и Домоседе» сходятся тематические и сюжетные линии различного происхождения. В этом можно усмотреть филиацию от «Модной жены» Дмитриева, также соединяющей топику, заимствованную из разных жанровых и национальных традиций.55 Детали, дающие историческую и философскую мотивировку (если воспользоваться формалистским термином), могли быть взяты из Диогена Лаэртского и из разнообразных французских книг об античности, при этом отсылки к пирронизму оказываются существенными для понимания жизненных поисков Филалета (а значит, и самого Батюшкова). Письма, касающиеся русской сказки, и некоторые тематически родственные стихотворения украшены остроумными антитезами и сентенциями, которые восходят к французским стихотворцам, мастерам пуанты, bons motsи traits d’esprit.Сам же «Странствователь и Домосед», в соответствии с французскими требованиями к жанру, рассказан в «наивном» стиле, избегающем нарочитого салонного остроумия.В отличие от сказок-басен Лафонтена или Офмана, у Батюшкова не подразумевается легко выводимой морали. Финал русской сказки выглядит открытым, что крайне необычно. Тем не менее в ней читается вполне традиционный смысл. Домосед, оставаясь дома, может быть счастлив «сердцем», тогда как для Странствователя поиски счастья неотделимы от деятельности ума. Но если «умственное образование» (la formation de l’esprit)и приобретается в путешествиях, счастье не может прийти извне, и устремленный во внешний мир Филалет оказывается обречен на бесплодные скитания.×
References
- Батюшков К. Н. Соч.: В 2 т. М., 1989.
- Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Общ. ред. и вступ. статья А. Ф. Лосева; пер. М. Л. Гаспарова. М., 1979.
- Добрицын А. А. Апологи И. И. Дмитриева // Русская литература. 2008. № 2.
- Добрицын А. А.Iter vitae, lepton ochema, Trionfo del Tempo и "Телега жизни" // Philologica. 2013/2014. T. 10. № 24.
- Добрицын А. А. Сюжетные истоки четырех сказок И. И. Дмитриева // Русская литература. 2007. № 2.
- Пильщиков И. А. Батюшков и литература Италии: Филологические разыскания / Под ред. М. И. Шапира. М., 2003.
- Стихотворная сказка (новелла) XVIII - начала XIX века / Вступ. статья и сост. А. Н. Соколова; подг. текста и прим. Н. М. Гайденкова и В. П. Степанова. Л., 1969.
- Хазимуллина Е. Е. "Ум с сердцем не в ладу?" (Мотивированность языковых знаний неязыковыми в русской когнитивной картине мира) // Вестник Томского гос. ун-та. 2010. № 330.
- Harms W. Homo viator in bivio: Studien zur Bildlichkeit des Weges. Munchen: W. Fink, 1970 (Medium Aevum. Philologische Studien; Bd. 21).
- Panofsky E. Hercules am Scheidewege und andere antike Bildstoffe in der neuen Kunst. Berlin: Teubner, 1930.