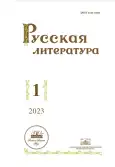P. N. BERKOV’S REPORT DELIVERED AT THE SESSION OF THE COMMISSION ON THE HISTORY OF PHILOLOGICAL SCIENCES ON OCTOBER 31, 1966
- Authors: Kochetkova N.D.1
-
Affiliations:
- Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom), Russian Academy of Sciences
- Issue: No 1 (2023)
- Pages: 83-97
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0131-6095/article/view/126741
- DOI: https://doi.org/10.31860/0131-6095-2023-1-83-97
- ID: 126741
Full Text
Abstract
The Commission on the History of Philological Sciences at the Department of Literature and Language of the USSR Academy of Sciences, established in the mid-1950s, dealt primarily with the history of Russian literary criticism. P. N. Berkov was one of the most active members of the Bureau of the Commission and repeatedly delivered reports at its plenary sessions. The autographic text of P. N. Berkov’s report is polemically sharpened and very bold for the time, raising questions concerning the public authority of literary criticism and the scholarly merits of the philologists associated with Formalism. The report reveals the author’s goal to outline a variety of research approaches and to identify the most important and fruitful academic trends, many of which still retain their relevance.
Full Text
ДОКЛАД П. Н. БЕРКОВА НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПО ИСТОРИИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 31 ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА (ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ, ПОДГОТОВКА ТЕКСТА И КОММЕНТАРИИ © Н. Д. КОЧЕТКОВОЙ)Павел Наумович Берков всегда придавал большое значение изучению истории филологической науки. Он всегда с уважением относился к трудам своих предшественников – ученых XIX столетия и высоко ценил многих своих современников – филологов, большинство которых, как и он сам, подвергались незаслуженным гонениям и преследованиям 1930-х – начала 1950-х годов. Для П. Н. Беркова было важно не только восстановить доброе имя того или иного ученого, но и показать, в чем состояли его научные заслуги. Павел Наумович часто писал о своих коллегах, откликаясь на их юбилеи, или отдавая дань уважения их памяти. Еще в 1930-е годы он работал над книгой, посвященной истории изучения русской литературы XVIII века. По свидетельству автора, книга была завершена «в ночь на 22 июня 1941 г.», но появилась в печати спустя более 20 лет.1 Несмотря на переработку и дополнения, в работе сохранились многие характерные для той эпохи социологические оценки, о чем сожалел и сам автор.2 Однако книга содержит очень большой фактический материал, позволяющий представить роль ученых XIX – первой половины XX века в истории нашей науки.С энтузиазмом Павел Наумович отнесся к созданию в середине 1950-х годов Комиссии по истории филологических наук (в сокращении: КИФН) при Отделении литературы и языка Академии наук СССР в связи с подготовкой к IV Международному съезду славистов, состоявшемуся в Москве в 1958 году. Председателем Комиссии был академик АН УССР Н. К. Гудзий. Он привлек внимание к наследию таких ученых, как Ф. И. Буслаев, Н. С. Тихонравов, А. Н. Веселовский. При участии членов Комиссии были изданы труды выдающихся ученых прошлого: В. Н. Перетца, М. Н. Сперанского, М. А. Цявловского и других ушедших из жизни исследователей филологической науки.Среди членов Комиссии были академики М. П. Алексеев, В. В. Виноградов, члены-корреспонденты АН СССР В. П. Адрианова-Перетц, С. Г. Бархударов, Д. С. Лихачев, Н. Ф. Бельчиков, доктора филологических наук В. Д. Кузьмина, Ю. Г. Оксман, А. Н. Соколов, Г. М. Фридлендер и другие. П. Н. Берков вошел в состав Комиссии, а затем стал заместителем ее председателя. Ю. Г. Оксман, также член бюро, постоянно обсуждал в переписке начала 1960-х годов с Н. К. Гудзием и П. Н. Берковым планы и принципы работы Комиссии, в том числе был намечен ежегодный выпуск ее «Трудов» («Ежегодника»). Ю. Г. Оксман предлагал Н. К. Гудзию публиковать в этом издании историографические статьи, рецензии и письма ученых (в частности, он называл имена П. Н. Сакулина, А. В. Луначарского, С. А. Венгерова).3В 1960 году по предложению Н. К. Гудзия на пленарном заседании Комиссии П. Н. Берков, сделал доклад «Современные задачи истории русского литературоведения дореволюционного и советского периода». Доклад остался неопубликованным, но на его основе совместно с другими членами Комиссии была составлена записка «Проблемы изучения истории отечественного литературоведения».4 Основные положения этой записки нашли отражение в появившейся в 1962 году краткой статье секретаря Комиссии З. С. Шепелевой. Здесь сообщалось, что в состав Комиссии входит 15 ученых, которые «ведут работу по изучению истории филологической науки, преимущественно истории отечественного литературоведения».5 Перед Комиссией ставились две основные задачи: изучение архивных фондов русских филологов и создание исследований по истории отечественной филологической науки.В переписке с П. Н. Берковым Ю. Г. Оксман продолжал обсуждать планы работы Комиссии, подчеркивая, что раздел материалов должен включать «письма ученых совет периода в первую очередь», а также отдел рецензий на историографические книги и статьи, списки трудов ведущих литературоведов. Речь шла и о необходимости написать историю Пушкинского Дома.6Однако осуществить планировавшиеся Комиссией издания, в том числе издание трудов А. Н. Веселовского, тогда не удалось. В сентябре 1962 года Ю. Г. Оксман сообщал П. Н. Беркову, что сборник работ Комиссии «снят со всех планов» в связи с «ожесточенным походом на этот жанр».7 Ю. Г. Оксман был возмущен тем, что его имя как главного редактора сборника было снято, полагая, что это сделано по воле Н. Ф. Бельчикова.После кончины Н. К. Гудзия в 1965 году руководство Комиссии перешло именно к Н. Ф. Бельчикову, который был директором Пушкинского Дома в 1949‒1953 годах. Этот период известен многими идеологическими проработками, нередко имевшими серьезные последствия.8 При обсуждении вышедшей в 1952 году книги П. Н. Беркова «История русской журналистики», сохраняющей и поныне свое научное значение, работа была подвергнута необоснованной критике и названа некоторыми участниками «порочной» в идеологическом отношении.На первом же пленарном собрании Комиссии под новым руководством, проходившем 31 октября 1966 года в Пушкинском Доме, П. Н. Берков снова выступил с докладом, текст которого публикуется впервые. Здесь были повторены некоторые положения предыдущего выступления, но добавлено немало нового. Очень остро был поставлен вопрос об общественном авторитете литературоведческой науки. Понимая, что многие высказанные им тезисы могли вызвать и негативную реакцию, докладчик предварил свою речь следующим заявлением: «Считаю своим долгом предупредить, что буду излагать не мнения бюро Комиссии, а свои личные взгляды, и поэтому, если в дальнейшем будут высказаны возражения и моя точка зрения будет оспорена и даже отвергнута, то вина должна будет пасть не на председателя Комиссии и не на ее Бюро, а только и единственно на меня». Павел Наумович очень подробно говорил о научных заслугах филологов, связанных с формализмом, хотя сам не был участником этого направления науки. Одновременно ученый выдвигал целый ряд задач, которые, по его мнению, стояли перед Комиссией по истории филологических наук. В докладе упоминаются имена очень многих исследователей, что свидетельствует о стремлении автора дать представление о самых разных исследовательских подходах и выявить тенденции, наиболее важные и плодотворные для науки.Часть проектов, которые предлагались членами Комиссии, были впоследствии осуществлены современными исследователями: изданы труды А. Н. Веселовского,9 Л. Б. Модзалевского10 и других ученых; опубликованы материалы по истории Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, в том числе статья Я. К. Грота;11 появился фундаментальный коллективный труд о Пушкинском Доме.12Сейчас, через более полувека после того, как П. Н. Берков выступил с этим докладом, некоторые оценки представляются полемически заостренными и спорными; многое может показаться само собой разумеющимся. В частности, неоспоримыми нам теперь представляются заслуги формалистов.13 Но для того времени такое выступление было смелым и открывало новые перспективы для дальнейшего развития нашей науки.14 Значительная часть задач, о которых говорил П. Н. Берков, актуальна и поныне. Главное же, этот доклад учит отношению к своим предшественникам в целом, пониманию того, что история науки должна быть предметом нашего постоянного внимания и изучения.Автограф текста доклада П. Н. Беркова хранится в Санкт-Петербургском филиале Архива Российской академии наук: Ф. 1047. Оп. 97. № 195. В рукописи доклад озаглавлен «Задачи истории советской филологической науки на современном этапе». В сохранившейся машинописной копии в заглавие внесено изменение: «Задачи истории советского литературоведения».П. Н. БерковЗАДАЧИ ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕВозникновение Комиссии по истории филологической науки (сокращенно КИФН), которая в будущем году сможет отпраздновать десятилетие своей деятельности, формально связано с проводившейся советскими филологами подготовкой к IV Международному съезду славистов, состоявшемуся в Москве в 1958 г. На одном из заседаний Международного организационного комитета славистов было принято решение создать как национальные комиссии по истории филологической науки, так и центральную комиссию при Международном Комитете славистов. В соответствии с этим постановлением в 1957 г. в Москве была организована советская комиссия под председательством действительного члена Украинской Академии наук Н. К. Гудзия,15 который возглавлял ее до конца своих дней, до 29 октября 1965 г. После смерти первого председателя КИФН руководство ее перешло к чл.-корр. АН СССР Н. Ф. Бельчикову.16 Настоящее заседание является первым пленарным собранием КИФН под новым руководством, и это обстоятельство не только делает оправданным, но и настоятельно необходимым обмен мнениями о задачах истории советской филологической науки на современном этапе.Выступая перед вами с настоящим докладом, считаю своим долгом предупредить, что буду излагать не мнения бюро Комиссии, а свои личные взгляды, и поэтому, если в дальнейшем будут высказаны возражения и моя точка зрения будет оспорена и даже отвергнута, то вина должна будет пасть не на председателя Комиссии и не на ее Бюро, а только и единственно на меня.Дело в том, что в работе КИФН с самого начала ее деятельности наметились две линии, не исключающие, впрочем, друг друга, а только дополняющие одна другую и, скорее, даже не противостоящие друг другу, а признавая одна другую, настаивавшие на перенесении акцента на изучение определенного материала, определенного периода.Чтобы только что сказанное стало более понятным, – а это необходимо, так как оно имеет непосредственное отношение к предмету настоящего заседания, – мне нужно вернуться к началу моего доклада.Говоря о возникновении КИФН, я, – если товарищи обратили внимание, – сказал, что оно формально связано с подготовкой к IV Международному съезду славистов. Однако, помимо формального повода для возникновения КИФН, были и в самой советской действительности, в состоянии нашей филологической науки глубокие идейно-политические общественные причины, требовавшие создания научного центра по исследованию истории нашей филологии.Этими причинами было обусловлено состояние советского литературоведения и языкознания и даже не столько их состояние, сколько их невысокий, а если прямо говорить, – их низкий общественный авторитет. Совершенно закономерно, что от низкого престижа советской филологии проистекали и проистекают многие бедствия нашей науки – полупрезрительное и даже вполне презрительное отношение к Отделению литературы и языка в Президиуме АН СССР и связанные с этим даже проекты закрыть наше Отделение вообще или слить его с Отделением истории или философии, трактовка филологических наук как некоей quantité négligeable17 в Комитете по Ленинским и Государственным премиям,18 еле скрываемая нетерпимость к литературоведам в Союзе советских писателей и т. д.Как же случилось, что советская филологическая наука дошла до такого незавидного состояния? Ведь в дореволюционное время и в первые 10‒15 лет после 1917 года русская филологическая наука не могла жаловаться на отсутствие общественного авторитета. Она начала утрачивать его на рубеже 20-х и 30-х годов и в особенности позже в 40-е годы. Как же это произошло и почему?Начнем с ответа на последний вопрос.Те, кто интересовался историей нашей науки и кто принимал участие в ее истории последние 50‒40 лет, ‒ а среди современных советских филологов есть еще немало живых участников этой истории, ‒ те знают и помнят, что русская филология, в особенности литературная наука в конце XIX ‒ начале XX вв. переживала период упадка: в 1893 г. умер Н. С. Тихонравов,19 в 1897 г. – Ф. И. Буслаев,20 в 1904 г. – А. Н. Пыпин,21 в 1906 г. – А. Н. Веселовский22 и, наконец, в 1913 г. – В. Ф. Миллер.23 Академическое литературоведение следующего поколения не выдвинуло ни одного ученого, который бы мог быть поставлен на один уровень с корифеями. Характерно, что именно с конца XIX века в академической среде стали делаться попытки если не пересмотра, то, по крайней мере, смотра состояния русского литературоведения – стали появляться статьи, брошюры и книги В. Ф. Шишмарева,24 М. Н. Розанова,25 В. В. Сиповского,26 А. С. Архангельского,27 А. М. Евлахова28 и др., свидетельствовавшие о том, что их авторы осознавали или, по крайней мере, ощущали какое-то неблагополучие в своей научной области.Другим проявлением осознанного застоя в русской историко-литературной науке начала XX в. было возникновение, взамен библиографических и биографических исследований, сначала робких, а затем более уверенных опытов изучения стиля литературных произведений, – в области древнерусской литературы работы А. С. Орлова29 и В. Н. Перетца,30 в области литературы XVIII‒XIX вв. – работы В. Н. Перетца и И. Е. Мандельштама.31Эти попытки делались тихо, скромно, без каких-либо теоретических деклараций, и поэтому в свое время прошли почти незаметными для современников. Но сейчас на историческом отдалении, равном двум третям века, для нас ясно, что формализм, сыгравший затем такую большую роль в 20-е годы, был детищем именно того течения в русской академической литературной науке, которое характеризуется именами А. С. Орлова, В. Н. Перетца и И. Е. Мандельштама.Однако упадок в конце XIX ‒ начала XX в. переживала не только русская академическая литературная наука, но и литературная критика. Никто из действовавших в начале XX в. журнальных литературных критиков не пользовался таким влиянием и авторитетом, как в свое время Белинский, Чернышевский, Добролюбов и Писарев. Единственный из литературных критиков-журналистов, который приближался по своему общественному значению и влиянию к критикам-революционным демократам, был Н. К. Михайловский,32 умерший в 1904 г., но и его авторитет был сильно поколеблен неудачной для него полемикой с Г. В. Плехановым33 и В. И. Лениным.34 Как и в академической историко-литературной науке, в народнической и либеральной, не говоря уже о реакционной, журнальной литературной критике начала XX в., не было никаких крупных имен. Только в марксистской критике действовали выдающиеся критики – прежде всего уже называвшиеся Г. В. Плеханов и В. И. Ленин, а затем А. В. Луначарский,35 В. В. Воровский36 и некоторые другие. Однако было бы историческим неправдоподобием, если бы мы стали утверждать, что работы названных критиков-марксистов оказывали в дореволюционное время какое-либо прямое или косвенное воздействие на развитие академического литературоведения: даже В. М. Фриче,37 П. С. Коган38 и В. Ф. Переверзев,39 тогдашние приват-доценты столичных университетов, считавшие себя и считавшиеся другими – марксистами, строили свое марксистское литературоведение независимо от Плеханова и Ленина.Набросанная в общих чертах картина состояния русского литературоведения перед Октябрьской революцией остается правильной и для первых послереволюционных лет, но со значительными изменениями: марксизм из преследуемого ранее «течения» становится ведущим, руководящим философским принципом, господствующей идеологией, которую усвоили десятки и сотни тысяч молодых советских интеллигентов, ‒ студентов, рабфаковцев, слушателей народных университетов и лиц, занимающихся самообразованием.Но опять-таки было бы искажением исторической правды утверждать, что в 20-е годы марксизм сразу преобразовал русскую литературную науку. Предстояла длительная, растянувшаяся почти на сорок лет, борьба молодых марксистов со старым дореволюционным литературоведением и его продолжателями в пооктябрьский период. В 20-е годы – начале 30-х годов из недр доживавшего свой век академического литературоведения, крупнейшими представителями которого были тогда академики В. М. Истрин,40 М. Н. Сперанский,41 члены-корреспонденты Д. И. Абрамович,42 В. В. Сиповский и др., выдвинулись ученые, которые пытались то с бо́льшим, то с меньшим успехом и даже иногда с полным неуспехом усвоить марксизм и применить его на практике. Их имена – П. Н. Сакулин,43 А. С. Орлов, В. Н. Перетц и др.Однако наибольшего расцвета достигла в 20-е годы так называемая формальная школа, представленная именами В. Б. Шкловского,44 Б. М. Эйхенбаума,45 Ю. Н. Тынянова,46 В. В. Виноградова,47 Б. В. Томашевского,48 Г. А. Гуковского,49 а также занимавшего особую позицию В. М. Жирмунского50 и др.Молодое марксистское литературоведение 20-х годов, еще не успевшее по-настоящему усвоить идеи марксизма в том виде, как они сформулированы Марксом – Энгельсом и Лениным или даже Плехановым, а воспринявшее от Фриче, Переверзева, Когана, П. И. Лебедева-Полянского,51 Н. И. Бухарина52 и др. то, что в те времена понималось и принималось как марксизм, вело ожесточенную полемику со всеми сколько-нибудь значительными не-марксистскими течениями в нашем литературоведении. Иными словами, полемика велась с позиций вульгарного социологизма. Лишь в 30-е годы началось в советской литературной науке настоящее серьезное, глубокое изучение не только «высказываний» классиков марксизма-ленинизма о литературе, но и самих первоисточников, самого метода марксизма.Полемика с не-марксистскими течениями, ведшаяся в 20-е годы с позиций вульгарного социологизма, имела ту особенность, что сводилась к политическим квалификациям. Плохо поняв положение Плеханова о необходимости критику отыскивать «социологический эквивалент», вульгарно-социологические полемисты 20-х годов обвиняли своих противников из лагеря академического литературоведения и из числа участников «формальной школы» в том, что они якобы являются агентурой классового врага, что их историко-литературные работы представляют диверсию на идеологическом фронте и т. д. В 20-е годы эти политические квалификации не имели такого одиозного значения, как в более позднее время, и спокойное отношение органов политического надзора к подобным печатным обвинениям многих честных советских ученых является лучшим опровержением этих вздорных инсинуаций.Но не эта полемика подействовала на формалистов, не политические запугивания, а, с одной стороны, изучение в 30-е годы, вместе с марксистским литературоведением, первоисточников марксизма-ленинизма и в результате этого уяснение собственных ошибок, и, с другой стороны, ‒ появление в конце 20-х – начале 30-х годов более или менее удачных опытов литературоведения, основанных на подлинном научном марксизме-ленинизме, ‒ работы В. А. Десницкого, А. В. Луначарского, книга А. И. Белецкого «Маркс и Энгельс о литературе»53 и др.Однако авторитет советского литературоведения, сильно подорванный дискуссиями 20-х годов, продолжал падать в результате непрекращавшейся полемики 30-х – 40-х годов – сначала с вульгарным социологизмом, затем с так называемым «безродным космополитизмом», «веселовщиной» и прочими «проявлениями буржуазной идеологии». Заодно было полностью опорочено и отвергнуто все дореволюционное русское литературоведение от Буслаева и до Сакулина включительно. В период культа личности из досоветских литературоведов ссылаться можно было только на революционных демократов, взгляды которых считались непогрешимыми и рассматривались вне исторической обусловленности, вне учета уровня историко-литературных знаний их эпохи.Таково было положение в советском литературоведении к середине 50-х годов. Не приходится и говорить, что создававшаяся обстановка удовлетворяла далеко не всех советских литературоведов. Уже во время полемики по поводу «веселовщины» и даже после нее раздавались голоса отдельных ученых против огульного отрицания заслуг старого литературоведения. Особенно значительны в этом отношении заслуги покойного Н. К. Гудзия, которого справедливо называли при его жизни «совестью советского литературоведения». В 1956 г. он печатает в «Литературной газете» статью «Забытые имена (Ф. И. Буслаев, А. Н. Веселовский)». В том же году он издает книжечку «Николай Саввич Тихонравов», в следующем году в «Вестнике Московского университета» была опубликована его же статья «О русском литературоведческом наследстве» («Вестник Моск университета», 1957, вып. 1, с. 128‒140).Если мы обратим внимание на то, что перечисленные работы Н. К. Гудзия были напечатаны в 1956‒1957 гг., и вспомним, что Комиссия по истории филологической науки, председателем которой он был избран, была организована в 1957 г., станет ясным, что Николай Каллиникович рассматривал создание КИФН как одно из средств реабилитации «забытых имен» в русском литературоведении и нашу задачу видел в разработке истории русского дореволюционного литературоведческого наследства, в публикации неизданных произведений старых историков литературы, их писем и переписки, воспоминаний и тому подобных материалов, а также в переиздании особо ценных трудов дореволюционных литературоведов.Уже на первом заседании КИФН мною была высказана несколько другая точка зрения. Советское литературоведение ко времени создания Комиссии насчитывало сорок лет существования, то есть немногим менее, чем длился дореволюционный период русского литературоведения, если считать с 50-х – 60-х годов прошлого века, когда началась научная деятельность Ф. И. Буслаева, Н. С. Тихонравова и А. Н. Пыпина (А. Н. Веселовский выступил позднее). Поэтому отдавать предпочтение дореволюционному периоду перед советским мне представлялось и представляется неправильным даже с чисто хронологической стороны. Кроме того, я глубоко убежден, что в советский период выдвинулось много литературоведов, которые по характеру своих трудов не уступают дореволюционным корифеям и даже превосходят их, и в целом советское литературоведение много выше дореволюционного.Конечно, изучение досоветского периода значительно легче и, главное, спокойнее, но, по моему мнению, наша задача в первую очередь должна состоять в том, чтобы научно, строго беспристрастно изучить драматичный и полный захватывающего интереса советский период нашей литературной науки.Таким образом, уже на первом заседании Комиссии обозначились две точки зрения, которые, повторяю, отнюдь не были диаметрально противоположными, а, напротив, дополняли одна другую. Для нас было бесспорным, что строгая научная деятельность Комиссии сможет восстановить общественный авторитет нашей науки, утраченный в предыдущие десятилетия в результате изложенных выше причин. Для нас было ясно, что в этом процессе восстановления престижа нашего литературоведения должно быть уделено внимание как добросовестному анализу деятельности дореволюционных ученых, так и непредвзятому, спокойному исследованию огромного вклада, внесенного в науку литературоведами советского периода. Вопрос мог идти о том, в какой мере должно распределиться наше внимание в отношении этих двух периодов. Мне кажется, в последующие восемь лет Комиссия нашла правильный путь, не уклоняясь ни в одну только старину, ни в одну современность и обнаружив должную серьезность в выборе публикуемых материалов. Правда, Комиссия до сих пор печатает только книги, представляющие сборники статей умерших советских литературоведов, например, Н. Л. Бродского,54 В. В. Гиппиуса55 и т. п. К сожалению, никаких исследований по истории русской литературной науки мы не опубликовали, никаких монографических очерков о дореволюционных и советских литературоведах мы не напечатали, даже первого тома «Трудов КИФН» нам так-таки не удалось создать, несмотря на неоднократные обсуждения этого вопроса.С этого момента я буду говорить только о литературоведении. Дело в том, что когда Комиссия возникла – в 1957 г. – она сразу разделилась на две секции: языкознания и литературоведения. Языковеды поработали некоторое время и, не объясняя своей аргументации, прекратили деятельность своей секции. Осталась только секция литературоведения. Я лично полагаю, что секция языкознания благоразумно прекратила свою деятельность, потому что столкнулась с тем, что необходимо переиздание трудов языковедов, которые в политическом и общественном отношении достаточно известны и даже одиозны, а в научном отношении их работы необходимы. Поэтому, для того, чтобы не поднимать теоретических споров, секция сочла нужным прекратить свою деятельность.В течение восьми лет работы Комиссии под руководством Н. К. Гудзия у нас были периоды подъема и некоторого спада, зависевшие от состояния здоровья председателя КИФН и от степени активности ее секретарей – сначала М. В. Козьмина,56 затем З. С. Шепелевой,57 в последующие несколько лет болевшей раком, и нынешнего секретаря А. И. Кузьмина.58В 1960 г., в один из периодов подъема деятельности КИФН, по предложению Н. К. Гудзия на пленарном заседании Комиссии мною был сделан доклад «Современные задачи истории русского литературоведения дореволюционного и советского периода». В этом докладе я поставил ряд вопросов, связанных с тем, как, по моему мнению, должна строиться история нашей литературной науки. Я поставил три вопроса:а) соотношение дореволюционного русского литературоведения, изучавшего в основном русскую литературу, начиная с фольклора и древнерусской литературы до литературы начала XX века, отчасти занимавшегося обособленными исследованиями античной литературы, литератур западных и славянских и – уж совсем отчасти – восточными литературами, и литературоведения советского периода, чрезвычайно разветвившегося, включающего изучение таких литератур, каких в дооктябрьский период и не существовало, как например, советская русская литература, литература народов СССР, литературы социалистических стран и освобождающихся колониальных стран и т. д.б) Что значит изучать историю литературной науки? Исходя из того, что история литературной науки есть история смены воззрений на историко-литературный процесс какого-либо народа, история, опирающаяся на материалы печатные и архивные, я полагаю, что ответ должен состоять из двух частей: первая – это формула В. И. Ленина в рецензии на труд Н. А. Рубакина «Среди книг»:59 «История идей есть история борьбы идей», и вторая часть ответа – в историю литературной науки должна входить история материальной базы литературной науки – библиотек, архивов, литературных музеев, литературных и литературоведческих обществ, институтов, научных учреждений и учебных заведений, а также журналов, библиографий, научных съездов, юбилеев и т. п.в) Соотношение русской литературной науки и западноевропейской, включая при этом работы иностранных ученых по русской и советской литературам.Мой доклад был принят с одобрением, но по указанной выше причине – болезни сначала секретаря З. С. Шепелевой, а затем председателя Н. К. Гудзия – не реализован.Скажу откровенно – когда нынешний председатель нашей комиссии Н. Ф. Бельчиков предложил мне сделать на сегодняшнем заседании доклад, я полагал, что смогу положить в его основу свое неопубликованное выступление 1960 г. и лишь отчасти должен буду его дополнить. Перечитав свой старый текст, я увидел, что можно было бы просто огласить его без каких-либо изменений, так как он, как мне представляется, и сейчас не утратил своего принципиального значения. Однако мне показалось более правильным написать новый доклад, специально освещающий задачи истории советской филологической науки на современном этапе.Из того, что было изложено мною в начале настоящего выступления, уже можно сделать некоторые выводы. Я прибавлю несколько соображений.В последние годы советское литературоведение все с большей уверенностью реабилитирует отдельные периоды в истории русской литературы, которые еще недавно находились под запретом для исследователей, ‒ классицизм, романтизм, отчасти поэзия «чистого искусства», отчасти, ‒ очень еще робко – символизм и, вероятно, завтра, ‒ футуризм и имажинизм. Я полагаю, что в истории нашей литературной науки необходим такой же пересмотр отношения к литературоведческим работам не только А. Н. Веселовского, Ф. И. Буслаева, А. Н. Пыпина, Н. С. Тихонравова, но и к работам позитивистов 70-х – 80-х годов – Н. И. Кареева60 (кстати, об одной из работ Кареева вспомнил проф. Б. С. Мейлах61 в новой очень интересной работе, помещенной в сборнике «Вопросы методологии литературоведения»), В. Плотникова,62 П. Д. Боборыкина63 о европейском романе, А. А. Шахова64 и др., а также к трудам академических литературоведов 90-х и 900-х годов и более позднего времени. Такой же пересмотр необходим и в отношении литературоведческих работ символистов, ‒ не только стиховедческих исследований В. Я. Брюсова и А. Белого.В этой связи я считаю целесообразным предложить отказаться от привычных эпитетов: «дворянско-буржуазный литературовед», «либерально-буржуазный», «мелко-буржуазный» и т. д. Термины «дореволюционный литературовед» и «академический литературовед такого-то времени» вполне достаточны для социально-политической характеристики того или иного ученого.Предшествующими моими предложениями мои слушатели уже подготовлены к тому, что я сейчас скажу: мы должны решительно пересмотреть существующую среди многих из нас устарелую и неправильную оценку формализма 20-х годов. Его ошибка заключалась в том, что он считал свою задачу формального изучения литературы единственно возможной и научной формой литературоведческого исследования, а самого себя – единственно научным течением в литературной науке. Дальнейшая судьба русского формализма показала, что он был не агентурой классового врага на литературоведческом фронте и работы формалистов не представляли собой злонамеренных диверсий в советской литературной науке. Мы сейчас справедливо гордимся именами наших выдающихся литературоведов (перечисляю в алфавитном порядке, как живых, так и умерших) – В. В. Виноградова, Г. А. Гуковского, В. М. Жирмунского, Б. В. Томашевского, Ю. Н. Тынянова, В. Б. Шкловского, Б. М. Эйхенбаума и других, – в прошлом формалистов. Почему же и как же они стали выдающимися советскими литературоведами, когда в 20-е – 30-е годы были «представителями враждебного литературоведения»?У нас есть готовый ответ-формула: «…они преодолели ограниченность своего буржуазного мировоззрения». А применительно к другим лицам, например, писателям, мы несколько варьируем эту формулу: «…такой-то писатель, ‒ скажем Бунин, ‒ по ограниченности своего дворянского мировоззрения не мог понять и принять революцию». Значит, выходит, одни могут преодолеть свое классово-ограниченное мировоззрение, а другие – не могут. Иными словами, виновата не классовая ограниченность мировоззрения, а желание или нежелание преодолеть ее, способность или неспособность преодолеть.Если так, то возникает вопрос, почему у одних оказывается желание и способность преодолеть, а у других – желания или способности преодолеть не оказывается. Значит, пресловутая формула-отмычка об «ограниченности» классового мировоззрения ничего не объясняет. Так получается и с формалистами: они стали выдающимися советскими литературоведами, потому что развивались вместе со всем советским народом, потому что они и в 20-е годы были советскими гражданами и советскими патриотами, а не агентурой классового врага.До сих пор мы говорили об ошибках формалистов. Но надо не только «прощать» их ошибки, которые требуют не прощения, а исторически правильного понимания; надо прямо и отчетливо говорить об их больших заслугах, ‒ о том, что они впервые в советское время поставили и по-своему правильно решали вопрос о художественной специфике литературы. Они не понимали социально-обусловленной специфики художественного творчества, в этом их беда; на это им указали литературоведы-марксисты и, в частности В. А. Десницкий,65 о чем мы, к сожалению, забываем или даже забыли. Но тот же В. А. Десницкий признавал заслугу формалистов в постановке этого кардинального вопроса нашей науки. Чем было наше марксистское литературоведение 20-х – начала 30-х годов, периода господства Переверзева, Фриче, Когана, Лебедева-Полянского (Луначарского я отделяю – он – особь статья)?Это была вульгарно-социологическая публицистика, стремившаяся нацепить определенный классовый ярлык на писателя, даже мирового значения, как например Шекспира, Гете, Пушкина, Адама Мицкевича. Найдя соответствующий, как им казалось, «социологический эквивалент», литературоведы 20-х годов считали свою задачу выполненной. Деятельность формалистов была поэтому полезной, так как она напомнила исследователям о литературной специфике, потому что она показала наиболее чутким из старых литературоведов-марксистов, ‒ Десницкому, Луначарскому, что старыми методами литературоведения 20-х годов создать подлинно марксистко-ленинскую науку о литературе нельзя. Полемика с формалистами заставила нас обратиться к Марксу и Энгельсу и Ленину, но не для того, чтобы отбросить достижения формалистов, а для того, чтобы с марксистско-ленинских позиций объяснить то, чего формалисты объяснить не могли, а могли только описать.Таким образом, повторяю, мы должны не «прощать» формалистов, а подлинно марксистско-ленински понять их историческую роль.Но если мы так много говорили в защиту формалистов и так обвиняли вульгарных социологов, то это вовсе не означает, что мы должны целиком и полностью зачеркнуть деятельность последних в советской литературной науке. Вульгарные социологи также имеют право на исторически справедливое отношение к себе. Они во многом ошибались, они принесли много вреда своей манерой политической оценки противников, но и у них мы можем кое-чему научиться, конечно, критически проанализировав и оценив их работы.Несколько времени назад в нашем литературоведении раздавались справедливые упреки по адресу отдельных исследователей, совершенно забывших о том, что искусство вообще и, в частности, художественная литература создается в классовом обществе и отражает и выражает социальную обстановку и играет определенную роль – положительную или отрицательную – в общественной жизни, в конечном счете – в классовой борьбе. И в этом отношении нельзя полностью отвергать раз навсегда работы вульгарных социологов: учиться и научиться можно и у них.Не стану подробно останавливаться и на работах сторонников «теории единого потока».66 Из сказанного выше можно заключить, какова наша позиция в отношении их. Учиться можно и у них, но под словом «учиться» я понимаю не механическое усвоение, не создание эклектической литературоведческой мешанины, а внимательный, строгий анализ и отбор с позиций научного марксизма-ленинизма.На этом я заканчиваю то, что я позволю себе назвать теоретической частью, и перейду к своему краткому изложению практических задач, которые, по моему мнению, должны стать перед нашей Комиссией. Этих задач, по-моему, четыре.1. Необходимо создать рассчитанный на много лет план издания «Библиотеки советского литературоведения», в которой должно быть три серии: а) дореволюционные русские литературоведы, б) советские русские литературоведы, в) литературоведы народов СССР, как дореволюционные, так и советские. В эту «Библиотеку советского литературоведения» должны входить: а) сборники наиболее видных изданных и неизданных работ того или иного литературоведа, причем возможно переиздание и монографий, б) тематические сборники статей разных авторов, например, целесообразно, по-моему, переиздать работы о задачах истории литературы как науки, начиная со статьи Н. П. Дашкевича,67 М. И. Сухомлинова,68 И. Франко69 и т. д.; в) хронологические сборники статей разных авторов, например, «Литературоведы-позитивисты» или «История литературы у символистов», или «Проблемы стихосложения в 10-е, 20-е годы» и т. д.2. Необходимо создать также серию «Русские дореволюционные и советские литературоведы, включая литературоведов народов СССР». Эта серия должна представлять небольшие монографии по 3‒6 печ. листа об отдельных ученых или литературоведческих направлениях.3. На основе материала первых двух пунктов должны быть созданы опыты «Истории русской дореволюционной и советской литературной науки» и отдельные истории литературоведения у разных народов СССР.4. КИФН должна, наконец, приступить к регулярному изданию своих «Трудов», которые должны знакомить советскую общественность с работой Комиссии. Ведь странно подумать, Комиссия существует почти десять лет, а в печати не было ни одной заметки, ни одного обзора ее деятельности. Даже мы, члены КИФН, не можем сразу, быстро перечислить работы, изданные с грифом нашей Комиссии, нам приходится вспоминать и кое-чего мы, вероятно, и не сможем вспомнить. А ведь издания с маркой КИФН – это единственная форма, в которой мы заявляем о своем существовании.Мы видели, что наша Комиссия возникла с целью поднять общественный авторитет советского литературоведения, утраченный в результате ряда прискорбных обстоятельств. И если мы хотим добиться этой цели, мы должны приложить всемерные усилия к тому, чтобы осуществить намеченные задачи.И как можно скорей, и как можно лучше!×
About the authors
Nataliia Dmitrievna Kochetkova
Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom), Russian Academy of SciencesRussian Federation,
References
- Азадовский К., Егоров Б. "Космополиты" // Новое литературное обозрение. 1999. № 36.
- Александр Веселовский. Актуальные аспекты наследия: Исследования и материалы / Отв. ред. В. Е. Багно, А. В. Лавров, П. Р. Заборов. СПб., 2011.
- Берков П. Н. Введение в изучение русской литературы XVIII века. Ч. 1. Очерк литературной историографии XVIII века. Л., 1964.
- Веселовский А. Н. Избр. труды и письма / Отв. ред. П. Р. Заборов. СПб., 1999.
- Дружинин П. А. Идеология и филология. Ленинград, 1940-е годы: Документальное исследование. Т. 1-2. М., 2012.
- Дружинин П. А. Филологический факультет Московского университета в 1949 году. Избранные материалы // Литературный факт. 2016. № 1-2.
- "Искренне Ваш Юл. Оксман" (письма 1914-1970-го годов) / Публ. М. Д. Эльзона; предисловие В. Д. Рака; прим. В. Д. Рака и М. Д. Эльзона // Русская литература. 2004. № 2.
- "Младоформалисты". Русская проза / Сост. Я. Левченко. СПб., 2007.
- Модзалевский Л. Б. М. В. Ломоносов и его литературные отношения в Академии наук. Из истории русской литературы и просвещения середины XVIII века / Отв. ред. И. В. Тункина. СПб., 2011 (сер. "Ad Fontes. Материалы и исследования по истории науки"; вып. 1).
- Отделение русского языка и словесности Императорской Академии наук за первые 50 лет его деятельности: 1841-1891 гг.: Сб. документов / Сост. Е. Ю. Басаргина, О. А. Кирикова; отв. ред. И. В. Тункина. СПб., 2016.
- Переписка Ю. Г. Оксмана и Н. К. Гудзия (1930-1965) / Вступ. статья, подг. текста и комм. М. А. Фролова // Русская литература. 2021. № 1.
- Пушкинский Дом: Материалы к истории. 1905-2005. СПб., 2005.
- Соловьев А. Ю. Вклад Опояза в изучение русской литературы путешествий // Эйхенбаумовский сборник / Сост. и ред. К. В. Сарычева. М., 2020.
- Устинов Д. Формализм и младоформалисты. Статья первая: постановка проблемы // Новое литературное обозрение. 2001. № 50.
- Хализев В. Е. Отечественное литературоведение в эпоху господства марксизма-ленинизма. 1930-1980-е годы // Памяти Анны Ивановны Журавлевой: Сб. статей. М., 2012.
- Шепелева З. С. В Комиссии по истории филологических наук // Изв. Академии наук СССР. Отд. литературы и языка. 1962. Т. 21. Вып. 6.
- Якобсон Р. Формальная школа и современное русское литературоведение [1935] / Ред.-сост. Т. Гланц; ред. Д. Сичинава / Пер. с чешского Е. Бобраковой-Тимошкиной. М., 2011.