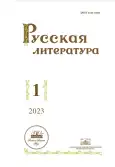LETTERS OF JOSEPH DE MAISTRE TO ROXANA STURDZA: TOWARDS THE ISSUE OF COMMUNICATION STRATEGIES OF A SARDINIAN DIPLOMAT AT THE RUSSIAN COURT
- Authors: Pantina M.V.1
-
Affiliations:
- Université Paris Sorbonne
- Issue: No 1 (2023)
- Pages: 98-112
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0131-6095/article/view/126742
- DOI: https://doi.org/10.31860/0131-6095-2023-1-98-112
- ID: 126742
Full Text
Abstract
Joseph de Maistre, who found himself in the diplomatic service in Russia after the events of the French Revolution, used the high-society salons of St. Petersburg to established connections at court, and corresponded with the key figures of the time. The Savoy envoy earned a reputation of an advocate of Catholicism, and numerous conversions in the highest circles of the Russian society are attributed to his influence. His correspondence with Roxana Sturdza differs, however, from the messages addressed to other members of the Russian aristocracy of that time, and deserves separate consideration due to the variety of communication strategies of the Savoyard diplomat. Letters to Roxana cover almost the entire period of Joseph de Maistre’s stay in Russia, with the first one dating back to 1805 and the last one referring to 1817; apart from the personal relations of the correspondents, the letters let us trace the impact that the historical events of Alexander I’s reign made on the patterns of communication between the diplomat and the Emperor’s lady-in-waiting.
Keywords
Full Text
©М. В. ПантинаПИСЬМА ЖОЗЕФА ДЕ МЕСТРА К РОКСАНЕ СТУРДЗА: К ВОПРОСУ О КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЯХ САРДИНСКОГО ДИПЛОМАТА ПРИ РОССИЙСКОМ ДВОРЕ1Переписка между Жозефом де Местром и Роксаной Стурдза начинается вскоре после переезда первого в Петербург. На тот момент дипломату было 50 лет. Его корреспондентка Роксана Стурдза моложе его на 30 лет и начинает карьеру императорской фрейлины при дворе. На первый взгляд, у них немного общего…Де Местр до Французской революции всерьез не занимался ни философией, ни литературой. Из-за политических пертурбаций он был вынужден бежать в Швейцарию. Эмиграция подтолкнула де Местра выстраивать новую стратегию политической и дипломатической службы, и он решает выступить с публицистической работой «Письма савойского роялиста» в 1793 году, а затем публикует «Рассуждения о Франции» в 1797 году.2 Таким образом он заявляет о своих контрреволюционных политических позициях и ищет доверия у правящих монархов. Эта стратегия увенчалась успехом, и он получает должность посланника короля Сардинии в Санкт-Петербурге. В столице России его имя уже известно и ассоциируется с католической контрреволюционной мыслью, и в дальнейшем философ станет ключевой фигурой для развития русской консервативной мысли.3Пользуясь своей литературной и политической репутацией, дипломат выстраивает коммуникацию с петербургской аристократией преимущественно в салонах, которые, как и во Франции, служат связующим звеном между царским двором и жизнью города, дворянской элиты.4 Цели этого общения самые разнообразные. С одной стороны, дипломат ищет связи для того, чтобы лучше выполнять свои прямые обязанности при дворе Александра I. С другой стороны, де Местр, воспитанник иезуитов, способствует продвижению ордена в России и, в частности, принимает активное участие в открытии Полоцкой Академии. Впоследствии сардинского посланника обвинят в католическом прозелитизме, и это станет одной из причин окончания его службы при дворе российского императора. В основном обращения в католицизм были среди дам высшего света, с которыми философ вел переписку и общался в салонах.5 Также со временем де Местр стал играть видную политическую роль при дворе Александра I: он участвовал в заговоре против Сперанского,6 а в 1812 году получил предложение принять русское подданство и стать секретарем Александра I. Однако де Местр отказался и предпочел остаться на службе короля Сардинии.Роксана Стурдза на момент начала общения с сардинским посланником не обладала ни его авторитетом, ни положением в обществе. Семья Роксаны покинула Молдавию под влиянием политических обстоятельств. Во время русской оккупации с 1788 по 1791 год, отец Роксаны, Скарлат Стурдза, командовал отрядом из 400 солдат и был на русской стороне. Согласно Ясскому мирному договору 1791 года земли Скарлата Стурдзы оставались в зоне турецкого влияния. Опасаясь расплаты за прорусские настроения, Скарлат Стурдза cогласился принять предложение русских дипломатов переехать в Россию.7 Эмиграция семьи Стурдза не была единичным случаем: русско-турецкая война послужила катализатором греческой эмиграции преимущественно на юг России.8 Семья Стурдза сначала переезжает в поместье, располагавшееся в деревне Устье (на территории современной Белоруссии). В своих мемуарах Роксана вспоминает, что их состояние осталось в руках чужеземцев,9 и семья не могла позволить себе сразу переехать в столицу. Соседями семьи Стурдза по поместью были Чичаговы. Последние пережидали опалу со стороны Павла I.10 С приходом к власти Александра I семья Стурдза, так же, как и Чичагов, переезжают в Санкт-Петербург.Роксана начинает свою карьеру при дворе и посещает салон Чичагова, где и происходит ее знакомство с Жозефом де Местром. Впоследствии Роксана и ее брат Александр Стурдза сыграют важную политическую роль в формировании идей Священного Союза, а также в освободительном движении Греции.11 Однако на момент знакомства с савойским посланником их положение в обществе отличается, и Роксана рада покровительству опытного дипломата.Переписка, начавшаяся в 1805 году и закончившаяся в 1817-м, охватывает практически весь период пребывания Жозефа де Местра в России и представляет собой пример коммуникативных практик, которые дипломат и мыслитель использовал для влияния при дворе. Роксана Стурдза была не единственной корреспонденткой де Местра. Сардинский посланник состоял в переписке с другими светскими дамами петербургского общества, зачастую преследуя цель обращения в католицизм. В его собрании сочинений мы можем найти письма к жене и к дочери, с которыми он был в разлуке большую часть петербургского периода. Однако все эти письма отличает меньшая эмоциональность и большая дистанция: некоторые автор находил нужным издать,12 справедливо оценивая их наравне с философскими произведениями, что исключает частный характер переписки. Письма к дочери носят зачастую поучительный характер, и определенная дистанция была задана расстоянием, разделявшим корреспондентов.Переписка с Роксаной тем более интересна, так как, с одной стороны, корреспонденты тесно общаются, и эмоциональный повседневный язык становится частью этих писем. С другой стороны, в отличие от многих других корреспонденток де Местра, императорская фрейлина не разделяла всех убеждений философа, оставаясь верной идеям греческого православия и его политической роли, которое составляло неотъемлемую часть идентичности и истории ее семьи.13 В статье мы постараемся проследить на примере данной корреспонденции, к каким тактикам прибегал савойский философ для убеждения своих собеседников, какие средства использовал для передачи европейских идей русскому читателю, а также рассмотрим его стратегии для достижения дипломатических целей при дворе. Письма де Местра также представляют интерес с точки зрения стилистики и риторики, и мы можем узнать перо литератора и философа на страницах частной переписки.Часть писем де Местра к Роксане, хранящаяся в фонде Александра Стурдзы в ИРЛИ РАН, привлекала внимание исследователей еще в 1930-х годах. Независимо друг от друга, Г. А. Гуковский и А. Н. Шебунин начинают интересоваться темой контрреволюции в Европе. Шебунин в 1925 году публикует книгу «Европейская контрреволюция в первой половине XIX века»,14 а затем продолжает исследования, которые сегодня опубликованы лишь отчасти, но хорошо известны ученым по архивным материалам «Вокруг Священного Союза», хранящимся в ОР РНБ.15В 1932 году Гуковский предлагает главному редактору «Литературного наследства» И. С. Зильберштейну проект книги о европейской контрреволюции, включающую в себя широкий круг деятелей, среди которых Жозеф де Местр и Роксана Стурдза.16 Можно предположить, что исследователь руководствовался желанием охватить большую часть неизданного материала, к которому у него был доступ, а общая характеристика «реакционный лагерь» должна была помочь обоснованию публикации с идеологической точки зрения. В ответном письме Зильберштейн предложил Гуковскому подготовить статью для франко-русского тома «Литературного наследства».17 По всей вероятности, возможности издания не предполагали публикацию книги.Из переписки Гуковского с «Литературным наследством» ясно, что подготовительная работа началась в декабре 1934 года,18 однако, в 1935 году издание публикует статью В. С. Десницкого, содержащую оскорбительные для Гуковского нападки,19 и исследователь решает прекратить работу с издательством.20С этого момента работа над статьей переходит к А. Н. Шебунину, который на тот момент работает по договору в Пушкинском Доме. Сотрудничество «Литературного наследства» с историком продолжается с 1935 по 1937 год, и за это время Шебунин готовит для издания две статьи, одна из которых включает русский перевод писем де Местра к Роксане Стурдза.21 Статья вышла в 1939 году под псевдонимом А. Маркович из-за ареста Шебунина. На сегодняшний день исследователи с уверенностью атрибутируют советскому историку авторство и первой статьи «Жозеф де Местр в России»,22 и выше указанной работы о Р. Стурдзе.23 Советские исследователи преследовали в первую очередь цель опубликовать неизданные материалы, хранившиеся в ленинградских и московских архивах. В результате издание состоялось, и письма де Местра к Роксане Стурдза, хранящиеся в архиве А. Стурдзы в ИРЛИ, были напечатаны в переводе на русский язык.Однако исследователи не смогли включить в статью ту часть писем Местра, которая была издана во Франции.24 Судя по переписке Шебунина с «Литературным наследством», такой выбор был обусловлен требованиями к общему объему публикации, и от некоторых документов приходилось отказываться в пользу сохранения полностью неизданного материала.25Статья снабжена подробным историческим комментарием и, согласно научным традициям того времени, основное внимание уделяется публикации материала и позитивистскому аспекту исследования. Несостоявшееся участие Г. А. Гуковского в написании текста также ощутимо, так как в ней практически отсутствует филологический аспект анализа текстов. В нашей работе мы хотели бы отчасти восполнить этот пробел и на примере этих писем обратить внимание на коммуникативные стратегии де Местра – дипломата и философа. Переписка интересна также с точки зрения трансфера европейских идей в Россию. Важно дополнить исследование корреспонденции де Местра с Р. Струдза корпусом изданных во Франции писем, так как в противном случае создается ложное ощущение лакунарности корреспонденции.Что касается истории издания во Франции, мы знаем, что Роксана доверила часть писем Сен-Бёву в Париже в 1840-е годы для подготовки статьи о савойском философе.26 В эту биографическую статью вошли некоторые выдержки из писем де Местра Роксане, но Сен-Бёв не называет напрямую адресата. Однако сопоставление этих цитат с изданием, предпринятым сыном философа Родольфом де Местром в 1853 году, позволяет заключить, что эти письма остались во Франции и вошли в состав «Lettres et opuscules inédites du Comte Joseph de Maistre».27Все письма де Местра к Роксане Стурдза можно разделить на две части: 12 коротких записок («billets»), написанных между 1805 и 1813 годом, и 9 больших писем, отправленных с 1809 по 1817 год. С 1809 по 1813 год записки, касающиеся повседневной жизни корресподентов, перемежаются с письмами, по большей части отправленными во время заграничного путешествия Роксаны. Все записки и два последних письма хранятся в фонде Александра Стурдзы28 в Пушкинском Доме; семь оставшихся во Франции писем были опубликованы в 1853 году Родольфом де Местром с некоторыми искажениями, а местонахождение оригиналов на данный момент неизвестно. Мы начнем с разбора ключевых тем первой части, записок.Как мы уже говорили, знакомство де Местра и Роксаны Стурдза состоялось в салоне адмирала П. В. Чичагова вскоре после приезда сардинского посланника в Санкт-Петербург. Для де Местра этот салон был местом демонстрации ораторского искусства в дружеском споре: Чичагов, открыто симпатизировавший Французской революции, был достойным оппонентом контрреволюционного философа. Дамы выступали судьями на этом поле битвы.Оказавшись в столице, Роксана начала свою карьеру при дворе с посещения дружеского салона Чичагова и, отметив интерес де Местра к дамскому обществу, решила снискать его расположение в интеллектуальной беседе.29 Этот интерес философа кажется одной из стратегий для получения места при дворе и выполнения задач дипломатической службы, а также вписывается в поведенческие коды французского салона XVIII столетия, где дамы играли роль посредниц в спорах аристократов и были призваны оценить их талант.30Начало знакомства де Местра и Роксаны приходится примерно на 1805 год. Первые две записки, 1805–1806 годов,31 служат для поддержания контакта между уже привычными встречами в салонах или же у семьи Стурдза, которая, в свою очередь, принимала гостей два раза в неделю.32 В первой из них речь идет об обмене стихотворениями,33 что было одной из распространенных салонных практик. Во второй записке Местр справляется о здоровье Роксаны, и из этого письма ясно, что постоянный контакт с императорской фрейлиной вошел в привычку де Местра.Стоит также отметить куртуазный стиль посланий, и иронично-дружественный тон, например: «Впрочем, я крайне сочувствую трудам вашим, кои чрезмерны при наличии всего двух ног. Я еще не вполне знаю, чем будут заняты обе мои, но я не премину сделать все, дабы убедить их заняться чем-либо наиприятнейшим».34 Этот дружески-покровительственный тон и простота в обращении объясняются разницей в возрасте и в положении корреспондентов на момент начала переписки. Де Местр уже обладает солидной репутацией писателя и оратора, и начинает дипломатическую службу при дворе Александра I, Роксане 19 лет, и она только начинает свою карьеру при дворе. В это время она ищет покровительства не только у сардинского посланника, но и у баронессы Ливен, воспитательницы царской семьи, а также и других опытных придворных.35В записке 1808 года Местр предлагает вниманию Роксаны речи Сен-Мартена и сопровождает их комментарием: «Честь имею препроводить вам, M-lle, три речи г-на де Сен-Мартена. Ежели они отправят вас на путь чудес, то смею льстить себя надеждой, что первое будет для меня, поскольку именно я приобщил вас к ним. Оставляю за собой право, в случае надобности, объяснить вам, какой именно диковины я жду от вас, – а это требует размышления, как свидетельствует сказка о колбасе, наличествующая в детском сборнике для назидания взрослых».36Интерес самого де Местра к Сен-Мартену появился задолго до встречи с Роксаной: еще в 1797 году он собственноручно копирует три речи Сен-Мартена: «Пути мудрости» («Les voies de la sagesse»), «Временные законы божественной справедливости» («Les lois temporelles de la justice divine») и «Трактат о благословениях» («Traité des bénédictions»).37 Именно с них де Местр предлагает Роксане Стурдза начать свой путь посвящения в религиозную мистику.В письме де Местр отсылает к первой речи, «Пути премудрости», основная идея которой заключается в том, что человек может при помощи собственного духовного усилия уподобиться божественной сущности и тем самым прославить ее своей жизнью и поступками.38 Сен-Мартен утверждает личную силу и способность человека к внутреннему озарению, которое может привести к чудесам и преобразованию мира.39 М. А. Мартин, характеризуя религиозность Р. Стурдзы, говорит о том, что она принадлежала к популярному тогда в России движению «пробуждение», которое «укоренилось как интроверсивная вера, делавшая упор на личное общение с Богом».40 Идеи Сен-Мартена о внутреннем озарении не противоречат убеждениям Роксаны, известных де Местру из их бесед, и выбор этого текста для знакомства с «неизвестным философом», которого высоко ценил де Местр, объясним.Что касается второго трактата, «Временные законы божественной справедливости», он во многом предвосхищает идеи самого де Местра, которые он выразил в «Рассуждениях о Франции». Сен-Мартин выделяет несколько видов болезней человека, ниспосланных по причине первородного греха: телесные, душевные и духовные.41 Далее автор расширяет этот принцип до национальностей, которые также могут совершать грехи, за которыми следует расплата целых народов.42 Именно эту идею использует де Местр в «Рассуждениях о Франции», объясняя причины Французской революции тем, что нация отвернулась от Бога, и затем революция последовала как наказание за грехи всего народа.43Сходство же произведений самого де Местра и «неизвестного философа» отмечал Сен-Бёв в своей главе о Сен-Мартене, считая брошюру последнего источником «Рассуждений о Франции» де Местра: «В том же году (1795) Сен-Мартен опубликовал “Письмо другу или Политические, философские и религиозные размышления о французской революции”.44 Эта брошюра тогда не пользовалась большим успехом, но сегодня, после объяснения в “Размышлениях” г. де Местра, она имеет большую ценность как указание и предзнаменование…».45Таким образом, чтение Сен-Мартена должно было подготовить почву для восприятия произведений самого де Местра.«Трактат о благословениях», заключительный в трилогии Сен-Мартена, обобщает идеи первых двух произведений и предлагает возможность восстановления гармонии, утраченной после совершения первородного греха, посредством благословений в трех направлениях (число три значимо для автора как сопоставление с божественной Троицей): телесном, интеллектуальном и духовном.46 Человек, являющийся проводником божественной силы, обладает достаточными возможностями для того, чтобы обрести первозданную силу и стать равным Творцу.47Стоит отметить также масонский контекст «чудес», о которых говорит де Местр. Если противоречия между католицизмом и православием в начале XIX века остро ощущались в обществе, то масонские ложи охотно принимали и католиков, и православных. Де Местр занимал пост великого оратора в масонской иерархии48 и, хотя ко времени приезда в Россию, первый период увлечения де Местра масонскими идеями уже прошел, он посещает ложу немецкого посла барона Стедингка.49 А. Н. Пыпин пишет о том, что на тот момент масонские идеи распространялись в обществе двумя путями: в ложах, куда не были вхожи женщины, и через литературу.50 Таким образом, Местр рекомендует своей корреспондентке единственный доступный светской даме путь – чтение литературы. Масонские идеи же, популярные в светском обществе начала XIX века, приемлемы как для политического православия Роксаны, так и для католического прозелитизма самого де Местра.Что касается упоминания детской сказки о колбасе, речь идет о сказке Шарля Перро о трех желаниях, в которой нерадивые дровосек и его жена не знают, как распорядиться даром исполнения желаний. Местр показывает свою готовность сопроводить свою собеседницу на пути познания мистической литературы, вместе с тем адаптируя свое изложение под стиль, доступный молодой светской даме, терпеливо и простыми метафорами готовясь приобщить ее к чтению философа-иллюмината.Само отношение де Местра к иллюминатам в этот период очень неоднозначно. Сам де Местр, увлекавшийся иллюминистскими идеями до 1789 года и высоко ценивший Сен-Мартена, в записке, поданной Александру I в 1810 году, рекомендует ему прочитать О. де Баррюэля.51 Французский иезуит в изгнании, Баррюэль первым предположил существование заговора, направленного на разрушение церкви, трона и всего гражданского общества52 и возложил ответственность за Французскую революцию на иллюминатов. Именно работы этого автора положили начало мифу о масонском заговоре. В 1810 году де Местр принимает теорию заговора иллюминатов против монархии, и в то же время находит нужным рекомендовать своим корреспондентам их произведения.Можно предположить, что в переписке с Роксаной де Местр пользуется хорошо знакомым ему репертуаром произведений для того, чтобы найти подход к своей корреспондентке. Конечной целью становится пропаганда его собственных идей, а произведения Сен-Мартена становятся лишь одной из ступеней подготовки к их восприятию. В политических целях дипломат менял тактику и в общении с российским императором был готов поддержать теорию масонского заговора, лишь бы убедить Александра I в реальной опасности революции в России. Здесь мы видим пример манипуляции идеями в зависимости от собеседника. И в том, и в другом случае де Местр пользовался своими знаниями для того, чтобы склонить менее посвященного собеседника на свою сторону.В записке 1810 года де Местр предлагает Роксане другое чтение католического проповедника – Ж.-Б. Массильона, проповеди которого как раз входят в моду и переиздаются в 1810 году.53 По словам А. Н. Шебунина, «из трех классиков церковной кафедры французского католицизма — Боссюэ, Бурдалу, Массильона — последний был пригоднее всего для воздействия на душу, которая считала себя “чувствительной”. Боссюэ — громовержец, Бурдалу — доказыватель, Массильон же — уговариватель».54 Это бесспорно так, поскольку Массильон в своих проповедях уделяет особое внимание человеческим чувствам, называет их и предлагает способы взаимодействия с разными эмоциями,55 что должно было затронуть сентиментальные струны души фрейлины.Помимо этой причины выбора данного автора, можно сказать, что в проповедях Массильона можно найти идеи, близкие консервативным мыслителям. К примеру, Массильон неоднократно сравнивает власть монарха с божественной властью, и использует эту метафору для объяснения возможности мистической тайны и в том, и в другом случае.56 Смирение с божьим промыслом должно помочь также и в смирении с существующим социальным порядком, а государь в данном контексте становится проводником божественной силы.Охранительные идеи высказывались религиозными мыслителями в противовес философии эпохи Просвещения, которая, как отмечает Биберштайн, не обязательно была антирелигиозной, но критиковала социальное устройство католической церкви. Демократизация была невыгодна верхушке духовенства. Власть пользовалась церковью для легитимизации, и наоборот, церковь была столь могущественна, потому что поддерживала деспотические режимы.57 Разумеется, консерватор де Местр поддерживал эту охранительную тенденцию и считал, что именно церковь должна стоять на страже монархического социального порядка.Несомненно, де Местр был бы рад возможности склонить Роксану на сторону католицизма, поэтому он выбирает не только проповедника – носителя собственных идей, адаптированного под сентиментальные запросы его корреспондентки, но также и мастера слова, чей стиль читается легко. Темы, которые затрагивает католический автор, также актуальны для собеседницы де Местра: Массильон изящным способом переходит от проблем придворной жизни к церковной и наоборот.В той же записке де Местр впервые предлагает Роксане прочитать его собственное сочинение, «Размышления о Франции», из ложной скромности принижая значение этого произведения: «Просьба прочесть ее у себя в комнате и отнюдь не пускать по рукам, так как книжка эта весьма плохая».58 То, что на самом деле автор был высокого мнения о своем произведении, подтверждается в письме к Яну Потоцкому 16 (28) октября 1814 года, в котором де Местр находит «Размышления о Франции» пророческими и советует перечитать их снова в связи с событиями французской реставрации 1814 года.59 Следовательно, этот риторический прием призван лишь еще более привлечь внимание Роксаны Стурдза к произведению де Местра.В «Размышлениях о Франции» заложены основные идеи контрреволюционной мысли савойского философа. Французская революция – это сила, превосходящая тех, кто ее совершает. У Франции есть мессианское призвание – вести другие европейские страны по религиозному пути. Отступив от своего истинного предназначения, Франция навлекла на себя наказание Провидения, и за преступление, совершенное от имени нации, приходится расплачиваться всему народу. Революция – это наказание за преступление против монархии, и только пройдя через это испытание, Франция сможет вновь возродиться.60 Когда контрреволюция произойдет, она не должна быть противоположностью революции, но должна отличаться принципиально, быть новым витком истории Франции, в котором будут учтены все прошлые грехи и ошибки.61 В этом произведении де Местр формулирует все постулаты контрреволюционной риторики, которыми будут пользоваться консервативные философы в дальнейшем.62 Можно сказать, что здесь мыслитель выступает как отец консервативной мысли Европы и делится со своей корреспонденткой самыми важными постулатами своей теории. Роксана, принадлежавшая также к консервативному лагерю, должна была присоединиться к мысли философа.Другое собственное произведение, которым де Местр делится с Роксаной – это «Пять писем об общественном воспитании в России», рукопись которых он прилагает к записке 1811 года.63 Эти письма адресованы министру народного просвещения Разумовскому и носят заостренно-полемическую направленность против либерального проекта Царскосельского лицея М. М. Сперанского. А. Л. Зорин пишет о том, что «практически вся публицистическая деятельность де Местра в 1810–1811 гг. прямо направлена против Сперанского»,64 поскольку проекты Сперанского шли вразрез с интересами иезуитов, в руках которых были важные образовательные институции.В «Пяти письмах…» сардинский посланник сомневается в необходимости точных наук в русском образовании. Автор полагает, что развитие знания всегда идет параллельно с религиозным становлением общества. В России же этому историческому процессу помешало два события: схизма и татарское нашествие. Де Местр отрицательно оценивает деятельность Петра I, считая, что попытка насадить науку без католического религиозного пути была неудачной. Россия должна наверстать упущенное, и решением может стать иезуитское образование. У миссионеров ордена Иисуса богатый опыт работы на территории других стран, и только их система образования, совмещающая науки с моральными ценностями, может помочь предотвратить революцию в России. Иезуиты знают, как воспитывать послушание монарху и укреплять иерархию любого государства.65Адресуя это произведение Роксане, де Местр продолжал линию католического прозелитизма, но поскольку фрейлина не принимала ключевых решений в отношении образовательных проектов в России, можно также предположить, что, прежде чем использовать свои памфлеты и произведения для открытой политической борьбы, де Местр давал их читать доверенным лицам, и лишь затем вступал в прямую полемику с противниками. На момент написания этой записки, де Местр участвовал в заговоре против Сперанского, и преждевременная огласка могла лишь помешать общему делу.Помимо книжного обмена, в записках затрагиваются вопросы практического характера. Роксана Стурдза в 1809 году устно предупреждает де Местра о необходимости выслать музыку «Te Deum» послу Франции в России для торжественной мессы в честь победы Наполеона при Ваграме во время войны пятой коалиции. Де Местр, как и консервативная часть общества, не поддерживал союз Франции и России, так что ему, по совету фрейлины, пришлось действовать против собственных убеждений. Сардинский посланник спешит заверить Роксану, что понял свою ошибку, и проявляет лояльность ко двору, подтверждая высылку нот.66 В записке де Местр ссылается на устный разговор с Роксаной, отчитываясь лишь о благополучном разрешении этой ситуации.В другой раз де Местр хлопочет об устройстве ее протеже, албанца, получившего ранение в войнах с Турцией, в госпиталь при дворе в трех записках от 1813 года,67 и привлекает для решения этого вопроса баронессу А. И. Толстую, супругу обер-гофмаршала Н. А. Толстого. Таким образом, Роксана Стурдза и де Местр оказывали друг другу услуги по взаимной протекции при дворе, и в корреспонденции мы находим лишь отдельные эпизоды или отсылки к ним.В записках мы также находим упоминания светских салонов, где встречались корреспонденты, в частности Свечиной и Головиной. Интересно, что в записке 1809–1810 года дом семьи Стурдза де Местр называет «Греция»,68 намекая на прогреческие симпатии его обитателей. В 1809 году И. Каподистрия прибыл в Петербург и поступил на русскую службу. Начав карьеру при Республике Семи Соединенных островов, Каподистрия вынашивал идею освобождения Греции путем дипломатических переговоров, с опорой на поддержку России, и именно поэтому принимает предложение русского правительства.69 В этот период он становится желанным гостем в доме Стурдза и формирует вокруг себя кружок молодых приверженцев идеи освобождения Греции от османского ига, в который входят Роксана и ее брат Александр. Впоследствии Роксана и Александр Струдза сами включатся в политическую борьбу и будут отстаивать интересы Греции во время Венского конгресса и активно помогать греческим переселенцам на юге России. Де Местр был в курсе этих идей, однако из осторожности лишь отсылает к существованию кружка в доме Стурдза.Таким образом, в записках мы видим несколько ключевых стратегий идейного влияния – приобщение светской дамы к католическим религиозным мыслителям, которые подготовят почву для восприятия философских и политических произведений самого де Местра, касающихся контрреволюции и продвижения иезуитского ордена в России. Дипломат также отправляет на суд близкого круга читателей новые полемически направленные трактаты, прежде чем донести их до прямых адресатов. Связующим звеном для корреспондентов становится придворная жизнь, в которой важно взаимное оказание протекции, которое зависело от менявшегося статуса обоих корреспондентов. Вначале Роксана выступает в качестве протеже сардинского дипломата, а затем уже сама может оказывать ему услуги, вовремя предупреждая о настроениях при дворе.Перейдем к корпусу больших писем де Местра к Роксане, самое раннее из которых относится к 1809 году. Письма в «Lettres et opuscules inédits…» опубликованы без дат и обращение «Mademoiselle» изменено на «Madame», что создает ложное впечатление о времени их написания. Мы смогли восстановить датировку этих семи писем по косвенным указаниям на события в ближайшем окружении корреспондентов.Письмо, начинающееся «Мадам, ничто в этом мире не могло бы быть мне столь приятно…»70 можно датировать 1809 годом по двум маркерам времени. Во-первых, де Местр упоминает о назначении своего брата Ксавье полковником: «Что вы скажете об экспромте моего брата, который внезапно отправился на персидскую границу после назначения полковником свиты его величества?»71 Ксавье де Местр был назначен полковником 26 августа 1809 года. Жозефа де Местра беспокоит решение брата присоединиться к русской армии на Кавказе. Во-вторых, де Местр упоминает об отъезде адмирала Чичагова в Париж: «Я вздыхаю, как и вы, об безумном упрямстве нашего друга Чва, который выбирает во всем нуждаться в Париже вместо того, чтобы быть здесь на своем почетном месте, ни в чем не нуждаясь».72 Речь идет о добровольном отпуске и об отъезде за границу Чичагова в 1809 году после конфликта с коллегами в Кабинете министров. Подобное решение удивляет и де Местра, и Роксану. В дальнейших нескольких письмах обсуждение карьеры и особенностей поведения Чичагова при дворе занимает центральное место.С литературной точки зрения, это письмо интересно из-за лирических отступлений автора. Де Местр делится меланхолическими чувствами, которые его одолевают после событий французской революции, вынудившей покинуть родину: «Оставаться в замке73 с вашей семьей было бы для меня чрезвычайно приятно, и поскольку вы там будете, нужно было бы набраться терпения, но увы! для меня больше нет замков. Молния ударила по всему, и мне остаются только сердца: это большое имущество, особенно если они сделаны как ваше. Расположение, которое вы мне оказываете, я воспринимаю как ценное приобретение, которое никто не имеет права конфисковать. Раньше странствующие рыцари защищали дам, сегодня дамы защищают странствующих рыцарей: будьте благосклонны к тому, что я оказался в вашем сюзеренитете, если вам придется сменить фамилию на имя какого-нибудь хорошего человека, который знает, чего вы стоите (другие могут уйти восвояси). Я рассчитываю на ваш дом, чтобы там думать, смеяться, плакать и даже спать, по своему усмотрению. И тем не менее вы еще какое-то время будете среди почтенных и добрых мадемуазелей, и сможете меня защищать. Ничто не помешает, как мне кажется, через какое-то время в день, когда мне будет очень грустно, приехать за мной в вашем экипаже без каких-либо последствий и отвезти меня на прогулку. Все скажут: “Дайте место мадемуазель де…, которая ведет слепца! Дадим ему дукат!” И, без обмана, этот дукат будет так же честно заработан, как тот, что подают дамы. Впрочем, это только проект: вы можете в нем изменить и добавить то, что вам понравится».74Предложение провести время в поместье с семьей Роксаны Стурдза навевают на философа воспоминания о потерянных замках на родине. Роксана, познавшая все тяготы вынужденной эмиграции, конечно же, могла понять чувства, которые испытывал де Местр, лишившийся земель и прежнего положения в обществе. Эти сближающие корреспондентов обстоятельства, возможно, и стали основой столь длительной и доверительной переписки и взаимоотношений.Описывая свои переживания, де Местр говорит о ценности отношений с корреспонденткой, и используя метафору странствующего рыцаря, просит ее защиты. Это показывает, что на момент написания письма в роли покровителя де Местра может выступать Роксана и ее семья, и положение императорской фрейлины уже упрочилось при дворе.Понимая, что его корреспондентка в любой момент может сменить статус и стать замужней дамой, де Местр заранее предлагает способы общения, подходящие такой перемене. Эта тема будет повторяться несколько раз в последующих письмах, но на деле Роксана оборвет любое общение с дипломатом после замужества, несмотря на предвосхищающие просьбы последнего. Это показывает, насколько матримониальный статус мог влиять на дружеские и светские отношения при дворе.В конце приведенного отрывка де Местр предлагает своей собеседнице фантазию о нищем слепце, которого она сопровождает, а также включает в этот отрывок саму Роксану в качестве соавтора, который может по своему усмотрению изменить сюжет. Этот же прием приглашения в соавторы мы находим в последних письмах де Местра к графу С. С. Уварову, когда сардинский посланник предлагает придать художественную форму их спору.75 Здесь можно говорить о появлении новой формы коммуникации: литературной. Жозеф де Местр – писатель вдохновляется перепиской со своими корреспондентами и приглашает их в мастерскую художественных зарисовок и идей для будущих произведений.Следующее письмо поддается датировке из-за упоминания смерти супруги Чичагова Елизаветы Проби. Она умерла в родах в 1811 году в Париже. Безутешный адмирал обсуждает с де Местром проект надгробия усопшей супруги: «Он все также поглощен своей болью. Он попросил меня о надписи на латыни на надгробии своей жены, в которой должно быть лишь указано, что этот памятник, спроектированный тем-то, был выполнен тем-то. Я ему ее отправил, и он ее выгравировал. Он спрашивает меня в своем письме: “Почему бронзовый памятник должен жить больше, чем самое прекрасное произведение неба?” После раздумий, он добавляет: “Почему кружева от такого шедевра должны оставаться дольше, чем само произведение?” – ошеломленный этим мощным аргументом против НЕГО (Провидения. – М. П.), он просит ответить ему в первом же письме. Я ему отвечаю, что я не знаю, почему он задается вопросами в отношении такой простой вещи, потому что очевидно, что Бог создал женщин не лучше, чем многие мужчины делают кружева. – Если вы, Мадам, найдете правильный ответ, я прошу вас дать мне знать об этом. Никогда еще я не был так озадачен в вопросах метафизики. Сложно признавать ЕГО ошибки».76Елизабет Проби была похоронена на лютеранском Смоленском кладбище Санкт-Петербурга, и бронзовый памятник, о котором идет речь в письме, был заказан известному скульптору И. П. Мартосу.77 Упоминание скульптора в переписке с де Местром не случайно: именно сардинский посланник в 1807 году отобрал проект Мартоса для памятника Минину и Пожарскому в Москве.78 Возможно, де Местр сам предложил адмиралу Чичагову этого скульптора для того, чтобы воздать последние почести усопшей супруге.Утешая своего друга, де Местр задается вопросом о справедливости Провидения, центральным для его философских произведений. Автору письма особенно сложно оставаться в рамках своих собственных убеждений перед лицом человеческой трагедии. Де Местр в своих произведениях неоднократно формулирует идею, что любая историческая трагедия ниспослана Провидением для того, чтобы вести человечество согласно божественному промыслу.В том же 1811 году Чичагов по собственному желанию увольняется с поста министра морских дел и получает должность дежурного генерал-адъютанта при императоре. Это решение поражает де Местра, и он выражает Роксане Стурдза свое недовольство: «Вот где мы остановились, поскольку деликатность не позволила никоим образом разорвать отношения с адмиралом, пока он не подал полностью в отставку. Однако, если это положение будет продолжаться, придется это сделать».79В данном случае интересна прагматика де Местра. Как только влиятельный друг становится в оппозицию правительству, сардинский дипломат готов к разрыву отношений. Лояльность императору была частью контрреволюционного дискурса философа, и если в салонах он любил спорить со своим либеральным противником Чичаговым, переход от слова к действию мог положить конец взаимоотношениям. Позже именно эта участь постигла самого де Местра, когда Роксана отказалась продолжать общение после изгнания сардинского посланника из России.Следующие письма относятся к 1812–1814 годам и представлены в «Lettres et opuscules inédits…» в неправильном порядке. Хронологически первым должно стать письмо, начинающееся с фразы «Из милосердия, Мадам, если вы еще там…»,80 которое было отправлено де Местром из Полоцка. О локализации отправителя свидетельствует фраза: «Если бы я был в Петербурге…» и упоминание гривны: «Отправьте мне это так, как бросают гривну нищему…».81 Де Местр предпринял это путешествие из-за открытия Полоцкой иезуитской академии, о котором он сам ходатайствовал на протяжении долгого времени. Открытие состоялось 15 июня 1812 года, а о нахождении де Местра в Полоцке в этот период свидетельствует письмо, отправленное оттуда сыну Родольфу 7 июня 1812 года.82В письме также продолжается линия разговора об адмирале Чичагове. На сей раз де Местр спешит ответить на радостные новости о его продвижении по службе, которыми с ним делится Роксана: «Мне было приятно получить все, что вы говорите о нашем суетливом друге и о людях, которых он привел в движение. Все это замечательно, но что вы скажете об этом двойном командовании? Это видно лишь отсюда. А если бы ему пришлось победить на земле и быть побежденным в море, это не было бы забавным?»83Прежде всего стоит отметить псевдоним «наш суетливый друг», который начинают использовать корреспонденты. В военное время их общий знакомый Чичагов начинает занимать ключевые позиции, а внутренняя цензура корреспонденции дипломатов не позволяет называть ничьих имен. Анализируя корреспонденцию Роксаны петербургского периода, С. Гревас отмечает лакунарность и аллюзивность данного типа письма, в котором корреспонденты зачастую прибегают к неполным фразам и лишь им понятному языку, отсылающему к устному общению, имевшему место между письмами.84В данном случае де Местр обсуждает назначение Чичагова командующим Дунайской армией и Черноморским флотом, которое состоялось 7 апреля 1812 года во время Отечественной войны. Александр I, недовольный медлительностью М. И. Кутузова, предложил именно Чичагову составленный императором план действий. Именно это двойное командование смущает де Местра, и он заранее справедливо опасается, что известный морскими победами адмирал может не справиться с командованием на суше. На самом деле, в печальном для репутации Чичагова сражении при Березине так и случилось.Письмо, начинающееся со слов «До вашего отъезда, Мадам, я попросил ваш адрес в Царском селе…»,85 можно датировать по упоминанию отъезда Родольфа де Местра в Ригу: «Мой сын уехал после обеда 27-го; 29-го днем он был в Риге; 30-го он написал мне в одном конверте с маркизом Паулуччи».86 Речь идет об осаде Риги, события которой разворачивались между 7 (19) июня и 8 (20) декабря 1812 года. Сначала русские войска обороняли город под предводительством губернатора Риги генерала Эссена. После поражения в сражении при Мезотене 17 (29) сентября, Эссена сменил генерал Филиппо Паулуччи, итальянский военачальник на службе Российской империи. Эта замена произошла 14 (26) ноября 1812 года и позволяет датировать письмо октябрем или ноябрем. Это письмо, так же, как и следующее, содержит изъявления чувств де Местра, оказавшегося во временной разлуке со своей корреспонденткой.Следующее письмо можно датировать началом 1814 года по упоминанию о хорошей новости, касающейся отца Роксаны: «Как могу я выразить вам удовольствие, которое доставила мне новость, которую я только что получил от нашей дорогой подруги касательно вашего отца?»87 Отец Роксаны страдал параличом, и в 1813 году, после долгих ходатайств, фрейлине удается получить для него личную пенсию от государя. Де Местр поздравляет ее с успешным завершением хлопот.На момент написания письма Роксана уже покинула Россию 19 декабря 1813 года, чтобы сопровождать императорскую семью в Германии. Фрейлина проведет в этом путешествии три года. В это время София Свечина, «дорогая подруга», которую упоминает де Местр, зачастую выступает посредником между корреспондентами, передавая последние новости из-за границы.Рассуждая о новом европейском опыте своей корреспондентки, де Местр вскользь касается проблематики, которую в это же время обсуждает в переписке с графом Уваровым, к чему ближе Россия – к Европе или к Азии. Здесь, используя те же метафоры, что и в переписке с Уваровым,88 де Местр дает совет Роксане не терять связь с иррациональным началом востока: «Сколько бы мы ни считали ее Европейкой и, следовательно, дочерью Иафета, также верно и то, что она немного соседствует с Симом, и что вследствие этого страна чудес и откровений ей немного ближе, чем нам».89 Метафора мистического востока переплетается с масонскими отсылками к «чудесам» и «откровениям», которые мы находим и в записках. Рационализации века Просвещения де Местр противопоставляет мистическое знание и призывает Роксану не забывать о нем во время путешествия. В Европе Роксана сблизилась с мистиками Ю. фон Крюденер и И. Г. Юнг-Штиллингом, что даже стало предметов для споров с братом Александром.90 В этот период формулируются основные идеи Священного Союза, которые не поддержал де Местр.Последнее из писем, опубликованных в «Lettres et opuscules inédits…», поддается датировке благодаря упоминанию о ранении Родольфа де Местра в Труа. Сражения за Труа происходили в феврале 1814 года, и сын Жозефа де Местра выступал против французов с войсками австрийской коалиции.Последние два письма переписки были опубликованы в статье «Жозеф де Местр и Сен-Бёв в письмах к Р. Стурдзе-Эдлинг». Письмо 18 (30) ноября 1814 года содержит несколько важных сведений: Родольф де Местр сумел привезти с собой в Россию после заграничного похода мать и сестер. Разлука с близкими лейтмотивом проходит через письма сардинского посланника к петербургским корреспондентам. Наконец, после десятилетней разлуки и при личном содействии императора, Жозефу де Местру удалось воссоединиться с семьей. Вопрос возможности продолжения близких и доверительных отношений с фрейлиной кажется не столь однозначным, и де Местр спешит уверить корреспондентку, что они с супругой будут по-прежнему рады видеть ее в узком семейном кругу, а также предлагает подружиться со своей дочерью Адель.В этом письме де Местр благодарит свою корреспондентку за положительный отзыв о своем произведении. Речь идет об «Опыте об основополагающем принципе политических конституций», изданном сначала в Санкт-Петербурге в 1814 году, а затем и в Париже.91 Это произведение стало откликом де Местра на конституционные проекты Александра I. В своем произведении автор утверждает, что написание конституции людьми ослабляет власть богопомазанного монарха, и все законы, которые формируются не историческим естественным путем, гибельны для общества.92 Это утверждение о бесполезности писанных законов и конституций впоследствии также становится лейтмотивом в дальнейшем развитии реакционной риторики.93Де Местр делится своими идеями с Роксаной и вместе с тем снова пробует на своей корреспондентке политически значимое произведение на актуальную тему, которое в дальнейшем должно было сослужить автору хорошую службу. Однако «Опыт об основополагающем принципе политических конституций» сыграл не лучшую роль в его дальнейшей карьере: Людовик XVIII подписал конституционную хартию 4 июня 1814 года, и счел произведение де Местра критикой своих действий, что помешало последнему играть видную роль во время Реставрации.Последнее письмо было отправлено 11 (23) мая 1817 года, после трехлетнего перерыва в переписке. За это время Роксана приняла предложение графа Эдлинга о замужестве за границей. Де Местр, в свою очередь, вынужден покинуть Россию вслед за иезуитами, которых он поддерживал все годы пребывания при императорском дворе. В этом письме де Местр предлагает сохранить дружбу, невзирая на обрушившиеся на него невзгоды и высказывает желание быть представленным супругу Роксаны, графу Эдлингу, чтобы не быть чужим в их доме. Географическая близость в Европе также кажется хорошим поводом возобновить общение. О времени до замужества Роксаны де Местр вспоминает в прошедшем времени и подписывает письмо всеми своими титулами, обращаясь к давней знакомой, согласно ее новому статусу.Это письмо осталось без ответа, и таким образом переписка завершилась после изгнания де Местра из России и брака Роксаны в Европе. В новом социальном статусе обоих корреспондентов и вне салонов Санкт-Петербурга важный мотив этой переписки, поддержание социальных связей, был более неактуален. Предмет беспокойства де Местра – общение после смены матримониального статуса его собеседницы – оказался небезосновательным, такого рода эпистолярный обмен мог состояться только с незамужней императорской фрейлиной. Также Роксана, как русская верноподданная, не могла себе позволить продолжать поддерживать опального дипломата, даже сама находясь в эмиграции.Эта переписка позволяет проследить многие стратегии де Местра при дворе: – трансфер католических и иллюминистских идей через литературу религиозных проповедников;– распространение собственных основных контрреволюционных произведений, которые в дальнейшем станут основополагающими для развития контрреволюционной мысли;– произведения в защиту иезуитского образования в России;– апробацию своих идей на доверенных лицах, прежде чем они служили орудием политической борьбы.Также стоит отметить линию придворных связей корреспондентов. В частности, обсуждение адмирала Чичагова и других значимых политических деятелей эпохи, составлявших ближний круг общения философа и фрейлины, взаимные услуги корреспондентов при дворе и помощь в протекциях, где это представлялось возможным. Вместе де Местр и Роксана Стурдза составляли «карту» политически приемлемого поведения при дворе и старались использовать ее выгоды для достижения поставленных целей, делая это со всей осторожностью, свойственной переписке, проходящей внутреннюю цензуру.Отдельно можно отметить литературную значимость некоторых пассажей писем, которая показывает де Местра – литератора, вдохновлявшегося переживаемыми в вынужденной эмиграции чувствами меланхолии для создания собственных литературных зарисовок. Наконец, письма позволяют реконструировать исторические события, в которые была вовлечена семья сардинского посланника, в частности, его брат Ксавье и сын Родольф, которые воевали под присягой русскому императору и, в отличие от Жозефа де Местра, следовали официальной линии русского правительства. Таким образом, эта переписка является важнейшим источником трансфера европейских идей в Россию до декабристского восстания, а также позволяет читателю составить представление о политической и светской жизни эпохи Александра I.×
References
- Арш Г. Л. Тайное общество "Филики Этерия". М., 1965.
- Биберштайн Р. И. Миф о заговоре. Философы, масоны, евреи, либералы и социалисты в роли заговорщиков. СПб., 2010.
- Дегтярёва М. Консервативная адаптация Жозефа де Местра. Дис. ... канд. истор. наук. Пермь, 1997.
- Зорин А. Кормя двуглавого орла. Литература и государственная идеология в последней трети XVIII - первой трети XIX века. М., 2001.
- Костин А. А. Изучение русской литературы XVIII века в 1930-е годы (Переписка редакции "Литературного наследства" с Г. А. Гуковским и другими авторами) // Русская литература. 2009. № 2.
- Мартин М. А. Романтики, реформаторы, реакционеры. Русская консервативная мысль и политика в царствование Александра I. СПб., 2021.
- Минаков А. Русская партия в первой четверти XIX века. М., 2013.
- Хроника Банных и Первоапрельских чтений // Новое литературное обозрение. 2003. № 59.
- Brengues J. De la grande loge au Rite Ecossais rectifie ou la mauvaise conscience maconnique de Joseph de Maistre // Revue des etudes maistriennes. 1979. № 5-6.
- Ghervas S. Le reseau epistolaire d'Alexandre et Roxandre Stourdza: une mediation triangulaire entre occident, Russie et Sud-Est europeen // Revue des etudes sud-est europeennes. 2013. Vol. 51. № 1-4.
- Ghervas S. Reinventer la tradition: Alexandre Stourdza et l'Europe de la Sainte-Alliance. Paris, 2005.
- Hirschman A. O. Deux siecles de rhetorique reactionnaire. Paris, 1999.
- Lilti A. Le monde des salons: sociabilite et mondanite a Paris au XVIIIe siecle. Paris, 2005.
- Maistre J. de. Considerations sur la France // Maistre J. de. Oeuvres. Paris, 2007.
- Maistre J. de. Correspondance. Paris, 2017.
- Maistre J. de. Ecrits maconniques de Joseph de Maistre et de quelques-uns de ses amis francs-macons / Ed. by J. Rebotton. Geneve, 1983.
- Maistre J. de. Oeuvres. Paris, 2007.
- Miltchina V. Joseph de Maistre en Russie; apercu de la reception de son oeuvre // Joseph de Maistre: Actes du colloque de Chambery. Paris, 2001 (Revue des etudes maistriennes; № 13).
- Pantina M. Publier Joseph de Maistre en URSS dans les annees 1930. Le sort des projets de Grigorij Gukovskij et d'Andrej Sebunin (d'apres les archives de Literaturnoe nasledstvo)// Revue des etudes slaves. 2019. Vol. 90. № 4.
- Triomphe R. Joseph de Maistre: etude sur la vie et sur la doctrine d'un materialiste mystique. Geneve, 1968.
- Vivenza J.-M. Entretiens spirituels et ecrits metaphysiques. Grenoble, 2017.