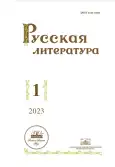TWELVE SLEEPING MAIDENS BY V. A. ZHUKOVSKY IN CONTEMPORARY PARODY RESPONSES (I. V. PROTASHINSKY, A. A. VOEIKOVA, S. P. SHEVYREV)
- Authors: Berezkina S.V.1
-
Affiliations:
- Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom), Russian Academy of Sciences
- Issue: No 1 (2023)
- Pages: 112-119
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0131-6095/article/view/126743
- DOI: https://doi.org/10.31860/0131-6095-2023-1-112-119
- ID: 126743
Full Text
Abstract
The article deals with parody responses to the Twelve Sleeping Maidens (1811-1817) by V. A. Zhukovsky, using the texts by I. V. Protashinsky, A. A. Voeikova, S. P. Shevyrev as case studies. Protashinsky’s parody Twelve Sleeping Butoshniks (1832) was very popular, and an approving reference to it in Voeikova’s letter to Zhukovsky allows us to date it back to 1819. The article describes the history of Shevyrev’s writing of the libretto for A. N. Verstovsky’s opera Vadim, or the Twelve Sleeping Maidens Awakening (1832). The discussion of the libretto in the letters to M. P. Pogodin highlights parodic elements in Shevyrev’s rendition of Zhukovsky’s plot.
Full Text
© С. В. Березкина«Двенадцать спящих дев» В. А. Жуковского в пародийных откликах современников (И. В. Проташинский, А. А. Воейкова, С. П. Шевырев)1Публикация баллады В. А. Жуковского «Двенадцать спящих дев» завершилась в 1817 году, когда появилась вторая ее часть «Вадим» (первая, под заглавием «Громобой», была опубликована в 1811 году). «Ужасные» события, о которых повествовалось в балладе, вмещали в себя и вековечные клятвы, и вмешательство потусторонних сил, и погибельные страсти, и искупление смертных грехов, и победу светлого героя, спасителя околдованных дев. Современников восхищали стихи автора «Двенадцати спящих дев», живописавшего и русский пейзаж, и томление героя, и его стремление к подвигу, и ожидание им таинственной встречи. Возможности пародийного преломления сюжета баллады таились в образах двенадцати погруженных в сон дев, сосредоточенно целомудренных в своем ожидании избавителя (чем не преминул воспользоваться А. С. Пушкин в поэме «Руслан и Людмила» (отд. изд. 1820), изобразив их пылкие наслаждения в обществе одного из своих героев),2 и в жизненных перипетиях отца-грешника под гнетом страшных и все более и более неотвратимых приговоров. Это живо можно почувствовать в пародировании сюжетных элементов «Двенадцати спящих дев» столь разными по своим литературным вкусам современниками В. А. Жуковского, как И. В. Проташинский, А. А. Воейкова, С. П. Шевырев.Широко известной пародией на сочинение Жуковского стала «поучительная баллада» Ивана Васильевича Проташинского (1802–1881?) «Двенадцать спящих бутошников», вышедшая в московской Университетской типографии в 1832 году под псевдонимом Елистрат Фитюлькин. Сатира высмеивала нравы московской полиции, существование которой Проташинский сводил к поборам и застольям за чужой счет. Герой Проташинского продал душу Асмодею за беспечную жизнь, отдав во искупление греха своих сыновей, заснувших непробудным сном. В лице роскошествующих в его доме московских полицейских он нашел такую дьявольскую защиту, что им не может противостоять даже владыка преисподней. Книга привлекла внимание правительства, и цензор С. Т. Аксаков был отстранен от должности.Современные исследователи сходятся во мнении, что пародия Проташинского была написана незадолго до публикации, поскольку в ней отразились события литературной жизни рубежа 1820–1830-х годов, в частности, выход романов Ф. В. Булгарина о Выжигиных.3 При этом критически оценивается датировка В. И. Саитова, относившего пародию предположительно к 1819 году в связи со следующим высказыванием П. А. Вяземского в письме к А. И. Тургеневу от 25 июля того же года: «Жуковский Шиллером и Гете отучит нас от приторной пищи однообразного французского стола, но своими бутошниками и тому подобными может надолго удалить то время, в которое желудки наши смогут варить смелую и резкую пищу немцев»; по этому поводу В. И. Саитов написал в комментарии: «Под “бутошниками” следует, вероятно, разуметь балладу Жуковского “Двенадцать спящих дев”, заимствованную из плохого немецкого романа Шписа. Название, употребленное кн. Вяземским, находится, может быть, в связи с “Двенадцатью спящими бутошниками” (М., 1832)…».4Предположение В. И. Саитова было верным, о чем можно судить по сделавшемуся известным в настоящее время документу, вышедшему из родственного окружения Жуковского, который свидетельствует, что поэма о «бутошниках» действительно появилась в 1819 году. Видимо, перед публикацией пародист осовременил свое сочинение, вставив в него дописанные фрагменты с отсылками к литературным новинкам рубежа 1820–1830-х годов. Этим документом является письмо А. А. Протасовой к Жуковскому, написанное весной 1820 года.5Иван Васильевич Проташинский был побочным сыном Василия Ивановича Протасова (1757–1807), родного дяди Александры Андреевны Воейковой (1795–1829), урожд. Протасовой. В. И. Протасову принадлежало в Орловской губернии прекрасное имение Троицкое, куда Воейкова, с матерью Е. А. Протасовой и сестрой Машей, в замужестве Мойер, приезжала ежегодно в ту пору своего детства и юности, когда они жили в Муратове; после смерти дяди поездки эти продолжались; бывал в Троицком и Жуковский. В. И. Протасов был женат на Елизавете Федоровне Барыковой, урожд. Бреевой, дочерью которой от первого брака была графиня Прасковья Васильевна Толстая, урожд. Барыкова, ровесница и любимая подруга Воейковой. В 1820 году, после Нового года, Воейкова с двумя детьми приехала по ее приглашению в Троицкое и провела там четыре месяца. Жизнью в Троицком она наслаждалась, в особенности же семейством своей Пашеньки, которая жила в любви и согласии со своим мужем графом Андреем Андреевичем Толстым. Троицкое в это время принадлежало единоутробной сестре Пашеньки юной Александре Васильевне Протасовой, в замужестве (с 1821) Кутлер, которая приходилась Воейковой двоюродной сестрой. В Троицком жила и тетушка Воейковой Мария Ивановна Протасова, в ближайшем имении рядом – другая незамужняя тетушка, Елена Ивановна, а вместе с ней и побочная дочь В. И. Протасова Мария Васильевна, в замужестве Тимирязева. В письмах из Троицкого к Жуковскому 1820 года Воейкова поминает В. А. Азбукина, здесь в это время живущего, который был побочным сыном ее отца.Не приходится удивляться, что в этой теплой родственной атмосфере возникает упоминание Ивана Проташинского. Воейкова пишет о нем в письме от 15–21 апреля 1820 года намеками, шутливо, но и осторожно, по-видимому, зная о том, что Жуковскому пародия его уже известна: «Да вот, Жуковский! Беда. Есть у нас свой Вадим, он не новгородский, а не хуже его! Ему также двадцатая весна. Он также пленяет красотой и дерзким мужеством своим и сердца простотой, и хоть в нем душа не унывает, и он не ищет кого-то, чего-то – но пора любви придет, а для матери пора забот пришла с тех пор, как он на свете; и в шутку, и в правду, и в прозе, и в стихах все чувства относятся к этому Вадиму; так одолжи, мой друг, скажи, как приняла мать того Вадима жену его? – Не уговорим ли одиннадцать сестер замуж? Право, жаль, им вечно петь на крилосе, стоит того, чтобы добродетельным женщинам играть на флейте целую вечность, – всё то же да то же, тоска возьмет перед нею!»6Воейкова сообщает Жуковскому о Проташинском, используя стихи из баллады «Вадим», второй части «Двенадцати спящих дев». Ср.: «Ему также двадцатая весна»7 ‒ «Уже двадцатая весна / Вадимова настала»; далее: «Он также пленяет красотой и дерзким мужеством своим и сердца простотой» ‒ «В великом Новграде Вадим / Пленял всех красотою, / И дерзким мужеством своим, / И сердца простотою».8 Стихи о «двенадцати спящих бутошниках» демонстрировали неожиданное для столь молодого автора знакомство с нравами московской полиции и смакование сцен пьяного разгула, что некоторым образом объясняет тревогу о нем, выраженную в письме Воейковой: «…для матери пора забот пришла с тех пор, как он на свете».9 В пародийном духе Воейкова излагает Жуковскому в своем письме финал «Вадима» и трактует балладную судьбу пробужденных дев, обреченных петь «на крилосе» (т. е клиросе в церкви) или играть на флейте. Вопрос «мой друг, скажи, как приняла мать того Вадима жену его?», на наш взгляд, нужно толковать так: «матерью того Вадима» (т. е. героя «Двенадцати спящих дев») Воейкова величает Жуковского, а «женой» Проташинского – принадлежащую ему пародию.Пародийные элементы в напоминании Жуковскому о «Двенадцати спящих девах» носили в письме Воейковой характер доброй, дружеской иронии10 (полагаем, именно к такого рода общению можно отнести слова Фридриха Шлегеля о «божественном дыхании иронии»11). Воейкова говорит об абстрактности судеб героев баллады, как будто впитав в себя ту жизненную и глубоко душевную практичность, которая была свойственна графине Прасковье Толстой (впоследствии ее окружение, после переезда Толстых в Петербург, чему способствовал, кстати, Жуковский, присутствует в его письмах под обозначением «Барыковы»). Написав Жуковскому, Воейкова, конечно же, выполнила просьбу обитателей Троицкого, желавших сгладить впечатление от его знакомства с «бутошниками», – и при этом как будто «прикрыла» своего двоюродного братца, добавив от себя ироничное замечание о «спящих девах»! Удалось ли это ей? Следует отметить, что в письмах поэта упоминаний об Иване Проташинском не обнаружено, хотя Жуковский безотказно отвечал на разного рода просьбы от своих родных (в том числе и от тех, кто представлял побочных детей, по-видимому, сочувствуя их судьбам).В 1828 году баллада Жуковского «Двенадцать спящих дев» привлекла внимание композитора А. Н. Верстовского (1799–1862), решившего создать на ее основе оперу в русском национальном духе. К написанию либретто был привлечен поэт, переводчик, критик журнала «Московский вестник» С. П. Шевырев (1806–1864), трудившийся над ним в 1828–1829 годах. Либретто имеет сложную историю, что отчасти было связано с тем своеобразным, с элементами пародирования, восприятием баллады, которое было характерно для сочинителя. Изучению истории либретто Шевырева положено основание в работах М. И. Аронсона и М. И. Медового,12 однако многие детали и сложные творческие моменты ускользнули от внимания исследователей, что диктует необходимость нового ее изложения на основе рукописных и печатных источников.Либретто Шевырева для оперы Верстовского «Вадим, или Пробуждение двенадцати спящих дев» не сохранилось. Как сообщал Шевырев в 1832 году, им была написана первая половина либретто в 1828 году,13 заканчивал же он его за границей в 1829 году: часть была выслана в апреле–мае из Германии, окончание – в начале осени из Италии.14 Работа Шевырева была с неодобрением встречена Верстовским, который отказался принять ее в качестве либретто для своей оперы. В итоге либретто было переписано с участием, главным образом, С. Т. Аксакова,15 а затем М. Н. Загоскина и кн. А. Н. Шаховского, хотя, по-видимому, какие-то из текстов Шевырева в нем были сохранены.Шевырев изменил сюжет баллады, поэтому осенью 1829 года он, еще не зная о реакции Верстовского, с беспокойством ожидал от него отклика. «…идея-то “Вадима” та, что и для отцеубийцы есть спасение в религии. Помнишь, я тебе рассказывал, – писал Шевырев Погодину, – одну сказку об Эдипе христианском? У нас великие идеи дремлют в народе: их надо пробуждать».16 Узнав об отрицательном отношении Верстовского к сюжетным новшествам, Шевырев, в ответ на письмо Погодина от 20 октября 1829 года,17 написал ему 27 октября (н. с.) 1829 года из Рима: «Всё, что годится в балладу, не годится на сцену – и обратно. Баллады Жуковского – это поэтические сны, бред Во сне можно влюбиться в 12 дев, а наяву нельзя, разве в 12 девок, чтоб не сказать похуже имени, щадя твои девственные уши. Какими же вещественными узами приковать Вадима к девам? Извини, не удержусь: ведь у него нет двенадцати х…. Поэтому из Вадима я и сделал мечтателя, который и гибнет невинною жертвой своего нравственного онанизма. Но мечтатель – лицо не драматическое; чем бы я наполнил действие, ибо мечтание не борение, а без борения действия нету. Для этого я и вызвал новую пружину, не существующую в балладе: отцеубийство. чтобы оживить идеальность содержания, произрастающую из главной мысли, я окружил его разными живыми сценами, как то: витязи, выбор женихов и невест и, наконец, пир. есть еще два способа: представить à la Пушкин “12 дев” поэтическою борделью или написать драматическую пародию – представив идеалиста немецкого, который доказывает по системе Шеллинга, что в 12 дев влюбиться возможно, или что-нибудь подобное».18Письмо Шевырева содержало намек на пародирование баллады Жуковского в одной из сцен «Руслана и Людмилы», хлестко названной им «поэтическою борделью». Другой путь для пародиста Шевырев видел в представлении Вадима «немецким идеалистом», на модном философском основании воспевающим любовь к двенадцати девам. Шевырев уверен, что этот балладный сюжет может жить только в стихах Жуковского.19 О возможностях пародирования баллады Шевырев писал, конечно же, в шутку, но это было ему необходимо, чтобы отстоять тот путь, по которому он шел, создавая либретто. Шевырев сделал Вадима незаконнорожденным и отцеубийцей (последний элемент был сохранен в либретто и в том варианте, который попал на сцену). Из ответов Шевырева на просьбы о необходимых переделках и писем к нему становится ясно, что в его либретто были и «хоры Бояна», и «темное проклятье», и «объяснительная» сцена в роще, и «сцена отчаяния», и «совершение таинства» (пробуждение дев) в пещере, из которой Вадим выходит «очищенный, преображенный, светлый», далее «восторг, нужный для идущего на бой», чудесные «щит и меч», наконец, «труп» Вадима. Киевский князь Владимир в творении Шевырева ругал своих слуг дураками и дурами (в опере князь был переименован в Святослава), после «адской» сцены следовала сцена с «капризами» Гремиславы и затем со «змеей». То, что было предложено взамен, казалось Шевыреву «смешным» и напоминало «твердовщину» Загоскина, т. е. его либретто к опере Верстовского «Пан Твердовский» (1828). Доказывая свою правоту, Шевырев ссылался на комедии Шекспира и восхищавшие его балеты известного итальянского хореографа С. Вигано (1769–1821).20 В письме к Погодину от 6 марта (н. с.) 1830 года Шевырев подвел итог: «Нечего толковать о “Вадиме”. Я вам дал полное право кромсать его как угодно, но не объявляйте, что он мой, и потушите молву об этом, если она есть».21Премьера оперы в роскошном художественном оформлении состоялась в Москве 25 ноября 1832 года. Вскоре была напечатана анонимная рецензия на постановку. Она содержала сообщение об авторском замысле либретто, написанное, несомненно, со слов Шевырева или же им самим. В рецензии говорилось: «“Вадим” первоначально был написан г. Шевыревым и имел совершенно другую мысль, другое расположение. У г. Шевырева поэма оканчивалась преображением витязя вместе с пробудившимися девами: Гориславе оставлены были одни рыдания над смертными останками жениха, погибшего жертвою своего бескорыстного подвига. Отцеубийство, которое теперь кое-как прилажено к механизму поэмы, совершалось не на сцене, даже не во время представления, и притом без всякого умышленного содействия ада; оно было случайным эпизодом прошлой жизни Вадима; пред глазами зрителей, на сцене, погибал от руки его просто литовский князь, также случайный похититель Гориславы. Повторения звонка, при различных искушениях, отвлекавших Вадима от цели, также не было; другие сценические пружины двигали машинизмом поэмы, как то: видение, сон, спасение спящего Вадима от змеи рукою Гориславы и проч. Расположение пиэсы было совсем другое: опера состояла из четырех актов; пролога не было. Но ни мысль сия, ни расположение не соответствовали, во-первых, музыкальным видам компониста, во-вторых, сценическим условиям театра».22 Это заявление, прозвучавшее после публикации на страницах «Молвы» нескольких текстов из либретто оперы, причем без указания имени автора, – песни новгородского витязя Стемида «Багровой тучей облекло…», песни с хором старца-пустынника «Первый кубок в честь тебе…» и его же песни «Давно здесь жил кудесник Громобой…», хора «Царский пир тебя честит…», песни Гремиславы «Моей судьбы печальней в свете нет…» и песни сторожевой девы,23 можно расценить как указание на то, что Шевырев не был автором этих текстов.Верстовский считал, что «русской оперой» о Вадиме был заложен «камень основания русской музыкально-драматической характеристики».24 Впоследствии он утверждал, конечно же, преувеличивая, что у либретто этой оперы было «десять авторов».25 В канун премьеры Шевырев опубликовал письмо, в котором отрекся от либретто, предлагая назвать его «общим произведением друзей композитора»; в нем он утверждал, что ему «до сих пор» не известны перемены, произведенные в нем.26 После увиденного спектакля Погодин написал Шевыреву 29 ноября 1832 года: «Считая себя терпящим, ты мог бы оправдаться, напечатав свою пиесу, как ты ее написал; но этого не присоветует тебе и враг. Ты прочти свою пиесу, взгляни на игранную и разочти, что было бы произведено выброшенною частью вместе с остальною».27 Впоследствии в «Русском биографическом словаре» было опубликовано ошибочное сообщение о том, что в 1832 году в Москве Шевырев будто бы издал свое либретто под заглавием «Вадим».28 С пометой «дезидерата» и отсылкой к этому словарю сообщение попало даже в каталог РНБ, где его можно видеть и по сей день! Между тем, из переписки Шевырева следует, что речь шла только о планах издания либретто. Об этом свидетельствует письмо бар. Е. Ф. Розена к Шевыреву от 16 декабря 1832 года из Петербурга, с упоминанием театрального цензора: «Вашего “Вадима” здесь не дают Могу отдать его в ценсурование, ибо я хорошо знаком с Ольдекопом, которого немногие знают под сим именем его – и не в шутку называют............!»29 В письме Н. А. Мельгунова от 18 января 1833 года говорилось о намерении опубликовать в альманахе, так и не вышедшем из печати, сцену пира из либретто Шевырева, прибавив к нему «вкратце содержание оперы: пусть все видевшие ее судят о разнице».30В прижизненных нотных изданиях А. Н. Верстовского печатались из оперы только песня Гремиславы «Моей судьбы печальней в свете нет…» и песня сторожевой девы «Идет, идет обетованный…»: первая с указанием на авторство Жуковского (такого текста в его наследии не имеется), вторая анонимно. Сохранилась писарская рукопись либретто из архива С. Т. Аксакова с его (и другого, неустановленного лица) поправками, вставками, записями, под заглавием: «Вадим, или Пробуждение двенадцати спящих дев. Волшебная опера в 3-х действиях с Прологом. [Взятая из баллады В. А. Жуковского]»; записи рукой Шевырева в ней отсутствуют.31 Либретто из архива Аксакова написано стихами и прозой, в то время как созданное Шевыревым сочинение было полностью стихотворным. По этой рукописи отрывки либретто публиковались в музыковедческих изданиях как якобы принадлежащие Шевыреву. Ввел аксаковскую рукопись в научный оборот С. Л. Гинзбург, который дал в подготовленной им хрестоматии подробный пересказ «либретто Шевырева», публикацию явления 3 из пролога с балладой старца-пустынника и явления 3 из действия II с песней «Моей судьбы печальней в свете нет…».32 В позднейшей многотомной «Истории русской музыки» по этой рукописи приводились тексты песен из «либретто Шевырева» «Завивайте венки…», «Просияй ты, солнышко красное…» и «Не соколы в теремах…» с нотами.33Что же в действительности сохранилось в наследии Шевырева из либретто «Вадима»? Если учитывать отречение автора от того, что представляла собой опера на сцене в 1832 году, мы можем с уверенностью включать в издания Шевырева только два сохранившихся текста – стихотворение «Ах! опять проснулась мука…», известное в автографе под заглавием «Романс из оперы “Вадим”» с датой «11 февр 1829. Москва»,34 и песню Гремиславы «Участь моя горькая…», опубликованную в 1830 году и перепечатанную в 1831-м.35 Эти тексты не были использованы в опере Верстовского, их нет и в рукописи Аксакова.Упоминание в письмах Шевырева о «хорах Бояна», восхищавших его друзей, позволяет высказать самое осторожное предположение о том, что помещаемый ниже текст из аксаковской рукописи мог принадлежать ему хотя бы частично (он очень близок Шевыреву идейно и по творческой манере):Боян(выходит на середину сцены и начинает)Не соколы в теремах, не стаи синиц,То витязей строй и хоры девиц!Не за лебедью плавнойУвивается орел,За царевной тихонравнойБогатырь младой вошел!ХорБудет пир певцу Бояну,Быть ему на свадьбе пьяну.БоянНе стожары горят у Перуна в дому,То племя княжье в златом терему.Не луна с звездами входитНа лазурный неба свод,За собою князь выводитМилых чад и свой народ!ХорНе шуметь, певцы, умолкни,Соловей рассыпься, щелкни!36В «Истории русской музыки» был напечатан по рукописи Аксакова из этой песни только первый куплет Бояна с хором (см. прим. 32).Опера «Вадим, или Пробуждение двенадцати спящих дев» была создана по мотивам произведения Жуковского. Изначально главным в замысле Верстовского была так называемая «русская характеристика» оперы, и эта сторона замысла не вызывала возражений со стороны Шевырева. Его трактовка сюжета «Вадима» была ультраромантической, и он, усложняя его, вводил в действие сложную психологическую мотивацию и яркие сценические эффекты. Пародирование Шевыревым в письмах к Погодину сюжета Жуковского имело «прикладное» значение, поскольку позволяло ему настаивать на правомерности своей трансформации сюжета.Утонувшие в сладострастии «двенадцать дев» Пушкина, пустившиеся во все тяжкие по наущению Асмодея герои Проташинского, изнемогающие под гнетом своей участи одиннадцать дев из письма Воейковой, наконец, решительно порвавший со своим поэтическим прототипом Вадим в либретто Шевырева для «русской оперы» – всё это были изводы восприятия одного произведения Жуковского, соотносимые как с различными жанровыми поисками, так и с общим восприятием сюжета, возвращаемого современниками из «облачного мира» на «грешную землю».×
About the authors
Svetlana Veniaminovna Berezkina
Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom), Russian Academy of SciencesRussian Federation,
References
- Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 2008. Т. 3.
- Зайцева И. А. Проташинский Иван Васильевич // Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. М., 2007. Т. 5.
- История русской музыки: В 10 т. М., 1988. Т. 5.
- Медовой М. И. С. П. Шевырев - либреттист "Вадима" (о новаторском характере исканий С. Шевырева и А. Верстовского) // Литературный процесс и традиции. Архангельск, 1992.
- Переписка В. А. Жуковского и А. А. Воейковой. 1811-1829 / Вступ. статья и комм. С. В. Березкиной; сост. и подг. текста С. В. Березкиной, Н. Л. Дмитриевой, В. С. Киселева и О. Б. Лебедевой. Томск, 2020.
- Русская стихотворная пародия (XVIII - начало XX в.) / Вступ. статья, подг. текста и прим. А. А. Морозова. Л., 1960 (Библиотека поэта. Большая сер.).
- Томашевский Б. В. Пушкин. М.; Л., 1956. Кн. 1 (1813-1824).
- Шлегель Ф. Критические фрагменты // Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. М., 1983. Т. 1.