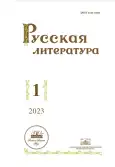LITERARY SOURCES OF PUSHKIN’S SKETCH «VESUVIUS OPENED ITS MOUTH...»
- Authors: Kurochkin A.V.1
-
Affiliations:
- The National Pushkin Museum
- Issue: No 1 (2023)
- Pages: 134-140
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0131-6095/article/view/126745
- DOI: https://doi.org/10.31860/0131-6095-2023-1-134-140
- ID: 126745
Full Text
Abstract
The article outlines the literary sources that A. S. Pushkin might have used in his work on the poem «Vesuvius Opened its Mouth.». Biblioteka dlja Chtenija magazine published an article The Last Day of Pompeii, a Painting by Karl Bryullov, containing the descriptions of the canvas translated from Italian. The Society for the Encouragement of Artists published translations of the foreign reviews of the painting as a separate book. It is likely that Pushkin began working on the poem before the canvas arrived to St. Petersburg. The poet’s drawing in the draft manuscript could have been made from the image of the painting reproduced in Biblioteka dlja Chtenija. In Pushkin’s sketch, there are reminiscences from Count Khvostov’s epistle to Bryullov, that contained a description of the canvas.
Full Text
© А. В. КурочкинЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПУШКИНСКОГО НАБРОСКА «ВЕЗУВИЙ ЗЕВ ОТКРЫЛ…»Принято считать, что набросок «Везувий зев открыл…» создавался Пушкиным под непосредственным впечатлением от привезенной из Европы картины К. П. Брюллова «Последний день Помпеи» в августе–сентябре 1834 года.1 Заказчиком полотна выступил член Общества поощрения художников и известный меценат А. Н. Демидов, будущий князь Сан-Донато. Во время работы над грандиозной картиной гибели античного города в 79 году н. э. художник пользовался письмами Плиния Младшего к Тациту. Трехтомное издание писем Плиния имелось и в библиотеке поэта.2 После завершения работы Брюллова над полотном в 1833 году, оно было представлено сначала в его мастерской в Риме, потом на Миланской художественной выставке. Итальянские зрители были в восторге. Между тем французская художественная критика приняла «Последний день Помпеи» достаточно прохладно во время его последующей демонстрации на Салоне в Париже, что не помешало картине получить золотую медаль. По окончании выставки Демидов распорядился доставить полотно в Россию. С середины августа 1834 года картина Брюллова находилась в Эрмитаже, а в конце сентября была выставлена на всеобщее обозрение в Академии художеств.Сохранились два черновых автографа наброска пушкинского стихотворения,3 на одном из которых, под текстом, поэт беглым росчерком пера изобразил фигуры представленных на полотне двух сыновей, несущих немощного отца. Академическое Полное собрание сочинений Пушкина представляет набросок в следующем виде:Везувий зев открыл – дым хлынул клубом – пламяШироко развилось, как боевое знамя.Земля волнуется – с шатнувшихся колоннКумиры падают! Народ, гонимый [страхом],Под каменным дождем, [под воспаленным прахом],Толпами, стар и млад, бежит из града вон.4Позднее в черновике статьи «Фракийские элегии. Стихотворения Виктора Теплякова. 1836» Пушкин привел аналогичное описание: «…в голове его (Брюллова. – А. К.) уже шаталась поколебленная Помпея, кумиры падали, народ бежал по улице, чудно освещенной Волканом».5Между тем на замысел поэта оказали влияние близкие к тексту наброска литературные источники. Еще до прибытия картины Брюллова в Россию в «Библиотеке для чтения» была напечатана статья, содержащая переведенные с итальянского языка на русский описания полотна.6 На колонтитулах значится – «Новый Микель-Анджело» – так назвали Брюллова восхищенные итальянцы. В описании Висконти узнается представленная Пушкиным трагедия античного города и дается характеристика фигур, которые мы видим на зарисовке, выполненной поэтом: «Небо пылает от необычайного и продолжительного блеска громовых молний; Везувий изрыгает свое убийственное пламя; пепел сыплется сухим дождем; камни падают, земля дрожит, здания колеблются: повсюду разрушение, трепет, испуг. Еще один миг, и эта жестокая драма совершится, и уже не станет ни города, ни жителей: все будет покрыто, поглощено общею могилою!.. Вот пример сыновней любви. Плечистый воин с помощию юного брата спешит спасти престарелого родителя от угрожающего им бедствия. Подъятый на рамена сыновние, старец возносит взор к небу, и старается рукою закрыть себя от сыплющегося сверху пепла. Яркий свет молнии падает на лысую голову, и во многих местах отражается на его дряхлом теле. Эта группа бесподобна, по противоположности характера лиц, составляющих ее. Воин являет вполне силу душевную и телесную: последняя обнаруживается в резком очерке всей его особы, дышащей бодростью и жизнию; первая в самом его движении: он лишь один не оглянулся при страшном и внезапном ударе грома! Наклоненная к земле голова его украшена отличною экспрессиею чувства: этот человек, который сам ничего не боится, трепещет за драгоценную свою ношу, смотрит, чтобы не оступиться, и, кажется, весь погружен в этой умильной мысли. Юный брат его, менее твердый, оглядывается страдальческим взором: он уже утомлен бременем, побежден страхом; испугавшись грома и молнии, он невольно остановился в ту минуту. В отце, удрученном летами, все члены опустились. Это старец, лишенный бодрости, трепещущий, бездушный. От потрясения почвы, две статуи, столкнутые с вершины одного надгробного памятника, летят на землю, и падением своем угрожают размозжить бегущих».7Далее в ряду других описаний приводится созвучная пушкинскому наброску следующая цитата из периодического издания «Biblioteca Italiana»: «Земля, потрясенная в своих основаниях; опрокинутые чертоги и храмы; под мрачным небом, Везувий, изрыгающий множеством жерл потоки огня, каменный град и лаву, которые, подобно бурным волнам, поглощают все окрест, – и ослепительный отблеск громового удара освещает всю эту ужасную сцену тьмы, замешательства и горя, эти толпы жителей, бегущих со страхом и с смертельною бледностью в лице, этих несчастных матерей с малютками у груди, жестоко раздирающими вам сердце своими слезами и стоном!..»8Ил. 1. Изображение с картины К. П. Брюллова «Последний день Помпеи», помещенное в «Библиотеке для чтения».Практически одновременно с появлением статьи в первом номере «Библиотеки для чтения» публикацию в русском переводе описания Висконти и других отзывов о картине в виде особой брошюры предприняло Общество поощрения художников.9 Предисловие написал секретарь Общества В. И. Григорович. Перевод итальянских текстов выполнил Валериан Лангер, воспитанник 2-го выпуска Царскосельского лицея, друг А. А. Дельвига, талантливый художник, иллюстратор «Северных цветов» и «Подснежника», автор статей по искусству в «Литературной газете», будущий цензор Санкт-Петербургского цензурного комитета.Первым в «Собрании описаний» представлен перевод обзора Висконти, имеющий незначительные отличия от публикации, помещенной в «Библиотеке для чтения». Надо полагать, что переводы с итальянского в смирдинском журнале также принадлежат Лангеру. Следом в «Собрании описаний» дан обзор филолога и переводчика Франческо Амброзоли,10 в котором читаем: «Картина представляет в отдалении пылающий Везувий, из недр которого стремятся и сливаются по всем направлениям реки воспламененной лавы, распространяя море огненного блеска на окрестности. Несчастные граждане, гонимые пожаром и непрерывными землетрясениями, устремляются из жилищ своих, ища спасения; но ужас преследует их на пути и здания начинают уже разрушаться, угрожая подавить их».11Отзыв на картину французской прессы в «Собрании описаний» представлен обзором «Gazette de France» от 11 ноября 1833 года, переведенным автором, скрывшим свое имя за литерами «N. N.». В статье дается такая словесная зарисовка: «…два сына спасают дряхлого отца; один едва вышедший из юношеского возраста устремляет на старца взор, исполненный нежности, между тем как старший, более возмужалый, в воинской одежде, поддерживает отца своим плечом и забывает, кажется, исполняя сей священный долг, окружающий его ужас; старец, коего взор устремлен на облако, из которого сверкает молния, не будучи в силах переносить ослепительного блеска ее, заслоняет глаза рукою. Преимущественно хвалят голову его и руку, столь живо изображенные, что оне совершенно отделяются от полотна. Обширное пламя, извергаемое Везувием, облако пепла, покрывающее город и, так сказать, заживо его погребающее, молния, рассекающая сию мрачную ночь, наступившую среди дня, разрушающиеся здания, статуи, отторженные от древних своих подножий и низвергающиеся с высоты чертогов – все это производит на зрителя действие, которого невозможно описать…».12После выхода в свет брошюры в типографии Х. Гинце, активная ее продажа, по-видимому, задержалась до прибытия брюлловского полотна в Петербург.13 Между тем экземпляр книжки уже в феврале оказался у участника Общества поощрения художников – графа Д. И. Хвостова. Как и другие члены, он получил издание при официальном сопроводительном письме Общества за подписью его председателя П. А. Кикина, датированном 9 февраля 1834 года.14 В ответном письме от 13 февраля, черновик которого сохранился в архиве Хвостова, граф благодарил Кикина за присылку брошюры, добавляя: «Я уже с большим удовольствием читал сие описание на русском языке в 1-м номере журнала Смирдина. Книжка, которую Вы мне изволили препроводить, неразлучно будет со мною до последнего дня жизни моей; воздаваемая справедливость и хвала русаку Брюлову иностранцами за его превосходные дарования приятны моему сердцу ».15 Следуя традициям XVIII столетия, Хвостов обычно откликался на все значимые события торжественными стихотворениями. Не стало исключением и получившее европейскую известность полотно отечественного мастера. «Послание Русскому живописцу Брюлову, на картину его, по заказу Анатолия Николаевича Демидова, изображающую последний день Помпеи, 1834 года Февраля 23 дня» создавалось графом еще до прибытия шедевра в Россию, поэтому для его описания Хвостов воспользовался публикацией «Библиотеки для чтения», изображением картины в журнале и брошюрой, изданной Обществом поощрения художников.Послание было помещено Хвостовым в седьмом томе собрания собственных стихотворений.16 Для включения в состав тома произведения, сочиненного уже после получения книгой цензурного разрешения, потребовалось особое обращение в цензуру. В архиве графа сохранилась писарская копия послания с проставленной поверх заглавия датой – 6 марта 1834 года, содержащая поправки и вставки, и имеющая небольшие разночтения с печатным текстом.17Седьмой том был напечатан в типографии Российской Академии, субботние собрания которой граф регулярно посещал на протяжении многих лет. Массовое распространение собственных сочинений сразу после их появления вошло у Хвостова в привычку. Не изменил он ей и на этот раз. Желая отослать книгу Н. М. Языкову, однако, не зная его точного местопребывания, граф решается адресовать корреспонденцию молодому собрату по перу на адрес симбирского почтмейстера. 21 мая граф отправляет Языкову письмо, к которому прикладывает и седьмой том, замечая, что он вышел «на сих днях».18 По-видимому, книга увидела свет в десятых числах мая 1834 года. По просьбе графа министр народного просвещения С. С. Уваров преподносит седьмой том императору Николаю Павловичу. Хвостов знакомит с книгой наследника престола, великого князя Александра Николаевича через его наставника В. А. Жуковского, находит способ представить том императрице Александре Федоровне через ее секретаря И. П. Шамбо и передать книгу великому князю Михаилу Павловичу и его супруге – великой княгине Елене Павловне через гофмейстера их двора Д. В. Васильчикова. Седьмой том передается в дар: обер-камергеру графу Ю. А. Головкину, министру финансов Е. Ф. Канкрину и, через посредничество П. Н. Беклемишева, светлейшему князю Варшавскому, графу И. Ф. Паскевичу-Эриванскому. Экземпляры книги отсылаются в Первопрестольную литераторам: И. И. Дмитриеву, М. Н. Загоскину, М. Н. Макарову, А. А. Писареву и знакомому графа П. И. Лялину. Седьмой том получают и петербургские сочинители: П. П. Свиньин, сразу два экземпляра – П. А. Вяземский, которого граф просит передать один В. Ф. Одоевскому. Общество поощрения художников Хвостов также не оставляет без внимания, и отправляет том В. И. Григоровичу. С. С. Уваров уведомляет Хвостова о получении 50 экземпляров тома в дар университетам и гимназиям. Через обер-прокурора Синода С. Д. Нечаева граф жертвует 12 экземпляров для рассылки по духовным училищам. По два экземпляра получают псковский гражданский губернатор А. Н. Пещуров и дерптский профессор К.-Ф. фон дер Борг: одну книгу для себя, другую – для губернской и университетской библиотек соответственно. Одариваемых лиц, учебных заведений и иных учреждений наверняка было больше. Мы перечислили лишь тех, кто откликнулся на присылку седьмого тома сохранившимися ответными письмами: представители императорской фамилии выразили свою благосклонность автору через посредников, остальные благодарили графа лично.19 Возможно, тогда же седьмой том граф передал и Пушкину, тем более что в книге были опубликованы адресованные ему послания: «Александру Сергеевичу Пушкину, члену Российской Академии, 1831 года, при случае чтения стихов его о клеветниках России» и «Соловей в Таврическом саду, 1832 года».20 Позднее в письме к И. И. Дмитриеву от 14 февраля 1835 года, упоминая о Хвостове, Пушкин заметит: «Современник ваш слава богу, здравствует и продолжает посещать книжную лавку Смирдина ежедневно, а академию по субботам. В лавке забирает он свои сочинения, всё еще нераспроданные, и раздает их в академии своим сочленам с трогательным бескорыстием».21 Надо полагать, что Хвостов мог как прислать книгу Пушкину, так и оставить для передачи ему у книгопродавцев, или же преподнести при личной встрече. Однако экземпляр книги, если он и был в пушкинской библиотеке, до нас не дошел. Подтверждением тому является имевшееся в книжном собрании поэта, но также не сохранившееся и, по-видимому, подаренное Хвостовым, отдельное издание его стихотворения, сочиненного по случаю совершеннолетия и присяги великого князя Александра Николаевича.22 Брошюра со стихотворением вышла незадолго до появления седьмого тома. Между тем хвостовское послание к Брюллову не осталось без внимания Пушкина. Приведем его.РУССКОМУ ЖИВОПИСЦУ БРЮЛОВУ,На картину его, по заказу АнатолияНиколаевича Демидова, изображающуюпоследний день Помпеи, 1834 года Февраля 23 дня.С брегов Невы или переселенНа южный брег я дальних стран Европы,Где в старину ковали медь Циклопы,И Плиния пожар похитил в плен.На севере ль мой слух рыданье внемлет?И чувствую и пред глазами зрюПомпеи я последнюю зарю.Уже зажгла летящих искр свирепосьПрекрасную полдневную окрестность.Везувия несытое жерлоОтверзлося и быстро повлеклоИ серный дым густой и камень с треском;Земля кругом полна багровым блескомКолеблется и рыхнет под стопой;Горючих тел многообразный стройТеснит сердца и ослепляет очи,Там жители средь дня мрак видят ночи;Там вопль и вой младенцев, крик и вдов,Там бледность лиц, смешенье голосов,Полмертвецы, зря гибели мгновенья,Спеша ползут от милых мест рожденья.Там громовой удару вслед удар,Там молния отлив небес на шар,Героя лик как жертва бурь ревущихОбрушился и давит сонм бегущих.Там ветра рев, Бореи крышки рвут,Там капища и целый ряд селенийНа бездны глубь расплавлены падут;Там вихри мирт, цитроны и сирениКорнями вверх по воздуху несут.Огонь давно исхитился из сопки,Везде напасть повсюду ужас, страх,Спасенья нет ни в граде, ни в полях!И бедные и богачи бездомки,Где город был сияющ красотой,На месте том и лава и обломкиСковали мост смолистой тяготой,Заклокотав в пылающей порфире,Волкан взревел… и нет Помпеи в мире.Но от чего тревожит мысль, мятетСобытие давно минувших лет?Брюлова кисть – волшебное искусство,Растрогало мое внезапно чувство,Заставило соземцев слезы лить,Чужое зло постигнуть, разделить.Се дара луч, венец и превосходствоНезримого являть и дух и свойство:Брюлов, сквозь цепь перелетя веков,Животворит давнишних мертвецов.23Не вызывает сомнения, что Пушкин ознакомился как с переведенными отзывами о картине, так и с ее описанием в послании Хвостова.24 В таком случае идея отразить в стихах гибель античного города могла возникнуть у Пушкина ранее прибытия «Последнего дня Помпеи» в Россию, и работа над стихотворением началась до экспонирования полотна в Северной столице. Расположение черновиков наброска в пушкинской тетради не исключает такой возможности.25 Вполне вероятно, что собственный рисунок поэта в рукописи выполнен с изображения, помещенного в «Библиотеке для чтения».Литературные описания картины, и то, как им следует Хвостов в своем послании, позволяют воссоздать ход пушкинской мысли. Если «Оду его сият. гр. Дм. Ив. Хвостову» Пушкин сознательно стилизует под Хвостова, адресуя ее не столько ему, сколько молодым одописцам, то в стихотворении о гибели Помпеи избегает напыщенности, емко и выразительно демонстрируя трагедию античного города. Начало наброска: «Везувий зев открыл – дым хлынул клубом…» отсылает к хвостовскому витиеватому описанию: «Везувия несытое жерло / Отверзлося и быстро повлекло / И серный дым густой…». Далее: «земля волнуется» или «земля содрогнулась», «по трепетной земле» – в других вариантах26 – идет перекличка с хвостовскими строками: «Земля кругом полна багровым блеском / Колеблется и рыхнет под стопой». Трагедия происходит в момент разрушения античного мира и зарождения христианства. Народу, который не соблюдает христианские заповеди – возвеличивает языческих кумиров и украшает гробницы их изваяниями – путь в новый мир закрыт. Извержение Везувия приводит к падению статуй. Хвостов показывает драматические последствия этого: «Героя лик как жертва бурь ревущих / Обрушился и давит сонм бегущих». Пушкин опускает результат крушения кумиров. Его не устраивает хвостовское замедленное представление событий: «Полмертвецы, зря гибели мгновенья, / Спеша ползут от милых мест рожденья», и он ускоряет развитие действия: «Толпами, стар и млад, бежит из града вон». Под пером Пушкина картина бедствия вырисовывается предельно лаконично. В сравнении с высокопарным слогом описания трагедии Хвостовым она выглядит глубже и убедительней.×
References
- Балакин А. Ю. Близко к тексту: Разыскания и предположения. 2-е изд., испр. и доп. СПб.; М., 2022.
- Виницкий И. Ю. Граф Сардинский: Дмитрий Хвостов и русская культура. М., 2017.
- Довгий О. Л. Пушкин и Хвостов в "хвостовской лавке" "Арзамаса" // Поэтика русской литературы: Сб. статей к 80-летию проф. Ю. В. Манна. М., 2009.
- Довгий О. Л. Тритон всплывает: Хвостов у Пушкина // Граф Дмитрий Иванович Хвостов. Сочинения. М., 1999.
- Кардаш Е. В. "Везувий зев открыл - дым хлынул клубом - пламя." (1834) // Пушкинская энциклопедия: Произведения. СПб., 2009. Вып. 1. А-Д.
- Курочкин А. В. Н. М. Языков и граф Д. И. Хвостов: диалог романтика и классика // Литературный факт. 2021. № 4 (22).
- Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: [В 16 т.]. М.; Л., 1948-1949. Т. 3. Кн. 1-2; 12; 16.
- Пушкин А. С. Рабочие тетради. = Alexander Pushkin. The working notebooks: В 8 т. СПб.; Лондон, 1996. Т. 5.
- Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1968.