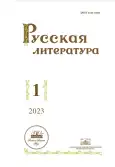ALL THE INSIGHTS OF THE WORLD: ANAGNORISIS IN LITERATURE AND ART NINTH APRIL INTERDISCIPLINARY INTERNATIONAL RESEARCH CONFERENCE
- Authors: Denisenko S.V.1
-
Affiliations:
- Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom), Russian Academy of Sciences
- Issue: No 1 (2023)
- Pages: 280-283
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0131-6095/article/view/126764
- DOI: https://doi.org/10.31860/0131-6095-2023-1-280-283
- ID: 126764
Full Text
Full Text
ДЕВЯТАЯ АПРЕЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВСЕ ОЗАРЕНИЯ МИРА: АНАГНОРИЗИС В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ»25-26 апреля 2022 года состоялась очередная Апрельская международная междисциплинарная научная конференция, проходившая в рамках начавшегося еще в 2014 году проекта «Неканоническая эстетика», который посвящен исследованию неклассических эстетических категорий.1 На этот раз исследователи обратились к категории анагноризиса, «озарения», обретения знания, перехода от неведения к осведомленности, и рассмотрели его репрезентации в различных видах искусства. Организаторами конференции традиционно выступили сотрудники ИРЛИ РАН, Псковского государственного университета и Тверского государственного университета. Конференция проходила в синтетическом формате: 25 апреля состоялись очные заседания в ИРЛИ РАН, все доклады были представлены в блоге конференции ( www.anagnorisis2022.blogspot.com ), что дало возможность ознакомиться с представленными материалами, изложить вопросы и замечания, участвовать в дискуссии до исчерпания темы.Оргкомитет предложил исследовать эстетику, риторику и поэтику постижения истины; отражение анагноризиса средствами обыденного языка и средствами языка художественной литературы; сцены узнавания в различных жанрах словесности и фигуративных искусствах; анагноризис в сюжетосложении; анагноризис и катарсис.Конференция открылась докладом М. В. Загидуллиной (Челябинск) «Эстетика научного осмысления: об одной научной дискуссии», в котором шла речь о работе Лорина Фризена, опубликованной в Academia Letters в августе 2021 года и вызвавшей бурную дискуссию. Фризен полагает, что существует особая «эмоция теорий», охватывающая представителей научного сообщества в момент постижения «красоты концепции» («порядок-в-сложности»). Познание как источник эмоционального отклика рассматривается ученым одновременно и как следствие такой эмоциональности (потребности к упорядочиванию хаоса). Возникает парадокс «эмоционального от рациональности», заставляющий пересматривать сам принцип противопоставления «логического» и «художественного».С. А. Фомичев (Санкт-Петербург) выступил с докладом «Откровение преломленного хлеба: о поэтике произведений В. Т. Шаламова». В колымском рассказе «Хлеб» запечатлен — в противовес «драке из-за куска селедки» — высокий смысл разделенного (преломленного за общей трапезой) хлеба: прозрение, откровение человеческого единства. Исследователь сравнил это с христианским обрядом эвхаристии, таинством причащения.Выступление О. А. Кузнецовой (Москва) было озаглавлено «Момент осознания на русских сюжетных изразцах XVIII века». Группа «философских» сюжетов на русских лицевых изразцах имеет эмблематическую предысторию, но благодаря введению нового героя (с репликой от первого лица) и семантике его жестов зритель может почувствовать себя внутри ситуации, разделить ее с персонажем и прожить, проецируя на картинку с общим сюжетом личные обстоятельства. Наиболее выразительны в этой группе персонажи с репликой «Не так, как думаю»; их позы демонстрируют реакцию человека, потрясенного новостью, осознавшего истинное положение вещей.Раскрывая тайну заглавия секстета Чайковского «Воспоминание о Флоренции», С. В. Фролов (Санкт-Петербург) в докладе «Таинства сокрытий в творчестве П. И. Чайковского» подчеркнул, что Флоренция была значима для композитора не сама по себе, а как напоминание о том творческом подъеме, который он испытал в этом городе в 1890 году, сочиняя кульминационную для последнего периода его жизни оперу «Пиковая дама».А. О. Дёмин (Санкт-Петербург) в выступлении «Финал Четвертой симфонии П. И. Чайковского в свете биографических данных» рассказал о событиях 1877 года в личной жизни композитора и особенно о его опрометчивой и неудачной женитьбе. Главная тема финала связана с образностью свадебного праздника, а цитируемый народный напев «Во поле береза стояла» напоминает о презрении жены к нелюбимому мужу и ее нарочитой измене с молодым любовником. Симфоническое развитие темы «Березки» приводит к трагической кульминации финала и симфонии в целом — возвращению темы неумолимой и гнетущей судьбы. Финал симфонии рассматривается как образ удалого свадебного гулянья, неотделимого от жгучего личного горя, что является отражением безрадостного восприятия композитором собственного брака.В докладе А. Р. Медведевой (Челябинск) «„Я помню, что мое имя оранжевое и пахнет спиртом“: как игра „Диско Элизиум“ вскрывает механизм познания через интерфейс амнезии» исследуется дихотомия интерфейс-контент компьютерной игры при помощи шизоаналитического подхода (Ж. Делез, Ф. Гваттари). Игра приковывает внимание игрока к машинной части познания через амнезию, основанную на реконструкции ощущения новизны как аффективного условия познания.В выступлении И. А. Лобаковой (Санкт-Петербург) «Обретение знания о грядущем в сюжете житий затворников XVII века» были рассмотрены два памятника, в которых события эпохи Смуты отразились в рассказах о подвижниках, всю жизнь проведших в затворе. Эти произведения имеют мало сходства. Обстоятельное «Житие Иринарха Ростовского», написанное учеником аскета Александром, имеет сложную композицию с сюжетными повторами, включением множества исторических лиц, особым взглядом на события Смуты, где открывшееся Иринарху будущее Руси стало одним из эпизодов в жизни святого. Небольшое по объему «Житие Галактиона Вологодского», созданное почти через 30 лет после убийства подвижника, основано на устных преданиях его почитателей, где пророчество представлено центральным эпизодом памятника. Однако в обоих произведениях обретение знания о грядущем ничего не может исправить в настоящем или нравственно возвысить людей: исторический сюжет развивается по своим законам, которые подчиняют себе человеческую жизнь.С. А. Васильева (Тверь) рассмотрела конфликт в романе Вс. С. Соловьева «Волхвы» (доклад «Прозрение Калиостро: масоны и розенкрейцеры»), связанный с противостоянием двух неординарных личностей: вымышленного героя Захарьева-Овинова и мага Калиостро. В конце романа автор эффектно использует анагноризис: прозрение для Калиостро наступает в тот момент, когда он узнает, что его противник — розенкрейцер предпоследней степени посвящения и борьба с ним невозможна. Появление Захарьева-Овинова как представителя розенкрейцеров и наказание Калиостро свидетельствовали о силе нравственных законов, которые правят миром, образы этих героев служат в романе Соловьева для фиксации ценностных нормативных значений.В докладе А. М. Грачевой (Санкт-Петербург) «Сновидческое озарение как форма творческого синтеза (на материале «Дневника мыслей» Алексея Ремизова)» проанализировано отражение в сно-формах продолжавшегося и ночью процесса творческого озарения. В это время писатель обдумывал и неоднократно мысленно «проигрывал» план построения, формулировку основной идеи, лейтмотивную характеристику образов героев того или иного произведения. На «ночных страницах» отражены также попытки Ремизова в образах-метафорах передать свое переживание творческого акта как составной части экзистенции писателя.Анагноризис, переживаемый главным героем романа А. Мариенгофа «Циники» (выступление В. С. Сычевой (Москва) «Анагноризис революции: любовь как путь постижения русской истории»), обнажает истинное лицо революции, воплощением и жертвой которой становится роковая красавица Ольга. Постижение истины происходит постепенно: лишь самоубийство супруги открывает Владимиру глаза на силу ее характера и жестокость происходящих событий. Эти откровения воплощаются через неканоническую эстетику художественного метода Мариенгофа — в эпатирующем сочетании красоты и гнусности, характерном для символистской и постсимволистской культуры.В докладе И. В. Мотеюнайте (Псков) «Откровение палача: осознание и сказ» анализируется рассказ Н. Аржака «Руки», написанный в форме сказа. Кульминацией в нем становится понимание героем сути его деятельности в особой комиссии ЧК. След христианской культуры в его речи репрезентирует озарение, приведшее к нервному срыву и изменению в дальнейшей судьбе. Играя дискурсами, автор обогащает психологическую проблематику рассказа социально-историческими коннотациями. На этом примере видна эволюция сказовой формы повествования: от изображения неграмотности или самобытного осмысления иной культуры у Лескова через разоблачение обывательской психологии у Зощенко к обнаружению легко проникающей в сознание идеологической пропаганды.А. А. Липинская (Санкт-Петербург) рассмотрела ситуацию вторжения странного и непостижимого в рационально устроенный мир в готической новеллистике (доклад «Катарсиса не будет: ситуация узнавания в готической новеллистике»). Момент столкновения двух реальностей, осознания героями неправильности происходящего играет важную роль в сюжете. Подобное узнавание, как правило, не облегчает героям жизнь. Если оно и открывает им истинную природу вещей, то не в полной мере, скорее показывает, что их представления о мире вопиюще неполны и не учитывают существование разного рода зловещих чудес, похоже, принципиально непостижимых.Мистическую тему продолжил А. Ю. Сорочан (Тверь) в докладе «Открытые Врата: мистические озарения в мемуарной и художественной прозе А. Мейчена и Э. Блэквуда». Известные писатели-мистики, участники «Герметического ордена Золотой Зари», неоднократно описывали в повестях и рассказах «запредельные откровения», пережитые в реальности. Но столь же метафорические интерпретации получали эти «мистические» события и в автобиографической прозе Мейчена и Блэквуда. На нескольких примерах исследователь попытался показать, как художественная трансформация «откровения» влияет на мемуарное описание и как верифицируется в мемуарах мистический опыт, а также продемонстрировать, как «озарение» вытесняется на периферию мистической литературы начала ХХ века, сменяясь «ужасом» и «восторгом».В докладе М. Г. Кожевникова (Новосибирск) «Эстетическая организация анагноризиса земного рая и рая небесного (на материале древнерусских хождений в земной рай и апокалипсисов вознесения)» были проанализированы особенности повествования, построенного вокруг постижения тайны иного мира, в двух типах текстов: в хождениях в земной рай и в апокалипсисах вознесения. Героям этих двух типов текстов предстояло узнать несоизмеримые по своему масштабу и сокровенности тайны, с чем соотносится и разный статус героев, и разный тип иного мира, в который они направляются. Подобные различия обусловливают и разницу в подготовке анагноризиса в повествовании: тайны апокалипсисов столь запредельны, что без сложного обрамления момента анагноризиса (в виде разных способов инициации-перерождения) невозможно не просто достижение источника тайны (к чему сводится подготовка познания тайны в хождениях), но невозможно само ее восприятие и понимание неподготовленным отмирным разумом героя.А. О. Дроздова (Тверь) в докладе «Мотив узнавания в сюжете о встрече Христа с народом» рассмотрела мотив узнавания в поэме Ф. Н. Глинки «Таинственная капля. Народное предание». В сюжете о встрече Христа с народом возле реки Иордан анагноризису предшествует длительное ожидание грядущего Мессии, которое фиксируется поэтом в нескольких исторических, географических и социально значимых деталях. Значимую роль имеют нравственные качества ожидающих людей, которые становятся критерием постижения/непостижения истины. Глинка, преобразовав Евангельский сюжет, привнес свои представления и совместил собственное видение и канонические библейские тексты, создав определенный художественный мир поэмы, в котором не последнюю роль играет мотив узнавания, открытия и принятия Евангельского откровения.«Анагноризису в романе И. А. Гончарова „Обрыв“» был посвящен доклад Н. В. Калининой (Санкт-Петербург). По мнению исследователя, главной пружиной и целью персонажа-рассказчика Райского было раскрытие любовной тайны сестры, и в этом плане генеральный сюжет «Обрыва» может быть определен как «сюжет узнавания», целиком и полностью разыгранный по законам «Поэтики» Аристотеля. Виртуозно примененный прием анагноризиса использовался писателем исключительно в интересах развития действия. Мастерство Гончарова отразилось в том, что ситуация узнавания, долго сдерживаемая искусственными сюжетными ретардациями и каскадом событий в побочных линиях, повторилась трижды.В докладе А. В. Батулиной (Великий Новгород) «„Дух пытливости и желание увидеть чудеса природы“: узнавание как средство формирования индивидуального лексикона (на материале романа Н. А. Лейкина «Где апельсины зреют»)» было рассмотрено влияние познавательной активности персонажей на процесс развития лингвокогнитивной составляющей индивидуального лексикона. Выделены два типа изменения индивидуального лексикона: расширение объема тезауруса благодаря усвоению новых понятий и обогащение уже существующих концептов через знакомство с культурой и бытом европейцев. Сделан вывод об индивидуальной направленности познавательной активности персонажей, которая проявляется в выборе объекта восприятия и возникающих в результате акта анагноризиса ассоциативных признаках концепта.В. Л. Гайдук (Москва) в выступлении «Источники вдохновения В. Я. Брюсова» на основе ранних дневников и записных тетрадей проанализировала состояние влюбленности как одного из источников брюсовского вдохновения. Автор пришла к выводу, что несмотря на приверженность молодого Брюсова различным иррациональным веяниям эпохи Серебряного века, он оценивал состояние вдохновения с утилитарной точки зрения. В его мировоззрении оно не отменяло той работы «над стихом», которую он старательно проводил. Влюбленность вдохновляла поэта на новые произведения, но зачастую важен был не образ конкретной девушки, а сам факт наличия некоторого возвышенного чувства.Доклад Р. Р. Кожухарова (Москва) назывался «Слово как „Логос“: переосмысление символистского отношения к реальности и реализму в манифестах акмеистов». Акмеисты, стремясь к обретению «более точного знания», обретают это знание в слове, которое понимается не только как материал для поэтического строительства, но как Слово с большой буквы, Логос. Эта насущная для акмеистической идейно-эстетической программы установка актуализирует проблематику познания и подражания реальности с учетом феноменов «обретения знания», «узнавания».Доклад В. Ю. Даренского (ЛНР) был посвящен «Модели анагноризиса в стихотворении И. Бунина „В горах“». Анагноризис в стихотворении достигается путем соединения определенной образной конструкции (созерцание горных видов, переданное в стихе) и метафизического прозрения. Выражение «нет разных душ», подобно коану, подталкивает сознание к этому «сатори»-прозрению. Предпосылкой прозрения становится образный ряд «дикой» жизни как символа истока человеческого бытия.В докладе М. И. Крупениной (Подольск) «Моменты прозрения как опорные точки композиции в романе Ч. Диккенса „Дэвид Копперфильд“» были показаны и рассмотрены различные типы особых моментов просветления сознания: «ретроспективные» прозрения (внезапное осмысление ситуаций, инициирующее преобразование событий прошлого); «вербальные» прозрения (постижение какой-либо истины в беседе, вызывающее ощущение дежавю). Вспышки прозрения, использованные Диккенсом, воплощаются впоследствии в часто встречающийся у модернистов прием — «эпифанию», яркое духовное переживание, целью которого, в отличие от прозрений реалистической литературы, является постижение эстетической стороны объектов действительности.Н. С. Ищенко (ЛНР) в сообщении «Два уровня анагноризиса в мультфильме „Девятый“» (2009) рассмотрела анимационный текст как гипертекст и указала на кинематографические способы его создания, в частности на несколько параллельных сюжетных линий, сходящихся в финальной точке, и на заимствование сюжета. Был прослежен сюжет о Ветхом Адаме, Адаме Кадмоне, реализованный в постапокалиптической эстетике мультфильма.Завершилась конференция докладом А. Д. Степанова (Санкт-Петербург) «Типология непонимания классического текста и задачи комментирования», в котором были рассмотрены проблемы, решаемые современной теорией комментирования. Автор опирался, во-первых, на предложенную А. П. Чудаковым идею «тотального комментария», а во-вторых, на типологию видов непонимания художественного текста, разработанную Ю. И. Левиным. Развивая систему Левина, докладчик обратил внимание на вид непонимания, который он назвал каламбурным непониманием. Это особого рода фактические ошибки, возникающие при перенесении слова или реалии в иной (современный) контекст. Пример устранения такого рода ошибки прочтения рассказа Чехова «Толстый и тонкий» с помощью «тотального комментария» позволяет предложить новеллистическую трактовку жанровой природы этого рассказа, поскольку ее основное событие оказывается невероятным происшествием, возможным только при прямом вмешательстве верховной власти.Посетители блога конференции ознакомились с докладами А. С. Сердюк (Томск) «Записки Задонского и журнал Печорина: открытие себя в „Sketches of Russian Life in the Caucasus“» и Э. Т. Ахмедовой (Москва) «Откровения в темной комнате: спиритический сеанс в романе А. Конан Дойла „Туманная земля“».Участникам конференции удалось продемонстрировать сложность изучения анагноризиса и одновременно сообщить читателям/слушателям новую информацию. Озарение не сводится к религиозной проблематике и к литературному описанию «высших прозрений». Помимо мистики, столь же важными оказываются и логика, и эстетика, и антропология. Категория «анагноризис» выходит за рамки аристотелевской поэтики, поскольку не вписывается в четкую модель разграничения «трагедии» / «комедии». «Озарение» происходит различными путями: при обряде инициации (в различных формах), в пророчестве, в спиритической практике, при «вдохновении» («явлении Музы») у автора, в любви или ее потере (у персонажей). Анагноризис претерпевается на различных уровнях: автором, его персонажами, читателями.По материалам конференции вышел сборник: Неканоническая эстетика. СПб.; М., 2022. Вып. 9. Все озарения мира: Анагноризис в литературе и искусстве.© С. В. Денисенко×
About the authors
Sergei Viktorovich Denisenko
Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom), Russian Academy of SciencesRussian Federation,
References