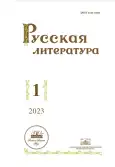THE STRANGER’S SPEECH IS CLEAR TO HIM... INTERNATIONAL RESEARCH CONFERENCE IN HONOR OF THE 200TH ANNIVERSARY OF A. A. GRIGORIEV
- Authors: Anokhina I.Y.1, Dmitriev A.P.2
-
Affiliations:
- A. M. Gorky Institute of World Literature, Russian Academy of Sciences
- Institute of Russian Literature (the Pushkin House), RAS
- Issue: No 1 (2023)
- Pages: 286-290
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0131-6095/article/view/126766
- DOI: https://doi.org/10.31860/0131-6095-2023-1-286-290
- ID: 126766
Full Text
Full Text
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЕМУ ЧУЖАЯ РЕЧЬ ЯСНА...», ПОСВЯЩЕННАЯ 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. А. ГРИГОРЬЕВА14-16 июня 2022 года Центр по изучению традиционалистских направлений в русской литературе Нового времени Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, «Дом А. Ф. Лосева — научная библиотека и мемориальный музей», Научная лаборатория «Rossica: русская литература в мировом культурном контексте» при участии Совета молодых ученых Института мировой литературы имени А. М. Горького РАН и Международной научной лаборатории исследований русско-европейского интеллектуального диалога Национально-исследовательского университета «Высшая школа экономики» провели совместную международную конференцию «Ему чужая речь ясна...», посвященную 200-летию со дня рождения Аполлона Григорьева (16 июля 1822 — 25 сентября 1864). Выступили 34 докладчика из России, Венгрии, Германии, Израиля, Италии, Польши и США. Конференция проходила в смешанном формате — очно в Москве в Библиотеке-музее «Дом А. Ф. Лосева» (ул. Арбат, д. 33) и в онлайн-режиме. «Дом А. Ф. Лосева» вел прямую трансляцию всех заседаний.Открыли конференцию приветственными словами заместитель директора ИМЛИ Д. С. Московская, заведующий МЛ РИД НИУ «ВШЭ» В. К. Кантор и председатель Оргкомитета конференции Е. А. Тахо-Годи, единодушно подчеркнув особое значение для русской культуры Ап. Григорьева — литературного критика и мыслителя, поэта и прозаика.Заседание 14 июня открылось выступлением В. М. Лурье (Новосибирск). В докладе «Восприятие богословия А. С. Хомякова Аполлоном Григорьевым» он отметил, что интерес и симпатия Григорьева к славянофилам и особенно к Хомякову проявились уже в середине 1850-х годов, о чем свидетельствует участие Григорьева в славянофильском журнале «Русская беседа», где он в 1856 году опубликовал статью. Тем заметнее на этом фоне его полное равнодушие к религиозной тематике. Внимание к богословию Хомякова было спровоцировано в 1858 году случайным знакомством Григорьева с только что вышедшей его третьей богословской брошюрой на французском языке.К.А. Баршт (Санкт-Петербург) выступил с докладом «Борьба Аполлона Григорьева с догматизмом в церковной и общественной жизни и поэма Ивана Карамазова „Великий инквизитор“», где показал, что ряд вопросов, поставленных Григорьевым в статье «Оппозиция застоя. Черты из истории мракобесия» (1861) — в частности, проблема «церкви для атеистов» (людей, неспособных усвоить идеи Нового Завета), вопросы о значении церковного и светского авторитета, о совместимости учения Христа с попытками созидать благо с помощью насилия, — получили детальное освещение в книгах А. М. Бухарева. Те же вопросы обнаруживаются на уровне реминисценции в поэме Ивана Карамазова «Великий инквизитор».С.А. Кибальник (Санкт-Петербург) представил доклад «Аполлон Григорьев, Достоевский и Чехов (художественные воплощения, трансформация и переоценка русского почвенничества)» в форме презентации монографии «Философский интертекст творчества Достоевского» (СПб., 2021). Исследователь отметил, что Достоевский до конца жизни сохранил родство с Григорьевым в приверженности идеалу «живой жизни», которая звучит как в пламенных декларациях «смешного человека», так и в умудренных житейским опытом заветах старца Зосимы, а также в верности «народной правде», открытой им в творениях Пушкина.В докладе «Стиховые новации Аполлона Григорьева — переводчика: дольник, верлибр, прозаическая миниатюра» Ю. Б. Орлицкий (Москва) показал, что новаторство Григорьева в области стихосложения относится прежде всего к переводам лирики Гете и Гейне, работая с которой Григорьев активно использовал дольник и свободный стих. Если к дольнику для передачи немецких «freie rhythmen» русские поэты обращались и раньше, то использовать для этой цели свободный стих (верлибр) Григорьев стал одним из первых. Для передачи ритмики оригинала он обращался еще и к прозаическому переводу стихов — в статье «Русская изящная литература в 1852 году», куда включил более десятка собственных переложений лирики Гейне.В фокусе внимания Л. Луцевич (Польша), представившей доклад «„Моя исповедь — без малейшей утайки“ (эпистолярные признания Аполлона Григорьева)», оказались исповедальные мотивы миницикла писем Григорьева М. П. Погодину от 26 августа — 7 октября 1859 года. Были проанализированы изложенные в письмах события и впечатления, душевные порывы, отразившие животрепещущие темы григорьевского бытия. Наряду с автобиографическими признаниями и сведениями бытового характера, затронуты вопросы общественной жизни, религии, журналистики и др.В докладе А. Н. Ларионовой (Череповец) «Поэтика авторского самовыражения в воспоминаниях Аполлона Григорьева „Мои литературные и нравственные скитальчества“» было показано, что образ автобиографического героя, занимая центральное место в мемуарах, создает особое экзистенциальное пространство, раскрывающее читателю природу авторского я. Я-эго героя складывается из его автохарактеристик, формируя целую систему, комплекс элементов из так называемых «типологических формул» (Л. Я. Гинзбург), принадлежащих разным сферам жизнедеятельности: биологической, психологической, социальной.Доклад Н. Н. Подосокорского (Великий Новгород, Москва) «Масонское учение в творчестве Аполлона Григорьева» был посвящен анализу свидетельств о его увлечении масонством, в частности А. А. Фета, друга юности Григорьева, о григорьевском «поступлении в масонскую ложу». «Гимны» Григорьева (1845) были рассмотрены в контексте гимнов русских масонов конца XVIII — первой четверти XIX века. Выступавший поддержал мнение историка А. И. Серкова, что Григорьев был посвящен в одной из подпольных масонских лож, и предположил, что псевдоним поэта «А. Трисмегистов» отсылает не только к романам Ж. Санд, но и к сочинениям, приписываемым легендарному Гермесу Трисмегисту, свидетельствуя об увлечении Григорьева герметическими науками.В. А. Воропаев (Москва) в докладе «Аполлон Григорьев и Николай Гоголь» подчеркнул, что идея об «отрицательном задании» Гоголя в русской литературе была ключевой для Григорьева, а главную причину творческой драмы критик видел в неспособности писателя найти «героические» типы в окружающей действительности. Отметив, что издание Полного собрания сочинений Григорьева, начатое в ИРЛИ, представляет насущную задачу науки, исследователь упомянул запрещенную рецензию критика на постановку «Ревизора» (1851), текст которой, возможно, затерялся в недрах ЦГИАМ.В докладе «Аполлон Григорьев и Николай Страхов: к вопросу об искусстве и нравственности» Р. И. Джабраилов (Москва) рассмотрел вопрос о соотношении эстетики и морали в переписке двух критиков, опираясь, главным образом, на положения статьи Григорьева «Искусство и нравственность. Новые Grübeleien по поводу старого вопроса». Было замечено, что, обсуждая со Страховым эти категории, Григорьев представил собственные оригинальные суждения о понимании этики и эстетики в области повседневной жизни человека.Д. Йожа (Венгрия) в докладе «Русский литературный канон и романный герой в интерпретациях Аполлона Григорьева» отметил, что благодаря циклу статей «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» (1859) Григорьев оказался законодателем русского литературного канона, вопреки отведенной ему роли «kleinmeister» в русской критике. Ключевые пункты теоретизирования в цикле напоминают о В. Г. Белинском, несмотря на скепсис критика по поводу его оценок романтизма. Цикл 1859 года — это идеальная выборка выдающихся произведений и авторов середины XIX века.В докладе К. А. Жабинского (Ростов-на-Дону) «Автобиографические мотивы в „Цыганской венгерке“ Аполлона Григорьева и Сергея Рахманинова: „бывают странные сближенья...“» рассматривалось, как композитор использовал напев «Цыганской венгерки» в симфонической пьесе «Каприччио на цыганские темы» (1893-1894). Был выдвинут тезис о том, что своеобразные черты музыкального развития, присущие «Каприччио.», могут быть истолкованы с позиций скрытой программности, в основе которой — автобиографический текст «Цыганской венгерки», соотнесенной Рахманиновым со знаменитой цыганской «Маляркой».Заседание 15 июня открылось выступлением Н. Ю. Грякаловой (Санкт-Петербург) с докладом «Из комментария к „григорьевским“ страницам записных книжек А. Блока». Она охарактеризовала пометы от 5-6 июня 1902 года в записной книжке № 1, сопровождавшие чтение «Стихотворений» (1846) Григорьева, а также отметила неучтенные цитаты и реминисценции в «Стихах о Прекрасной Даме». Период работы Блока над поэтическим сборником Григорьева (осень 1914 года) отражен в записной книжке № 44, где представлена хронология посещения библиотеки, упомянуты контакты биографического и творческого характера. Обращение к статье В. Н. Княжнина «О нашем современнике — Аполлоне Александровиче Григорьеве» (1914) помогает прояснить эпизод посещения могилы поэта его почитателями на Митрофаньевском кладбище в Петрограде 25 сентября 1914 года и адекватно прокомментировать соответствующую блоковскую запись.Д. М. Магомедова (Москва) в докладе «Об одной странной цитате в статье А. Блока „Судьба Аполлона Григорьева“» показала, как словарный анализ этой статьи помог выявить опечатку в журнале «Репертуар и Пантеон». Цитата превратилась в «темное место» в том числе из-за неточности, допущенной Блоком. Корректировка текста позволяет утверждать, что Григорьев приводил реплику из масонского ритуала, что соответствует его увлечению мистицизмом в период перевода «Гимнов», с которыми Блок соотносил цитируемый фрагмент.Ряд фактов рецепции критического наследия Григорьева на рубеже ХIХ-ХХ веков был проанализирован в докладе В. Н. Крылова (Казань) «Открытие идей „органической критики“ Аполлона Григорьева в эпоху Серебряного века». Серебряный век «воскрешал» не только Баратынского, Тютчева, Фета, но и значение для русской критики таких фигур, как Дружинин, Григорьев, В. Майков, Страхов, К. Леонтьев. Переосмысление их наследия было обусловлено сменой философско-эстетической парадигмы и кризисными тенденциями в развитии литературной критики второй половины XIX века.В докладе «Аполлон Григорьев и Юлий Айхенвальд: из истории борьбы за „органическое“ мировосприятие» Е. А. Тахо-Годи (Москва) впервые рассмотрела отношение известного критика Серебряного века к Григорьеву с учетом полемик вокруг его литературного наследия, а вместе с тем и об «органическом» мировосприятии, которые велись современниками (А. А. Блок, В. В. Розанов, Н. Н. Русов, П. Н. Сакулин). Ю. Ю. Анохина (Москва) в докладе «„Драгоценные обломки и осколки какого-то внутреннего целого“: Н. Н. Русов об Аполлоне Григорьеве» показала, что значимой вехой в процессе возрождения интереса к прозе Григорьева стал выход в 1915-1916 годах его повестей, подготовленных к изданию писателем и публицистом Н. Н. Русовым.М. Кшондзер (Германия) выступила с докладом «Эпиграф из стихотворения Аполлона Григорьева „Героям нашего времени“ как концептуальный контрапункт цикла Б. Пастернака „Тема с вариациями“» и пришла к выводу, что феномен лирики Григорьева заключается в радикальной новизне его поэзии, несмотря на ее связь с традицией. Для Григорьева-поэта не существовало границ между искусством и жизнью, между личностью и текстом, что в дальнейшем стало одним из стержневых принципов модернизма, в том числе в творчестве Пастернака.В докладе С. И. Гиндина (Москва) «Жанровые особенности „Цыганской венгерки“ Аполлона Григорьева и их отражение в творчестве И. Л. Сельвинского» было прослежено отражение поэтики «Цыганской венгерки» в «Цыганской рапсодии» и «Цыганском вальсе на гитаре» Сельвинского. Показано, что лишь второе из этих произведений является родственным стихотворению Григорьева.О. Е. Погудин (Москва) в докладе «Аполлон Григорьев и формирование поэтики русского городского романса» отметил, что именно Григорьев сделал героиню романса не объектом, а субъектом действия. Это повлияло и на романсы Серебряного века, и на лирику А. Блока. Было выдвинуто предположение, что формирование городского романса тесно связано со становлением русского реалистического психологического театра. Свое научное выступление известный певец завершил исполнением романса «Цыганская венгерка».Доклад Г. В. Зыковой (Москва) и Е. Н. Пенской (Москва) «Анна Журавлева и Всеволод Некрасов об Аполлоне Григорьеве» основан на документах личного архива их учителя литературоведа А. И. Журавлевой и ее мужа поэта и эссеиста В. Н. Некрасова. Анализ материалов позволил проследить пути оформления идей, творческих интерпретаций, складывавшихся у Журавлевой в течение 50 лет. Как выясняется, Григорьев стал фигурой, неизменно присутствующей в поле зрения Журавлевой и Некрасова, с середины 1970-х годов.Т. Миллер (США), выступив с сообщением «Воспоминания о моем отце Б. Ф. Егорове (1926-2020)», рассказала о работе ученого над подготовкой первого после 1917 года сборника литературно-критических статей Григорьева, о скрупулезном подходе отца к корректурам, а также о его научном, а впоследствии и дружеском общении с американским литературоведом, автором биографии Григорьева Р. Виттакером, инициировавшим знакомство с российским коллегой в июле 1970 года.Е. Румановская (Израиль) продолжила тему, рассказав, что Аполлон Григорьев всегда был в центре ее научного общения с профессором Б. Ф. Егоровым, но ими также обсуждались и творчество Герцена, деятельность Поливановых и Боткиных, роль мемуарного наследия в изучении истории культуры. Исследователь поделилась воспоминаниями о своем учителе, напомнив участникам конференции о выдающемся ученом и замечательном человеке.А. П. Дмитриев (Санкт-Петербург) представил доклад «Личность и творчество Аполлона Григорьева в научном наследии Б. Ф. Егорова», в котором оценил вклад ученого в устранение лакун в биографии писателя, в текстологическую и комментаторскую работу над его сочинениями, во введение в научный оборот его эпистолярия. Особое внимание было уделено малоизвестным фактам из григорьеведческих штудий Егорова, выявленным на основе изучения личного архива ученого, прежде всего его переписки с Д. Е. Максимовым, Б. Я. Бухштабом, Б. О. Костелянецем, Р. Виттакером, А. Л. Осповатом, Г. А. Федоровым, В. Д. Глебовым и др.16 июня на конференции были заслушаны следующие выступления. Стефано Гардзонио (Италия) в докладе «Аполлон Григорьев и Флоренция» обратился к малоизвестным эпизодам биографии поэта, связанным с его пребыванием во Флоренции; уточнил и прокомментировал имеющиеся данные о посещении Григорьевым флорентийских театров и музеев, а также сведения о встречах с разными лицами; проследил особенности отображения итальянской жизни в творчестве Григорьева.В докладе Н. М. Сегал-Рудник (Израиль) «Еще раз к вопросу „Достоевский и Аполлон Григорьев“» был проанализирован подход Достоевского к такому ключевому положению концепции литературных типов Григорьева, как проблема синтетического понимания русской действительности, опирающегося на представление о «хищной» и «смиренной» стихиях и стержневую идею «закваски»-страсти в качестве движущей исторической силы. Значительный интерес представляет их художественное исследование в повести Достоевского «Вечный муж» (1870).Т. Ф. Теперик (Москва) в докладе «„Антигона“ Софокла в переводе Аполлона Григорьева: проблемы поэтики» акцентировала внимание на том, что поэтический перевод «Антигоны» был создан в период, когда в русской литературе еще шла выработка переводческих стратегий. Григорьевский текст обладает редким художественным своеобразием: при близости к греческому оригиналу в нем есть отступления и лексические замены, не продиктованные метрическими соображениями, но являющиеся концептуальными для понимания как смысла данной трагедии, так и образов главных персонажей.В докладе «О переводах Г. Гейне Аполлоном Григорьевым» А. Б. Криницын (Москва) рассмотрел стратегию переводов стихотворений Гейне, чья поэтика, при ее внешней простоте, представляет значительную сложность при адаптации ее в русской поэтической традиции вследствие опоры на дольники и строфику немецкого песенного фольклора, а также в силу двусмысленности романтической иронии поэта и обусловленности понимания каждого лирического фрагмента его местом в цикле.А. И. Пигалев (Волгоград) в докладе «Почвеннический культ „непосредственности“ как аспект взаимоотношений западничества и славянофильства» отметил, что термин «непосредственное», имеющий прототип в немецкой философии, в России стал актуальным в концепции почвенничества. Культ «непосредственности» указывает на переход от самодостаточности традиции к структурам опосредования, характерным для модерна. Тенденция к объединению элементов модерна и традиции налицо и в немецком романтизме, и в отношениях западничества и славянофильства.В докладе С. В. Корнилова (Калининград) «Проблемное поле и категориальные структуры философии соборности А. С. Хомякова» была осуществлена реэкзаменация концепции соборности, разработанной Хомяковым, и определены базовые понятия его учения, опирающиеся, в частности, на принципиальную критику результатов развития немецкой теоретической мысли. Вместе с тем было подчеркнуто существенное влияние его идей на формирование воззрений Григорьева.Е. М. Захарова (Москва) в докладе «„Нечто о литературе“: Ю. Н. Говоруха-Отрок как последователь Аполлона Григорьева» продемонстрировала, как, вырабатывая свой литературно-критический метод, Говоруха-Отрок развивал принципы, сформулированные Григорьевым. Так, определяя художественную ценность литературных новинок, он руководствовался выдвинутым Григорьевым «постулатом» — соизмерять их с эталонными созданиями Пушкина и Гоголя.Выступая с докладом «„Русская правда“ и „русская неправда“ в публицистике славянофилов», В. Н. Греков (Москва) подчеркнул, что, хотя славянофилы считали своей главной заслугой учение о народности и идею национальной самобытности, все же конститутивными особенностями их воззрений являлись идеализация древнерусской жизни и противопоставление России и Запада, которые обнаруживаются уже в ранних статьях И. В. Киреевского, еще до оформления славянофильства.В докладе А. Г. Гачевой «Россия и Запад в русской историософской мысли: от противостояния к синтезу» тема «Россия и Запад» в русской славянофильской и почвенной мысли рассматривалась не как геополитическая, а как этическая и аксиологическая. Речь шла о выборе типа развития — не только для России, но и для человечества как субъекта истории.Как очевидно, прошедшая конференция носила не просто юбилейный характер, а стала важным этапом в освоении наследия выдающегося поэта и критика середины XIX века, его роли в культуре эпохи и воздействия его эстетической системы и поэтических находок на последующий ход литературного процесса.© Ю. Ю. Анохина, © А. П. Дмитриев×
About the authors
Iuliia Yur'evna Anokhina
A. M. Gorky Institute of World Literature, Russian Academy of SciencesRussian Federation,
A. P. Dmitriev
Institute of Russian Literature (the Pushkin House), RASRussian Federation
References