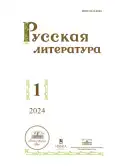Russian romanticism as a problem
- Authors: Virolainen M.N.1
-
Affiliations:
- Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom), Russian Academy of Sciences
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 5-24
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0131-6095/article/view/257510
- DOI: https://doi.org/10.31860/0131-6095-2024-1-5-24
- ID: 257510
Full Text
Abstract
Russian Romanticism was not a transitional link between Classicism (Sentimentalism) and Realism. Following in the footsteps of A. Schlegel and J. de Stael, many Russian authors treated the concepts of Classicism and Romanticism as the two all-encompassing notions that describe the entire historical space of the European culture: Classicism was an offspring of pagan antiquity, while Romanticism emerged from the Christian Middle Ages. The same two universal principles were evolving, closely linked together, in the works of the Russian writers of the first third of the 19th century, and they left the historical stage simultaneously.
Keywords
Full Text
Представление о литературном развитии как последовательной смене направлений не раз подвергалось критике, однако существенной его корректировки так и не произошло — скорее оно просто ушло из центральной зоны исследовательского внимания, особенно заметного в 1960–1980-е годы.1 Однако в свое время такое представление было привито нам столь основательно, что до сих пор оно не позволяет разглядеть некоторые важные особенности литературного процесса. В этой статье речь пойдет о так называемой эпохе романтизма, которая, согласно давно сформированной точке зрения, занимает промежуточное место на хронологической оси «сентиментализм — романтизм — реализм».2
У понятия «романтизм» имеется одно несомненное преимущество перед «сентиментализмом» и «реализмом» — его использовали носители культуры, которая признана романтической (а также и их противники). Но у этого есть своя оборотная сторона: создается иллюзорное впечатление, будто в 1820–1830-е годы романтизмом называли то же самое, что и в позднейших исследованиях. В пушкинскую эпоху объем понятия «романтизм» формировался в дискуссионном поле, и общая концепция тогда едва ли сложилась. А положения, в которых все-таки сходилось большинство авторов, как раз не совпадают с выработанным позднее пониманием романтизма.3
Когда в России заговорили о романтизме, в западных литературах (прежде всего в Германии) он уже был отрефлексированным фактом; мы получили его, так сказать, из вторых рук. Но европейский романтизм не был единым движением. Существуют разные версии и английского, и французского, и немецкого романтизма, и каждая из них имеет ярко выраженную индивидуальную определенность и национальную окраску.
Английский романтизм, несомненно, разнолик. Так, Байроном4 он заявлен как пафос индивидуализма, как выдвижение героя, способного в одиночку противостоять и миру, и Богу, как экзотический колорит, как ирония, сплавляющая лирику с эпосом, в котором есть место для литературной рефлексии. Но совсем иначе выглядит озерная школа, с ее обращенностью к простой, не героической жизни, с ее идеями пантисократии, равенства всех существ в мире, который напоен из божественного источника, но и уязвлен таинственными злыми силами, с ее мечтой о восстановлении исконных красоты и благополучия, свободных от этих злых сил.5
Французский романтизм знает сосредоточенность на внутренней жизни, часто меланхоличной, как у Сенанкура или в поэзии у Ламартина — но знает и кипение страстей, по силе не уступающих байроновским. Однако страсти, движущие, например, сюжеты драм и романов Гюго, сталкивают между собой равномощных героев, ни одному из которых не дано, как это было у Байрона, занять единственно центральное положение. Гюго разворачивает многофигурные композиции, вводит широко разработанную социальную тему.
Совершенно иная доминанта у немецкого романтизма, благодаря Шеллингу исконно метафизичного. Здесь в центре не отдельный герой, как у Байрона, и не сообщество людей, как у Гюго, но устройство мира как такового. Для немецких романтиков, и йенских, и более поздних Клейста или Гофмана, живое начало мира несовместимо с мертвой определенностью, неподвижностью, косностью; оно расшатывает любые четкие контуры — будь то контуры предметов, идей или человеческой личности. Но совсем иначе выглядят гейдельбергские и швабские романтики с их любовью к фольклору, к патриархальности, с мечтой об успокоенной в конечном счете идиллической жизни. И в этом они ближе к лейкистам, чем к йенской школе или романтизму Клейста и Гофмана.
Каждый из русских авторов, которым романтизм в принципе импонировал, избирал для себя, в зависимости от своих личных симпатий, тот или иной вариант европейского романтизма. Для Пушкина значимой фигурой стал Байрон, на фоне которого Ламартин казался недостаточно романтичным.6 Симпатии Николая Полевого однозначно склонялись к Франции, совершенное воплощение романтизма он видел в творчестве Гюго.7 Проза Гоголя, органично (вероятно, стихийно) близкая немецкому романтизму (которому Пушкин остался по большому счету чужд), производит впечатление, что ее автор о существовании Байрона даже не подозревал. Что же касается Франции, то тут для Гоголя интереснее всего оказалось направление, которое в России принято называть неистовой словесностью. Подобный сопоставительный перечень можно было бы продолжать, но отсутствие единых ориентиров русского романтизма и так довольно очевидно. Общую картину мы можем только сложить — сложить в буквальном смысле этого слова, суммировав то, что было разрозненными фрагментами литературной жизни. Для современников Пушкина и Жуковского единство такой картины вовсе не было очевидным.
Возьмем для сравнения посвященное русскому романтизму и обладающее неоспоримыми достоинствами исследование И. И. Замотина,8 написанное на рубеже XIX и ХХ веков и ставшее отправной точкой для многих позднейших работ. Замотин начинает свою книгу с обширного аналитического обзора литератур европейского романтизма и, суммируя свои наблюдения, приходит к определению трех фундаментальных оснований этого течения: индивидуализм, национализм (имеются в виду народность и национальное своеобразие), универсализм. С этими ключами в руках он переходит к русскому литературному материалу, находя в нем несомненные проявления основополагающих свойств европейского романтизма.9 Между тем индивидуализм, проявившийся в творчестве Байрона, и проповедуемый Гердером интерес к национальному своеобразию, захвативший Германию XVIII века гораздо раньше, чем были заявлены идеи романтизма, — эти две тенденции, обозначенные Замотиным как индивидуализм и национализм, — имели между собой лишь незначительные точки соприкосновения. Плохо объединялись они и в сознании русских критиков. Байрон был воспринят в России как образцовый романтик еще до появления «Кавказского пленника» и рассуждений Вяземского, уравнивающих между собой байронизм и романтизм. Романтическим было признано и обращение к национальной старине, к имеющей национальную окраску области фантастического (волшебного). В 1820 году в рецензии на «Руслана и Людмилу» А. Ф. Воейков, определив пушкинскую поэму как богатырскую, шуточную и волшебную, почерпнутую «из старинных русских сказок», заключал: «Ныне сей род поэзии называется романтическим».10 Не соглашаясь с Воейковым, А. А. Перовский (в будущем Антоний Погорельский, вставший у истоков русской фантастической повести) указал на принципиально иную, байроновскую версию романтизма: «Следовательно, смесь богатырского, волшебного и шуточного составляет романтическое! Прекрасная дефиниция! Неужели не случалось никогда г. В<оейкову> читать творения так называемые романтические, в коих не было ничего ни волшебного, ни богатырского, ни шуточного? Советуем ему прочитать лорда Бейрона, признанного первым сочинителем в сем роде: там он найдет многое, где нет ничего ни волшебного, ни шуточного, ни богатырского».11 Как видно из реплики Перовского, две версии романтизма не соединялись друг с другом в глазах современников.12
Сказанное не значит, конечно, что согласованных тенденций вовсе не возникало. Существовал общий круг метафизических переживаний; одна за другой писались и байронические поэмы, и фантастические повести.13 Но между двумя последними ярко выраженными направлениями художественных усилий едва ли найдется серьезно объединяющая их эстетическая идея.
Между тем на теоретическом уровне такая идея, пожалуй, существовала. Как и следует ожидать, обнаруживается она там, где имеется общий генезис. Хорошо известно, что одним из влиятельных источников русских воззрений на романтизм стала книга Ж. де Сталь «О Германии» (1810). Существенно, что ею были впечатлены авторы, отнюдь не придерживавшиеся хоть сколько-нибудь согласованных взглядов.
Жермену де Сталь многие причисляли к романтикам, хотя на ее художественном творчестве, как и на образе мысли в целом, несомненно, лежит печать века Просвещения. Другое дело, что она оказалась пропагандистом романтической культуры — не даром ее «Вергилием» долгие годы был Август Шлегель, один из виднейших теоретиков немецкого романтизма.14 Согласно постулату, выдвинутому в книге «О Германии», классицизм и романтизм соответствуют двум эрам: языческой и христианской. Хронологически романтизм берет свое начало в эпоху Средневековья, когда религиозная вера стала доминантой европейского сознания, когда процвело искусство трубадуров, рожденное рыцарством и христианством. По убеждению Ж. де Сталь, вся область литературы поделена между язычеством и христианством, Югом и Севером, Античностью и Средневековьем. Это и есть сферы влияния классицизма и романтизма. Так, литературы Юга (Франции, Италии) склоняются к классицизму, литературы Севера (Англии, Германии) — к романтизму. В рамках этой классификации был высказан еще один важный тезис: верность европейского классицизма античному наследию — это верность привнесенной культуре, в то время как романтизм питается из родной национальной почвы.15
Из всего этого следовало, что понятия «классицизм» и «романтизм» описывают все обозримое историческое и географическое пространство европейской культуры. Вполне очевидно, что с современным представлением о последовательно сменяющих друг друга литературных направлениях такая конструкция не имела ничего общего. Она выдвигала романтизм и классицизм как диаду, как две соотнесенные друг с другом универсалии, как два модуса бытия словесности (а иногда и шире — как два модуса бытия человечества).
Именно эта концепция стала общим местом в теоретических выступлениях русских критиков. Ее приняли такие разные авторы, как, например, Н. И. Надеждин, А. А. Бестужев и Н. А. Полевой, определявшие античность как «период вещественного бытия человеческого», а христианскую эпоху — как «период жизни духа человеческого».16 Та же антитеза (вещественное — духовное) описывала диаду «классицизм — романтизм». Различие их экспонирования в русских теоретических трудах в основном было связано с тем, что их можно было трактовать и как доминирующие в определенной хронологической последовательности (сначала язычество и классицизм, потом христианство и романтизм), и как поочередно сменяющие друг друга, и как расщепленное единство, которому еще предстоит восстановиться.
Последней точки зрения придерживался Надеждин,17 который исходил из того, что в человеке неразрывно соединены две стихии — «мир телесный, внешний, видимый и мир невещественный, внутренний, недоступный чувствам»; их борьба и синтез осуществляются в сознании и самосознании человеческом. Младенчество человечества — эпоха «первоначального тождества» двух стихий и двух устремлений. С разрушением тождества началась их борьба и поочередное доминирование. Эти две тенденции и определяют природу классицизма, с одной стороны, и романтизма — с другой.
Следуя за видимой природой, классическая поэзия облекала «симметрической гармонией» «грубую массу материи», обнажала «ясную простоту» своего предмета; ей более всего приличествовало «выражение скульптурное». Утонченный и невещественный предмет романтической поэзии «исчезал в странах надзвездных, недоступных для внешнего чувства»; воплощаясь, он сближался с живописной смесью радужных цветов. Отсюда ее щегольство, страсть к украшательству, «отсутствие единства, порядка и соразмерности в частях»,18 разгоряченность чувств, фантастичность организации, отвержение границ пространства и времени, а вместе с ними — и Аристотелевых единств.
Располагая классическую и романтическую поэзию на историческом поле, Надеждин отводит первой эпоху Античности, второй — эпоху Средневековья. В Византии он видит «огромный труп» умершего и разлагающегося Древнего мира,19 окончательно истребленный варварами; вместе с этим миром умерла и классическая поэзия. Эпоха рыцарства, озаренная светом божественной религии, стала эпохой романтизма, XVI столетие — его золотым веком и свидетелем его падения.20 К XVII веку романтическая поэзия уже «скончалась, как и классическая»,21 и тогда эстетическая деятельность обратилась вспять, к античной древности, которая к тому времени была уже неплохо изучена. Однако «метемпсихоз поэзии классической», задуманный французским гением, не мог состояться, ибо «век, однажды умерший, не воскреснет». Французский классицизм, навязавший свои законы Европе, был лишь слабым подобием античного искусства, исказившим его черты, давно уже не соответствовавшие историческому состоянию духа человеческого. Опять начались поиски обновления, и, на сей раз из Германии, пришла мысль возродить мир романтический, который «ближе, кажется, и сроднее с духом настоящих времен, чем тот, коим дышит классическая древность, отделенная от нас столь многими веками».22 Но возрожден был лишь призрак, «лжеромантические шарлатаны», отвергнувшие все пределы, законы и правила, создали лишь уродливую карикатуру на романтизм. В числе этих шарлатанов — Байрон, «зловещее знамение» миру.23
С точки зрения Надеждина, романтизм, как и классицизм, «выражает <…> одну только половинную сторону человечества».24 Бессмысленно восстанавливать лишь одну из них. Следует привести их к «средоточному единству», которое может быть достигнуто «не чрез механическое их сгромождение, но чрез динамическое сопроникновение».25
Диссертация Надеждина и опубликованные им отрывки из нее, разумеется, вызвали споры.26 А. Ф. Мерзляков во время диспута выступил в защиту новоевропейского классицизма,27 И. Н. Середний-Камашев — в защиту современного романтизма,28 Н. А. Полевой указывал на нелепость идеи «какого-то соединения романтизма с классицизмом».29 Надеждину, таким образом, возражали по всем его основным позициям.
Впрочем, Полевой, отвергнувший идею Надеждина в 1830 году, уже в 1832-м осторожно скорректировал свое заявление, оговорив, что сближение романтизма возможно лишь с древней классической литературой, но не с классицизмом французского толка. Отметив это в статье «О романах Виктора Гюго…», он постарался дать в ней четкие определения понятий: «Почитаем необходимым объяснить здесь смысл, в каком принимаем мы слова: классицизм, романтизм. Классическою литературою мы называем вообще литературу древнюю, то есть греческую и латинскую, и литературу, образованную по ложно понятым основаниям древней литературы, то есть французскую, перенятую у французов другими народами. В самом последнем, ограниченном смысле мы употребляем в статье нашей слово: классицизм. Романтическою литературою называют собственно народную литературу христианской Европы средних времен; но вообще можно принимать слово романтизм для означения всех литератур Востока и Севера, а также для означения литературы современной, составившейся из соображения древней классической и литератур северных, южных и восточных. В сем смысле говорим мы в статье нашей: Романтизм».30
Принципиальное отличие Полевого от Надеждина в том, что романтизм для него — полноправный и, более того, главный участник современного литературного процесса. Относя зарождение романтизма к христианскому Средневековью, Полевой обновленное романтическое движение связывает, как уже говорилось, прежде всего с Францией, где начало ему положил Шатобриан, а торжество обеспечил Виктор Гюго.31 Таким образом, в начале 1830-х годов Полевой в целом трактовал романтизм как движение, пришедшее на смену классицизму, и в историческом плане располагал их в однонаправленной временной последовательности. В начале 1840-х его концепция существенно изменилась. Теперь ему представляется, что две эти эстетические доминанты поочередно сменяют одна другую: «Настоящее время есть переход от романтического бурного переворота к времени мирному, к новому, тихому воссозданию прежних положительных идей человечества. Потомки наши доживут опять до времени своего классицизма, а их потомки опять разрушат их создание новым переворотом — в том заключается жизнь человека и жизнь ума его».32 Пусть идея эта предложена с оговорками (новый классицизм должен научиться ценить и Корнеля, и Шекспира), она резко переносит акцент с исторической последовательности направлений на их универсальный характер: романтизм и классицизм предстают как две основные тенденции, поочередно подчиняющие себе мировую культуру.
Через год после появления программной статьи Полевого о романах Гюго в «Московском телеграфе» была напечатана большая статья ссыльного Бестужева о романе самого Полевого (1833. № 15–18). Впрочем, к его анализу автор приступает лишь в самом финале, главное содержание статьи посвящено романтизму. Бестужев дает очень четкое определение, которое резко сближает его версию с той, что предложена Надеждиным: «Надобно сказать однажды навсегда, что под именем романтизма разумею я стремление бесконечного духа человеческого выразиться в конечных формах. А потому я считаю его ровесником душе человеческой… А потому я думаю, что по духу и сущности есть только две литературы: это литература до христианства и литература со времен христианства <…> В первой преобладают чувства и вещественные образы; во второй царствует душа, побеждают мысли».33 Идеал вещественно-прекрасного мы находим в древнегреческом искусстве, однако и в эпоху Античности романтизм «оперялся понемногу», развитие шло от Гомера к Платону.34 Древний мир пал, и на его развалинах в Средние века стали прокладываться тропинки, «по коим романтизм вторгался в Европу».35 По мере того, как ветшал феодальный мир, с изобретением пороха и книгопечатания, с открытием Нового Света, с выступлениями протестантов, которые отвергли «вещественность» католичества, «дух зашевелился везде: он рвался на простор, оттого что телу пришло (так!) чересчур тесно».36 Культура начала «сбрасывать с себя классицизм, как одежду мертвеца»,37 но в то время, когда мир уже получил Данте, Кальдерона, Камоэнса и Шекспира, Франция «замуровала свой ум в гробовые плиты классицизма»,38 опять возобладала вещественность, хотя и возмущаемая такими романтиками, как Руссо.
Обращаясь к России, Бестужев называет первого нашего романтика — это «огнедышащий Державин», с его «дерзостью образов», «новостью форм», с его восторгом, который «сплавлен всегда с грустною мечтательностию».39 Ту же «романтическую мечтательность», а с ней и любовь к родной истории внушил русским читателям Карамзин.40 Самобытный Крылов обновил «ум и язык русский во всей их народности».41 Жуковский пересадил на русскую почву романтизм немецкий, шиллеровский.42 Наконец, явился Пушкин, а затем толпы подражателей ему и Жуковскому, и романтизм победил.
Заметим, что круг русских авторов, причисляемых к романтикам, расширен таким образом, чтобы максимально захватывать прошлое: отсчет русского романтизма начинается с Державина. Тем не менее для Бестужева исторический вектор направлен в одну сторону — от прошлого к настоящему, в сторону романтизма. Зарождаясь в недрах Античности, укрепляясь в Средние века, временно отступая в XVII и XVIII столетиях, он, тем не менее, снова берет верх и торжествует в современности. Отдельной строкой Бестужев заявляет: «Мы живем в веке романтизма»43 — и, варьируя этот тезис, повторяет: «Поэт в наш век не может не быть романтиком».44 Остается только отметить, что изображаемое Бестужевым направление исторического движения от классицизма к романтизму никоим образом не отменяет того, что он, как и другие его современники, мыслит две эти эстетические доминанты как универсальную диаду, с помощью которой может быть описана вся история литературы.
За десять лет до Бестужева тот же вектор исторического движения пытался наметить Орест Сомов. Признавая общую биполярную картину, он возражал против ограничения романтической поэзии исключительно Средними веками и временами рыцарства, ибо не все народы пережили культуру рыцарства. Поэтому романтической Сомов назвал «новейшую поэзию, не основанную на мифологии древних и не следующую раболепно их правилам».45 Исходя из этого он методично очертил круг романтических авторов, появившихся вслед за маврами, в которых видел прародителей романтизма: Ариосто, Тассо, Лопе де Вега, Кальдерон, Шекспир, Спенсер, Мильтон, Байрон, Томас Мур, Вальтер Скотт, Саути, Кольридж, Томас Кемпбелл, Клопшток, Гете, Шиллер, Фредерик Матиссон, Людвиг Тик, Бюргер. По этому списку хорошо видно, что романтизм ни в коем случае не рассматривался как новое литературное течение. Более или менее сходные своей пестротой наборы имен мы встречаем в статьях других авторов того времени.
Очень близкий взгляд намечен и Пушкиным в наброске статьи, озаглавленной так же, как соответствующая глава в книге Ж. де Сталь «О Германии» — «О поэзии классической и романтической» (1825):46 романтизм зародился в Средние века; во Франции в эпоху Людовика XIV классицизм взял реванш, но не отменил дальнейшего развития романтизма, к которому Пушкин отнес, в частности, «Орлеанскую девственницу» Вольтера. Еще более четко, чем Сомов, Пушкин предложил способ проведения разделительной черты между классической и романтической поэзией: к первой следует относить произведения, форма которых соответствует жанрам, оформившимся в Античности, ко второй — те, «формы» (т. е. жанры) которых «не были известны древним, и те, в коих прежние формы изменились или заменены другими».47
Полный обзор всех высказываний современников Пушкина о романтизме и тем более полемик о нем никак не входит в задачу настоящей статьи. Здесь важно было наметить общую тенденцию, которая заключается в трактовке классицизма и романтизма как двух универсальных принципов, через противостояние которых может быть описано все историческое поле европейской культуры. Когда позднее возникло представление о литературных направлениях, последовательно сменяющих друг друга, и «классицизм» и «романтизм» были встроены в их общую цепочку, эти понятия, конечно, не оказались омонимами тех, что употреблялись в 1820–1830-е годы, но отличались от них весьма существенно.
Найдя некий общий знаменатель в трактовках романтизма, возникавших в 1820–1830-е годы, отметим и характерную для них сумятицу разноречивых мнений. Русская ситуация существенно отличалась от той, которая дала возможность Ж. де Сталь высказать свои умозаключения. Многим в книге «О Германии» она, как было сказано, обязана Августу Шлегелю, уже пережившему расцвет йенского романтизма.48 Вполне оформившиеся и вполне уникальные философская эстетика и идеология этого литературного течения были той основой, которая позволяла перейти к генерализирующим обобщениям. В России движение шло в обратном порядке: предложенные Ж. де Сталь универсалии становились матрицей, которая прикладывалась к не получившему цельного оформления национальному материалу. Соответствия между тем и другим или отыскивались с трудом, или не отыскивались вовсе, понятия утрачивали отчетливость, хронологические параметры теряли устойчивость.
Одним из примеров, на которых это хорошо видно, могут служить смешение понятий «романтический» и «романический» и вытекающее из их трактовки определение волшебного и фантастического как мотивов, маркирующих принадлежность произведений к романтизму.
Предисловие Вяземского к «Бахчисарайскому фонтану» (1824), которое нередко называют манифестом русского романтизма, построено как спор между Классиком и Издателем — приверженцем романтической школы. Диалог начинается со слов Классика о том, что ожидается появление третьей «романтической» поэмы Пушкина.49 Это определение не вызывает возражений Издателя, который, таким образом, молчаливо соглашается с Классиком в том, что первой романтической поэмой Пушкина можно считать «Руслана и Людмилу». Между тем, рецензируя за два года до этого «Кавказского пленника», Вяземский аттестовал его как произведение романтическое, написанное «по примеру Бейрона в „Child-Harold“».50 Поэзия романтическая, таким образом, трактовалась как восходящая к наследию английского поэта. Казалось бы, ни содержание, ни поэтика байронической поэмы, с одной стороны, и «Руслана и Людмилы», с другой, не имеют между собой ничего схожего, позволяющего поставить их в общий романтический ряд. Мы уже видели, как именно на этой почве возникли разногласия между Воейковым и Перовским. Рассмотрим более внимательно те основания, исходя из которых русские критики могли относить первую пушкинскую поэму к романтизму.
Основной жанровой моделью «Руслана и Людмилы» была выбрана волшебно-рыцарская поэма, ее главным образцом считался «Неистовый Роланд» («Orlando Furioso», 1507–1532) Л. Ариосто. Этой модели соответствуют фабула, в которой переплетаются истории нескольких героев, участие в событиях волшебников и волшебниц, шутливые авторские комментарии, неожиданные тематические перебивы в сюжетно напряженных местах. Ироническая «реконструкция» русской старины опиралась в области поэтики на поэму Вольтера «Орлеанская девственница» («La Pucelle d’Orléans», 1762), в области сюжетики — на «старинные русские предания», представленные лубочными книжками (в частности, сказкой о Еруслане Лазаревиче), сборником Кирши Данилова, возможно — «Русскими сказками» (1780–1783) В. А. Лёвшина. Известную роль в формировании «Руслана и Людмилы» сыграли русские «богатырские» поэмы конца XVIII — начала XIX века: «богатырская сказка» Н. М. Карамзина «Илья Муромец» (1794), «богатырская песнь» Н. А. Львова «Добрыня» (опубл. 1804), «богатырская повесть» А. Х. Востокова «Светлана и Мстислав» (опубл. 1806), «Богатырские повести в стихах» (М., 1801) Н. А. Радищева — «Альоша Попович» и «Чурила Пленкович». Из европейских источников к ним следует добавить «Скандинавскую поэму» Э. Парни «Иснель и Аслега» (опубл. 1802; второе изд. 1808).
Вполне очевидно, что все основные опоры, на которых построено здание «Руслана и Людмилы», ничего общего с романтизмом в современном его понимании не имеют. Однако ранняя критика определяла «Руслана и Людмилу» как поэму «романтическую» или «романическую», используя эти термины как синонимы. В большой мере это объясняется тем, что в первых же откликах на поэму была отмечена ее связь с Ариосто, обильно черпавшим материал в средневековых романах. Связь с романным жанром как раз и подчеркивалась термином «романический», а классификация госпожи де Сталь убеждала в том, что все, имеющее средневековый генезис, является романтическим. Кроме того, использование не античных, а национальных фольклорных сюжетов — еще одно основание, следуя ей, зачислить произведение в разряд романтических (вспомним приведенное выше определение романтизма Орестом Сомовым). Но в таком случае к тому же разряду должны были бы быть отнесены названные выше поэмы Карамзина, Львова, Востокова, Радищева-сына.
Конечно, здесь сказалось влияние не одной только Ж. де Сталь. Свою лепту внесли немецкие труды XVIII века по эстетике и поэтике, широко интегрированные в систему русского литературного образования первых десятилетий XIX столетия. С ориентацией на них Жуковский еще в 1810 году сообщал А. И. Тургеневу, что задуманная им поэма о Владимире будет «не героическая, а то, что называют немцы romantisches Heldengedicht».51 Как показал в обширном комментарии к «Руслану и Людмиле» О. А. Проскурин, «понятие romantisches Heldengedicht (или Ritterepopöe) ближайшим образом восходило к эстетике Эшенбурга», который «в свою очередь опирался на утвердившееся в европейской теории с XVII в. противопоставление „poésie héroique“ (поэзия, основанная на «правилах» древних, использующая топику поэм Гомера и Вергилия) и „poésie romanesque“ (поэзия, заимствующая темы, приемы и персонажей не у античных классиков, а из средневековых романов). К „романической“ (или «романтической») поэзии относили ренессансные итальянские поэмы Пульчи, Боярдо и Ариосто. В XVIII в. прежде несколько уничижительный термин стал номенклатурным, нейтрально-описательным. Прямого отношения к европейскому „романтическому движению“ конца XVIII — начала XIX в. понятия „romantisches Heldengedicht“, „poésie romanesque (или romantique)“, „romantic poetry“ и т. п. не имели, хотя новейшее понятие „романтизм“ и опирается на старый понятийный аппарат».52 Зато в сознании русских критиков эти понятия соединились. С наибольшим простодушием об их тождестве писал В. Н. Олин: «Поэзию романтическую можно иначе назвать романическою, потому что все обстоятельства, все положения, приличествующие роману, приличны также и поэме романтической».53 Более основательное определение, непосредственно связанное с «Русланом и Людмилой», давал в своем словаре Н. Ф. Остолопов.54
Смешение понятий «романический» и «романтический» было характерно и для Вяземского. В 1816 году в предисловии к «Сочинениям» В. А. Озерова (СПб., 1817), рассказывая о духовной биографии драматурга, он писал, что «чтение романов дало его поэзии цвет романизма, <…> и удивительно, как с таким расположением не искал он для содержания трагедий своих повестей из рыцарских романов». Завершая статью, Вяземский утверждал, что трагедии Озерова, которого он называл «чувствительным поэтом», уже «несколько принадлежат к новейшему драматическому роду, так называемому романтическому, который принят немцами от испанцев и англичан», поскольку отступают от правил французской классической традиции.55 Можно было бы думать, что в двух этих пассажах говорится о разных вещах, если бы шестьдесят лет спустя, готовя переиздание статьи в составе собрания своих сочинений, Вяземский не повинился в «Приписке» к ней, что «признал» тогда «слова романизм и романтизм за слова совершенно однозначащие, а они только в свойстве между собою».56 Из той же «Приписки», однако, следует, что и в 1876 году Вяземский не вполне разделял эти понятия. Увлечение собственно романтическим движением выражалось, согласно его описанию, в том, что «все бросились в средние века, в рыцарские предания и в легенды, в сумрак готического зодчества, в мистицизм и так далее».57
Утвердившееся представление о Средневековье как колыбели романтизма и, соответственно, о средневековых преданиях и легендах как о «романтическом» материале укрепило убеждение в том, что обращение к характерной для этих легенд сфере чудесного, фантастического, волшебного (отличной от античной мифологии) является органичной чертой романтизма. Так был зачислен в романтики Жуковский. Его творчество соответствовало обсуждаемой концепции романтизма сразу по нескольким параметрам: оно было ориентировано на немецкую и английскую литературу; оно вводило читателя в мир фантастического; как автор баллад он обращался к жанру, неизвестному в Античности. С этими особенностями музы Жуковского Ф. Ф. Вигель уже в 1840-х, по-видимому, годах уверенно связывал само появление романтизма: «Упитанные литературою древних и французскою, ее покорною подражательницей <…>, мы в выборах его (Жуковского. — М. В.) увидели нечто чудовищное. Мертвецы, привидения, чертовщина, убийства, освещаемые луною, да это все принадлежит к сказкам да разве английским романам; вместо Геро, с нежным трепетом ожидающей утопающего Леандра, представить нам бешено-страстную Ленору со скачущим трупом любовника! Надобен был его чудный дар, чтобы заставить нас не только без отвращения читать его баллады, но, наконец, даже полюбить их. Не знаю, испортил ли он наш вкус; по крайней мере создал нам новые ощущения, новые наслаждения. Вот и начало у нас романтизма».58
Показательно, однако, что в поисках романтических балладных сюжетов Жуковский обращался к литературе, не принадлежащей к романтизму в современном понимании термина. Как известно, в кругу его вдохновителей рядом с Саути и значительно позднее появившимися Уландом и В. Скоттом фигурируют Шиллер и Гете, Г. А. Бюргер и впечатлившийся Шиллером Шпис, Голдсмит и друг Дж. Томсона Д. Маллет, А. Шенье и представитель французского рококо Ф.-О. Паради де Монкриф.59 Конечно, можно заявить, что под пером Жуковского произведения названных европейских авторов превращались в факт русского романтизма, а если вдобавок к этому отнести источники его баллад к преромантизму, все выстроится в непротиворечивую картину.
О прочно утвердившемся термине «преромантизм» необходимо сказать несколько слов, и прежде всего отметить, что он порожден логикой ретроспективы: если одну из тенденций, доминирующих в эпоху, признанную романтической, мы обнаруживаем в более раннем контексте, романтической эстетике в целом не соответствующем, мы даем этому название «преромантизм». Но последовательное движение по этому пути заводит в тупик. Так, например, народность в глазах всех, писавших о романтизме в 1820–1830-е годы, — такое же неотъемлемое качество романтической поэзии, как интерес к области фантастического. В этом вопросе позднейшие исследователи могут найти твердую опору в высказываниях современников. Но призывы к национальной самобытности раздавались задолго до того, как на страницах русской печати утвердилось слово «романтизм» — и это были призывы совершенно непричастных к нему авторов, таких как М. М. Херасков или А. С. Шишков.60 Никакого отношения к романтизму не имело ни обострение национального самосознания в литературе эпохи Отечественной войны 1812 года, ни пробуждение интереса к фольклору (достаточно вспомнить фигуру Н. А. Цертелева — деятельного собирателя фольклора61 и яростного противника романтизма).
В поисках преромантизма исследователи, как правило, не заходят дальше XVIII века. Но если начать искать его так же тщательно, как разыскивались в интересующую нас эпоху первые ростки романтизма (их находили и у Платона, и у Аристофана), или с тем же усердием, с каким в советское время отмечали ранние проявления реализма, то преромантизм тоже не окажется ограниченным определенной эпохой. Если Шиллера или Шенье можно назвать преромантиками, отчего бы не называть так же Шекспира или Ариосто?62
Описанное положение дел связано, в частности, с тем, что в 1820-е годы в русском понимании романтизма смешивались два разных представления. Согласно первому, романтическая поэзия в течение многих веков существовала в Европе; согласно второму, романтизм был новостью, возникшей в последние десятилетия литературной жизни. В русском контексте второе представление было так же отчетливо выражено, как и первое: и сторонники, и противники романтизма часто характеризовали его как новое явление, только что явившееся на смену классицизму.
Понимание русского романтизма как исторической новости возникало в силу естественных причин. Бо́льшая часть серьезных русских эстетических трудов, посвященных проблеме романтизма, включала исторический обзор, начинавшийся ab ovo — с эпохи Античности. И если европейский романтизм, порожденный Средневековьем, оказывался в такой перспективе отнюдь не новостью, то русский романтизм представал совсем молодым явлением, в лучшем случае восходящим к Державину, а скорее возникшим лишь в начале 1820-х годов. Это обстоятельство сближает взгляд современников на русскую литературу первой трети XIX столетия с позднейшим убеждением, согласно которому романтизм приходит на смену классицизму. Игнорируя, что оба «направления» в то же время мыслились авторами эстетических трактатов 1820–1830-х годов как универсалии, можно подумать, будто историки литературы находятся в полном согласии с ними. Наложение друг на друга двух хронологически не совпадающих представлений о романтизме порождало двусмысленность, далеко не всегда рефлексируемую русскими авторами и оставшуюся недостаточно отрефлексированной в исследовательской литературе.
К этой двусмысленности добавляется еще одна: в русской литературной практике романтизм и классицизм существовали на паритетных началах не потому, что классики и романтики разделились на два лагеря, а потому, что реализация «романтических» начинаний чаще всего сопровождалась соблюдением тех или иных фундаментальных «классических» принципов. Можно сказать, что на литературном поле эпохи классицизм и романтизм проявляли себя именно как две равноправные универсалии, находившиеся в том самом «динамическом соприкосновении», о котором писал категорически не принимавший современного романтизма Надеждин. Фактической новостью было не вытеснение классицизма романтической эстетикой, а возникновение разнообразных способов их сосуществования.63
В научной литературе это является общепризнанным лишь по отношению к одному кругу текстов — к так называемой поэзии декабристов.64 Отметим некоторые другие проявления той же закономерности, не претендуя в рамках данной статьи на их исчерпывающее освещение.
Тесная связь наших «романтиков» с классицизмом совершенно закономерна. Для авторов 1810–1830-х годов эстетика классицизма в ее просветительской версии была важнейшей составляющей литературного образования. Европейские учебные книги, поэтики, хрестоматии, энциклопедии65 и непосредственно использовались в преподавании, и переводились, и служили образцами русских словарей, учебных и справочных пособий.66 Русские авторы были прекрасно знакомы и с основами нормативной поэтики, и с античной литературой, и с теми «классическими» европейскими произведениями, которые считались образцовыми как в XVII, так и в XVIII веке. Новые эстетические идеи ложились на этот фундамент. Другим определяющим фактором явилось, так сказать, скоростное овладение этими идеями, при котором несколько разных этапов их европейского развития усваивались одновременно.
Так, например, в Европе повышенный интерес романтиков к национальному своеобразию сформировался как результат определенной линии преемственности. Она особенно отчетливо прослеживается в Германии и восходит к открытию «аутентичной» античности Винкельманом, которого никак нельзя связать с романтизмом, и лишь затем через внимание Гердера, Гете, Шиллера к другим «аутентичным» культурам, включая немецкую, ведет к писателям Йенской и особенно — Гейдельбергской школы. Пафос Винкельмана связан с тем «истинным» классицизмом, который позднее столь многие противопоставляли классицизму французскому; принципы винкельмановской эстетики соответствовали рациональным заветам просветительского классицизма. По замечанию К. Ю. Лаппо-Данилевского, Винкельман создал аполлинический образ античности, определивший «представления нескольких поколений о древнегреческой культуре».67 К числу таких представлений относятся «благородная простота, спокойное величие»,68 единство и целостность образа, заключенного в четкий контур, обобщенный характер изображения. Выдвинутые Винкельманом требования автономной завершенности, цельности и гармоничности образа, несомненно, являются принципами классического искусства, отвергнутыми романтиками: они намеренно освобождали изображаемое от четкости контуров, которые, по их убеждению, заковывают мир в мертвую определенность, по той же причине противопоставляли целостности фрагментарность и т. п.
В Европе от Винкельмана до начала деятельности немецких романтиков прошло несколько насыщенных литературными событиями десятилетий. В России усвоение идей Гердера и освоение наследия Винкельмана происходило практически одновременно, и «классическая» печать ложилась на тексты, обращенные к национальному материалу.69 Показательны настойчивые попытки Гнедича (причастившегося к культу Винкельмана в оленинском кружке) и Жуковского воплотить русскую тему в классическом жанре идиллии. Отталкиваясь от национально-безличной идиллии панаевского (геснеровского) типа, они, с одной стороны, разворачивают ее материал в сторону народности, а с другой, плотно сближают специфику жанра с античностью — не только с Феокритом, но и с Гомером,70 с эпически развернутыми описаниями, которые, кроме всего прочего, отвечают принципу пластичности, выдвинутому винкельмановской классической эстетикой. Дельвиг, воспитанный на образцах античной поэзии и изучавший в Лицее немецких поэтов, впечатленных Гердером, пишет русские песни, которые перемежаются в его творчестве с идиллиями (в них тоже, но далеко не сразу появляется русская тема) и антологической лирикой. Анализируя его русские песни, В. Э. Вацуро заключает, что Дельвиг «подходил к русской народной культуре как к своеобразному аналогу античной культуры <…> Это была своеобразная „антология“ — но на русском национальном материале».71
Разумеется, классическая компонента вовсе не была обязательным сопровождением при разработке национального материала. Но становилось ли непосредственное обращение к нему признаком «романтических» убеждений? В этом отношении показателен случай П. А. Катенина, который, как автор простонародных баллад, не раз был назван романтиком.72 В 1825 году Кюхельбекер писал, что катенинские «Мстислав», «Убийца», «Наташа», «Леший», по большей части написанные в 1814–1815 годах,73 «по сю пору одни, может быть, во всей нашей словесности принадлежат поэзии романтической».74 Пушкин в 1833 году, явно имея в виду те же произведения, назвал Катенина «апостолом романтизма», впрочем, от романтизма затем отрекшимся: «…быв один из первых апостолов романтизма и первый введши в круг возвышенной поэзии язык и предметы простонародные, он первый отрекся от романтизма и обратился к классическим идолам, когда читающей публике начала нравиться новизна литературного преобразования».75 Катенин, однако, и в первой половине 1820-х годов работал над «Романсами о Сиде», используя для перевода гердеровскую переработку испанских романсов и поясняя в 1830 году, что при передаче этой «самородной» поэзии необходимо «применяться к обычаям старины, перенестись совершенно в тот быт, забыть на время свое воспитание и предрассудки, им вкорененные…».76 Представление о заветах Винкельмана и Гердера Катенин должен был получить еще в 1808–1809 годах, когда был посетителем салона Оленина, и эти заветы не расходились в его понимании с убеждениями классика. Усвоенный им пафос национального своеобразия он даже готов был с некоторыми оговорками считать чертой романтизма,77 но это не было в его глазах причиной отречься от «классических», восходящих к античности правил (ср. его подпись под письмом к Пушкину от 24 ноября 1824 года: «неромантик Павел Катенин»78).
Полтора века спустя позиция Катенина была объявлена парадоксальной.79 Но ничто не позволяет думать, что сам он считал ее хотя бы противоречивой. Говоря о Петрарке или об Ариосто, Катенин находил в их творчестве черты классицизма и романтизма,80 явно считая эти определения универсальными, а отнюдь не относящимися к его собственной эпохе и тем более не встраивающими ее в хронологическую перспективу. Более того, он оставил совершенно определенное высказывание по поводу того, что не принимает самого разделения поэзии на романтическую и классическую: «С некоторого времени в обычай вошло делить поэзию надвое: на классическую и романтическую, разделение совершенно вздорное, ни на каком ясном различии не основанное. Спорят, не понимая ни себя, ни друг друга…»81
Прививку классицистической эстетики можно обнаружить не только при обращении к творчеству того или иного автора. Она ощутима и в разновидностях жанров, имеющих устойчивую репутацию романтических. Такова, например, байроническая поэма. Почти обязательное для нее включение обширных описательных фрагментов — актуальное и для самого Байрона наследие классической дескриптивной поэзии, горячо рекомендованной еще в «Поэтическом искусстве» Буало. Начиная с «Кавказского пленника», русские романтические поэмы, которые служат хрестоматийными примерами ломки классицистического канона, написаны в соответствии с выработанной классицистической культурой ориентацией на образец. Они, действительно, ломают канон эпической поэмы XVIII века, но вовсе не потому, что в них отринуты правила — в них просто приняты другие правила, избран другой образец. Его сюжетике и поэтике русская байроническая поэма следует с такой степенью строгости, что, если бы блестящее описание этой традиции В. М. Жирмунским представить в сжатом виде, оно могло бы конкурировать с любыми «нормативными» описаниями жанров в каком-нибудь словаре начала XIX века типа остолоповского. Систематическое описание Жирмунского именно потому и оказалось возможным, что жанровый канон соблюдался русскими авторами достаточно строго (и был с большой степенью полноты эксплицирован в современных им критических отзывах).
«Бориса Годунова» автор называл «романтической трагедией» — она очевидным образом опрокидывала канон классицистического театра. Но «Борис Годунов» тоже написан по образцу, прямо названному Пушкиным в «<Письме к издателю „Московского вестника“>»: «…я расположил свою трагедию по системе Отца нашего — Шекспира».82 Симптоматично здесь слово «система», предполагающее вполне определенный свод правил, почерпнутый, между прочим, из проникнутых пафосом романтизма «Лекций о драматическом искусстве» все того же Августа Шлегеля.83 Разумеется, следование образцам ни в «Кавказском пленнике», ни в «Борисе Годунове», ни во многих других случаях не было их «рабским воспроизведением». Но этого не было и в классицизме XVII века, иначе Корнель не был бы отличим от Расина, а все комедии Мольера были бы на одно лицо.
За пределами рассмотрения остались пока слишком обширные для одной статьи темы, в частности проза, фантастическая и историческая; особая позиция Лермонтова, на протяжении большей части жизни исключенного волею судеб из того литературного сообщества, в котором так или иначе совместно участвовали почти все критики и писатели; тот творческий способ, каким вошел в это сообщество Гоголь; природа того поэтического языка, который был сформирован эпохой Золотого века… Но думается, сказанного достаточно, чтобы подвести некоторые предварительные итоги. Они связаны с двумя обстоятельствами, не позволяющими сказать, что русская литература пережила отчетливо выраженный период романтизма. Во-первых, этому мешает описанная выше двусмысленность в понимании романтизма современниками: восприятие его как нового для России течения, требующего консолидированного самоосмысления, смешивалось с представлением о нем как об одном из двух полюсов, к которым тяготеет многовековое развитие всей европейской словесности. Во-вторых, на это накладывалось сосуществование тех же двух универсальных начал в рамках литературного поля эпохи: поэзия классическая и романтическая развивались в русской литературе первой трети XIX века в теснейшем единстве. Линия размежевания «старого» и «нового» не проходила по границе классицизма и романтизма. И если лагерь «староверов» отрицал достоинства «новейшего романтизма», то те, кого называли романтиками, завоеваниями поэтики классицизма ни в коем случае не пренебрегали. Если бы романтизм хотя бы в нескольких значимых точках проявил себя как отчетливо доминирующая тенденция, не прозвучал бы широко известный недоуменный вопрос Вяземского: «Романтизм как домовой: многие верят ему; убеждение есть, что он существует, но где его приметы, как обозначить его? Как наткнуть на него палец?»84 Это написано в декабре 1824 года, когда Вяземский, деятельно отстаивавший права романтизма, уже выступил с программным предисловием к «Бахчисарайскому фонтану». Можно было бы сказать, что к этому моменту еще не весь потенциал русского романтизма был развернут. Но и полвека спустя, бросая ретроспективный взгляд на ушедшую эпоху, Вяземский не мог вложить в определение романтической поэзии конкретного содержания. В его «Приписке» 1876 года к статье «О жизни и сочинениях В. А. Озерова» читаем: «…в то время значение романтизма не было вполне и положительно определено. Не определено оно и ныне. Под заголовком романтизма может приютиться каждая художественная литературная новизна, новые приемы, новые воззрения, протест против обычаев, узаконений, авторитета, всего того, что входило в уложение так называемого классицизма, — вот и романтизм…»85
(Отметим в скобках, что в 1830 году было создано произведение, в котором сведены на общей территории принципы классицизма и романтизма. Речь идет о трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери». Уже приходилось писать о том, что в ее героях воплощены два типа культуры.86 Монологи Сальери дают образцы поэтики классицизма: герой эксплицирует себя в слове, сполна предъявляя читателю и зрителю свои страдания, намерения и опасения. Совсем иное — речь Моцарта: недоговаривающая, иносказательная, намекающая, суггестивная, она звучит именно так, как описывали стилистику романтической речи ее недруги, негодовавшие по поводу темного, неудобопонятного, лишенного однозначной определенности новейшего поэтического языка.87 Пушкин представляет классическую и романтическую культуры как явственно различенные. Но, оставаясь контрастными и конфликтными, эти начала неотторжимы друг от друга: целое драмы они формируют совместно. Быть может, сама пушкинская идея и столкнуть, и навеки соединить в одном произведении два современных ему типа культуры знаменует то неразъемлемое единство, в каком они в то время существовали. Не будем настаивать на подобной интерпретации — скорее используем ее как метафору, уподобляющую поэтику трагедии совмещению двух опровергающих друг друга, но и нуждающихся друг в друге начал словесного творчества 1810–1820-х годов.)
Как кажется, романтическая культура развивалась в России до тех самых пор, пока действенными оставались принципы классицизма.88 По мере того, как угасало жанровое сознание,89 исчезал интерес к наследию античности, вытеснялась на периферию сама царившая в классицистической культуре поэзия, постепенно гасли и те краски, которыми был так или иначе означен романтизм.90 Достаточно вспомнить краткий век русской фантастической повести. Следующая литературная эпоха обратилась к невозделанной эстетическим сознанием действительности (возникали, конечно, и новые фильтры ее восприятия, но ими становились прежде всего философские и исторические концепции). Высокая эстетика классицизма и творческие установки романтизма отличались одним общим качеством: они создавали суверенные художественные миры — и потому вместе ушли со сцены, когда автономия этих миров перестала цениться и литература начала искать прямые выходы к реальности.
1 В эти годы романтизм как художественное направление был предметом многочисленных монографий и сборников — назовем хотя бы некоторые из них: Вопросы романтизма в русской литературе. Казань, 1963; Ванслов В. В. Эстетика романтизма. М., 1966; Проблемы романтизма: Сб. статей. М., 1967; Манн Ю. В. Русская философская эстетика (1820–1830-е гг.). М., 1969; Европейский романтизм. М., 1973; К истории русского романтизма. М., 1973; Маймин Е. А. О русском романтизме. М., 1975; Проблемы романтизма в художественной литературе и критике. Казань, 1976; Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. М., 1976; Русский романтизм. Л., 1978; На путях к романтизму: Сб. науч. трудов. Л., 1984; Федоров Ф. П. Романтический художественный мир: пространство и время. Рига, 1988.
2 Так, второй том «Истории русской литературы», посвященный первой половине XIX века, вышел в начале 1980-х годов под заглавием: «От сентиментализма к романтизму и реализму». В предисловии редактора говорилось: «Построение тома определяется предложенной в нем периодизацией литературного процесса первой половины XIX в. В нем выделяются два основных периода. Первый характеризуется движением от сентиментализма к романтизму; второй — от романтизма к реализму» (История русской литературы: В 4 т. Л., 1981. Т. 2 / Под ред. Е. Н. Купреяновой. С. 5).
3 Как известно, на это указывал еще Ю. Н. Тынянов: «Большинство попыток определить романтизм и классицизм было не суждением о реальных направлениях литературы, а стремлением подвести под эти понятия никак не укладывавшиеся в них многообразные явления»; «Подходя с готовыми критериями „классицизма“ и „романтизма“ к явлениям тогдашней русской литературы, мы прилагаем к многообразным и сложным явлениям неопределенный ключ, и в результате возникает растерянность, жажда свести многообразное явление хоть к каким-нибудь, хоть к кажущимся простоте и единству. Таков выход, продиктованный историкам самим определением романтизма, которое сложилось не во время борьбы 20-х годов, а позднее, — определением, в котором сложные явления предыдущего литературного поколения, уже стертые в памяти позднейшего, были приведены к насильственному упрощению» (Тынянов Ю. Н. Архаисты и Пушкин // Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1968. С. 24, 51).
4 В России творчество Байрона уже к началу 1820-х годов было признано одним из эталонов романтизма.
5 См.: Берковский Н. Я. Лекции // Берковский Н. Я. Лекции и статьи по зарубежной литературе. СПб., 2002. С. 139–140.
6 30 ноября 1825 года Пушкин писал А. А. Бестужеву: «…робкий вкус наш не стерпит истинного романтизма. Под романтизмом у нас разумеют Ламартина» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: [В 16 т.]. М.; Л., 1937. Т. 13. С. 244–245). Семь лет спустя Пушкин уже писал о «тощем и вялом однообразии» Ламартина (см. «<Начало статьи о В. Гюго>» — Там же. Т. 11. С. 219).
7 См. вышедшую в самом начале 1832 года статью Полевого «О романах Виктора Гюго и вообще о новейших романах (Против статьи г-на Шове)» (Полевой Н. А., Полевой Кс. А. Литературная критика: Статьи и рецензии, 1825–1842 / Сост., вступ. статьи и комм. В. Березиной и И. Сухих. Л., 1990. С. 104–105, 127).
8 Замотин И. И. Романтизм двадцатых годов XIX столетия в русской литературе. СПб., 1902, 1907. Т. 1–2.
9 В труде Замотина подобный ход исследовательской мысли дан эксплицитно. Что же касается прочно сформировавшегося в течение следующего столетия представления о русском романтизме, то оно имплицитно основано на сходных предпосылках: в общей сумме русских художественных текстов первой трети XIX века мы действительно находим общую сумму ключевых признаков европейского романтизма и представляем себе русский романтизм как некое целое.
10 [Воейков А. Ф.]. Разбор поэмы «Руслан и Людмила», сочин<ение> Александра Пушкина // Пушкин в прижизненной критике: 1820–1827. СПб., 2001. С. 36, 38 (впервые: Сын отечества. 1820. Ч. 64. № 34; подпись: В).
11 [Перовский А. А.]. Замечания на разбор поэмы «Руслан и Людмила», напечатанный в 34, 35, 36 и 37 книжках «Сына отечества» (Письмо к издателю) // Пушкин в прижизненной критике: 1820–1827. С. 76 (впервые: Сын отечества. 1820. Ч. 65. № 42; подпись: П. К-в).
12 Ср. сделанное в конце 1824-го или начале 1825 года полемическое замечание В. К. Кюхельбекера о том, что Вяземский и его противники напрасно «сбивают», т. е. соединяют «две совершенно разные школы — истинную романтику (Шекспира, Кальдерона, Ариоста) и недоговаривающую поэзию Байрона» (Кюхельбекер В. К. Минувшего 1824 года военные, ученые и политические достопримечательные события в области Российской словесности // Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи / Изд. подг. Н. В. Королева, В. Д. Рак. Л., 1979. С. 499 (сер. «Литературные памятники»)).
13 Религиозно-мистические предпосылки, импульсы, мотивы и темы в литературе эпохи, которую принято называть романтической, получили масштабное рассмотрение в книге: Вайскопф М. Влюбленный демиург: Метафизика и эротика русского романтизма. М., 2012. Русским байроническим поэмам и фантастическим повестям посвящена столь обширная исследовательская литература, что даже избирательный перечень составил бы объемную библиографию.
14 В 1876 году в «Приписке» к статье «О жизни и сочинениях В. А. Озерова» П. А. Вяземский отмечал: «Толки о романтизме пошли с легкой руки Шлегеля и ученицы его г-жи Сталь, особенно в книге ее „О Германии“» (Вяземский П. А. Соч.: В 2 т. М., 1982. Т. 2. Литературно-критические статьи / Сост., подг. текста и комм. М. И. Гиллельсона. С. 40). В 1824 году в предисловии к «Бахчисарайскому фонтану» он объединял их имена так же, как в этом позднем признании (см.: Там же. С. 97). Орест Сомов в трактате о романтизме прямо называл г-жу Сталь-Голстейн своей путеводительницей (см.: Сомов О. М. О романтической поэзии: Опыт в трех статьях. СПб., 1823. С. 29–30). Вообще похоже, что русские литераторы чаще ориентировались на франкоязычное и компактное изложение французской писательницей немецких идей, чем на сами первоисточники.
15 См.: Staël-Holstein G. de. De l’Allemagne. 2me éd. Paris, 1814. T. 1. P. 271–278. Отметим, что в концепции романтизма, предложенной Ж. де Сталь, индивидуализм не фигурировал как маркер романтизма.
16 Полевой Н. А. О романах Виктора Гюго и вообще о новейших романах. С. 100, 101. Аналогичную точку зрения Надеждина см.: Надеждин Н. И. О современном направлении изящных искусств // Надеждин Н. И. Литературная критика. Эстетика / Вступ. статья, сост. и комм. Ю. Манна. М., 1972. С. 369; о том же писал Бестужев (см.: Бестужев-Марлинский А. А. «Клятва при гробе Господнем. Русская быль XV века». Сочинение Н. Полевого. М., 1832 // Бестужев-Марлинский А. А. Соч.: В 2 т. М., 1981. Т. 2. С. 416–417).
17 Свою обстоятельную латинскую диссертацию «О романтической поэзии. О происхождении, природе и судьбах поэзии, называемой романтической» (Nаdеzdin N. De poesi romantica. De origine, natura et fatis poeseos, quae romantica audit. M., 1830) Надеждин защитил в 1830 году и в том же году издал переводы отрывков из нее (см.: Вестник Европы. 1830. № 1. С. 3–37; № 2. С. 122–151; Атеней. 1830. № 1. С. 1–33). В указанном выше издании 1972 года, подготовленном Ю. В. Манном, опубликован полный и, судя по всему, авторский перевод диссертации (см.: Надеждин Н. И. Литературная критика. Эстетика. С. 498–503; комм. Ю. В. Манна), который и цитируется в настоящей статье. Разумеется, диссертация не была единственным текстом, в котором Надеждин высказывался о романтизме.
18 Надеждин Н. И. О происхождении, природе и судьбах поэзии, называемой романтической. С. 196–198.
19 Там же. С. 139.
20 Публикуя фрагмент диссертации в «Атенее», Надеждин добавил специальное примечание: «…под именем романтической поэзии разумеется здесь везде ни более и ни менее как поэзия средних веков, начавшаяся, при возрождении Европы, прованскими трубадурами и кончившаяся с падением рыцарства, составлявшего душу Среднего мира, и с началом нового порядка вещей, принадлежащего, собственно, последним двум столетиям» (цит. по: Там же. С. 182).
21 Там же. С. 215.
22 Там же. С. 231.
23 Там же. С. 238.
24 Там же. С. 232.
25 Там же. С. 247.
26 См.: Там же. С. 496–498 (комм. Ю. В. Манна).
27 См.: Костенецкий Я. И. Воспоминания из моей студенческой жизни // Русский архив. 1887. Кн. 1. № 3. С. 346.
28 См.: Середний-Камашев И. Н. Несколько замечаний на рассуждение г. Надеждина о романтической поэзии // Московский вестник. 1830. Ч. 3. № 9. С. 44–57.
29 См.: П. Н. [Полевой Н. А.]. О начале, сущности и участи поэзии, романтическою называемой (лат., рус.). Соч. Н. Надеждина. М., 1830. 146 и V с.; О трагедии греков, французов и романтиков <…> соч. В. Ф. Товарницкого. M., 1830. 22 с. // Московский телеграф. 1830. Ч. 33. № 10. С. 233.
30 Полевой Н. А. О романах Виктора Гюго и вообще о новейших романах (Против статьи г-на Шове). С. 108.
31 Мощным стимулом к возникновению романтизма Полевой считал Великую французскую революцию (см.: Там же. С. 104–105).
32 Полевой Н. А. Несколько слов о современной русской критике // Полевой Н. А., Полевой Кс. А. Литературная критика. С. 333.
33 Марлинский А. «Клятва при гробе Господнем. Русская быль XV века». Сочинение Н. Полевого. С. 416–417. Первую Бестужев называет литературой судьбы, вторую — литературой воли.
34 Там же. С. 422.
35 Там же. С. 426.
36 Там же. С. 433.
37 Там же. С. 434.
38 Там же.
39 Там же. С. 440–441.
40 Там же. 441.
41 Там же. С. 442.
42 В Шиллере Бестужев видит наследника Шекспира, а в Гете — воплощение само´й мечтательной, полуземной Германии, «вечно колеблющейся между картофелем и звездами» (Там же. С. 442–443).
43 Там же. С. 415.
44 Там же. С. 446.
45 Сомов О. М. О романтической поэзии. С. 23.
46 Во французском оригинале: «De la poésie classique et de la poésie romantique».
47 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 36.
48 Знакомство Ж. де Сталь с А. Шлегелем относится к 1804 году.
49 В точности его слова звучат так: «Правда ли, что молодой Пушкин печатает новую, третью поэму, то есть поэму по романтическому значению, а по-нашему, не знаю, как и назвать» (Вяземский П. А. Соч. Т. 2. С. 94).
50 Там же. С. 45.
51 Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 2019. Т. 15. С. 91.
52 Пушкин А. С. Соч.: Комментированное издание / Под общ. ред. Д. М. Бетеа. М., 2007. Вып. 1. С. 46 (2-я паг.; комм. О. А. Проскурина). Там же дана ссылка на статью, содержащую обширную сводку по соответствующему словоупотреблению (с XVII века до 1810 года): Baldensperger F. «Romantique» — ses analogues et équivalents // Harvard Studies and Notes in Philology and Literature. 1937. Vol. 19. P. 13–105.
53 Олин В. Н. Ответ г-ну Булгарину на сделанные им замечания к статье «Критический взгляд на „Бахчисарайский фонтан“», помещенной в 7-м нумере «Литературных листков» минувшего 1824 года // Пушкин в прижизненной критике: 1820–1827. С. 206. Из этого Олин делал далеко идущие выводы: «Итак, поэма романтическая есть роман в стихах, или, говоря иначе, роман поэтический. И если план должен находиться в романе, то без сомнения должен находиться также и в поэме романтической; если романист обязан также выдерживать страсти и рисовать характеры, то само собой разумеется, что и поэт романтический не увольняется от сей обязанности» (Там же. С. 207).
54 «Поэма романическая есть стихотворческое повествование о каком-либо происшествии рыцарском, составляющем смесь любви, храбрости, благочестия и основанном на действиях чудесных. От героической поэмы различествует как по содержанию своему, так и по самой форме; ибо содержание в ней бывает всегда забавное, а форма, требуемая героическою поэмою, как то в рассуждении приступа, разделения, и даже самого рода стихов, изменяется по воле автора, между тем как в героической требуется непременное последование принятым правилам. <…> Лица, производящие в романической поэме чудесное, суть: духи, волшебники, волшебницы, гномы, исполины и т. п. Аллегорические лица, как то раздор, брань, истина и пр., почти никогда не вводятся; а верховное божество не должно быть представляемо ни в каком случае: сие также составляет отличительный характер сей поэмы от других. Что касается до единства места, происшествия и времени, столь строго соблюдаемого в поэмах героических, то можно сказать, что романический автор <…> может иногда нарушать сии правила; от него требуется только точное исполнение главнейшей его обязанности, состоящей в увеселении читателей. <…> В романической поэме всякий размер употреблен быть может; но, кажется, приличнейшими следует почесть стихи ямбические четырехстопные и даже вольные. На русском языке в романическом вкусе мы имеем написанную г. Пушкиным поэму „Людмила и Руслан“» (Остолопов Н. Ф. Словарь древней и новой поэзии. СПб., 1821. Ч. 3. С. 28–29). См. также: Греч Н. И. Учебная книга российской словесности, или Избранные места из русских сочинений в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики, и истории российской словесности. СПб., 1820. Ч. 3. С. 304–305, 308–318.
55 Вяземский П. А. О жизни и сочинениях В. А. Озерова. С. 16, 33–34.
56 Там же. С. 41.
57 Там же. С. 40.
58 Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1928. Т. 1. С. 342–343.
59 Не забудем и о балладах на античные сюжеты.
60 См., например: Виноградов В. В. Пушкин и русский литературный язык XIX века // Пушкин — родоначальник новой русской литературы: Сб. научно-исследовательских работ. М.; Л., 1941. С. 548; Курилов А. С. Начало теоретического осознания романтизма русской критикой // История романтизма в русской литературе: Возникновение и утверждение романтизма в русской литературе (1790–1825). М., 1979. С. 163–168.
61 Подготовленный Цертелевым «Опыт собрания старинных малороссийских песен» (СПб., 1819) стал первым сборником украинской народной поэзии. Уже один этот факт указывает на то, что обращение к фольклору не следует рассматривать как проявление культуры романтизма.
62 Ср. замечание Пушкина в адрес неких французских журналистов, которые «относят к романтизму всё, что им кажется ознаменованным печатью мечтательности и германского идеологизма или основанным на предрассудках и преданиях простонародных: определение самое неточное. Стихотворение может являть все сии признаки, а между тем принадлежать к роду классическому» (Пушкин А. С. О поэзии классической и романтической // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 36).
63 В известной мере сходная ситуация сложилась в немецкой литературе рубежа XVIII–XIX веков (см.: Дмитриева Е. Е. Немецкий классицизм // Европейский классицизм: Энциклопедический путеводитель. Т. 1 (в печати)).
64 Само выделение поэзии декабристов как самостоятельного феномена — еще один результат ретроспективного различения литературной реальности.
65 Назовем некоторые издания из числа наиболее популярных: La Harpe J.-F. de. Lycée, ou Cours de littérature ancienne et moderne. Paris, 1798–1799. Т. 1–16 (книга была настольной в пушкинском Лицее); Batteux Ch. Cours de belles-lettres, ou Principes de la littérature. Paris, 1753. Т. 1–4; Marmontel J.-F. Les éléments de littérature. Paris, 1787 (в собрании сочинений Мармонтеля, имевшемся в библиотеке Пушкина (Œuvres complètes de Marmontel. Paris, 1818–1819. T. 1–18), страницы разрезаны в шести томах, из которых четыре содержат указанный труд «Основы литературы» — см.: Модзалевский Б. Л. Библиотека Пушкина: Библиографическое описание. СПб., 1910. № 1136 (Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Вып. 9–10)); Sulzer J. G. Allgemeine Theorie der schönen Künste. Leipzig, 1771–1774; Eschenburg J. J. Entwurf einer Theorie und Literatur der schönen Wissenschaften. Berlin; Stettin, 1783; Eberhard J. A. 1) Theorie der schönen Küste und Wissenschaften. Berlin, 1783; 2) Handbuch der Aestetik für gebildete Leser allen Ständen. Halle, 1803–1805. Bd. 1–4; Heinsius O. F. T. Teut, oder theoretisch-praktisches Lehrbuch der deutschen Sprachwissenschaft. Leipzig, 1807–1812. Т. 1–6; Petite encyclopédie poétique, ou Choix de poésies dans tous les genres / Par une Société de gens de lettres. Paris, 1804–1806; Nouvelle encyclopédie poétique, ou Recueil complet de chef-d’œuvres de Poésie sur tous les sujets possibles… / Par A. Toussaint de Gaigne. Paris, 1778–1781.
66 См., например: Греч Н. И. Учебная книга российской словесности, или Избранные места из русских сочинений в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и поэтики и истории словесности. СПб., 1819–1822. Ч. 1–4; Остолопов Н. Словарь древней и новой поэзии. СПб., 1821. Ч. 1–3; Ручная книга древней классической словесности <…>, собранная Эшенбургом, умноженная Крамером и дополненная Н. Кошанским. СПб., 1816–1817. Т. 1–2.
67 Лаппо-Данилевский К. Ю. Русская рецепция идей И. И. Винкельмана: Хронология и специфика // Древность и классицизм: Наследие Винкельмана в России. Antike und Klassizismus — Winckelmanns Erbe in Russland: Akten des internationalen Kongresses St. Petersburg 30. September — 1. Oktober 2015. Mainz; Ruhpolding; Petersberg, 2017. С. 30. Там же (с. 32–36) см. краткий очерк рецепции идей Винкельмана в России 1791–1825 годов. Подробно о том же см.: Lappo-Danilevskij K. Ju. Gefühl für das Schöne: Johann Joachim Winckelmanns Einfluss auf Literatur und ästhetisches Denken in Russland. Köln; Weimar; Wien, 2007. S. 109–258.
68 Винкельман И.-И. Избр. произведения и письма / Пер. с нем. А. А. Алявдиной. [М.; Л.], 1935. С. 107.
69 Впрочем, заново понятая античность и в Германии не была оставлена за порогом — она питала творчество великих веймарцев, на ней было сосредоточено внимание Гёльдерлина… Но все это к началу XIХ века уже прочно погружено в контекст, далеко ушедший от классицизма двух предыдущих столетий, с которым мало сходствует даже веймарский классицизм.
70 См.: Вацуро В. Э. Русская идиллия в эпоху романтизма // Вацуро В. Э. Пушкинская пора. СПб., 2000. С. 526, 528, 529. Ориентацией на «гекзаметрическую» «Илиаду» объясняется и выбор гекзаметра в переводах Жуковским идиллий Гебеля (Там же. С. 523), а когда Гнедич избирает для своей идиллии пятистопный амфибрахий, он, по предположению В. Э. Вацуро, видит в этом размере модификацию гекзаметра (Там же. С. 525).
71 Вацуро В. Э. Антон Дельвиг — литератор // Дельвиг А. А. Соч. Л., 1986. С. 12, 13.
72 Напомним, что классификация, предложенная Ж. де Сталь, решительно разводила на разные полюса идиллию и балладу. Идиллия была наследием античности, баллада возникла в христианскую эру, — соответственно, первая понималась как жанр классицистический, вторая — как романтический (именно такой взгляд представлен в статье Пушкина «О поэзии классической и романтической» — см.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 36, 37).
73 «Мстислав Мстиславич» датируется 1819 годом, «Наташа» — 1814-м, «Убийца» и «Леший» — 1815-м.
74 Кюхельбекер В. К. Разбор Фон-дер-Борговых переводов русских стихотворений // Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. С. 493. Впервые: Сын отечества. 1825. Ч. 103. № 17.
75 Пушкин А. С. <Сочинения и переводы в стихах Павла Катенина> // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 220.
76 Катенин П. А. Размышления и разборы // Катенин П. А. Размышления и разборы. М., 1981. С. 127.
77 Ср. его определение романтизма «по Августу Шлегелю», с которым он неустанно полемизирует в «Размышлениях и разборах»: «Краеугольный камень всего Шлегелева здания есть одностороннее пристрастие к тому, что он исключительно почитает христианством, то есть к католицизму, отчего он (как известно) переменил веру; и, войдя, так сказать, в его кожу, должно сознаться, что он логически рассуждает, требуя везде и во всем романтизма, сиречь нравов, обычаев, поверий, преданий и всего быта средних веков Западной Европы» (Там же. С. 72–73). Отметим, что и здесь хронологическими вехами романтизма служат христианская эра и Средневековье, а географической вехой — Западная Европа. Катенин подчеркивает, что в понимании романтизма он держится определения, данного Шлегелем (Там же. С. 73), но его католической ориентации противопоставляет православно-византийскую, подготавливая таким образом утверждение о «не романтическом» характере русской старины: «…все близкое в истории нашей едва ли годно в поэзию, а старина наша отнюдь не романтическая; прибегать же, как многие делают с отчаяния, к Лифляндии, Литве, Польше, Украине, Грузии, мужеством предков или современников приобретенным, значит уже в самом деле слишком дешево менять святую Русь» (Там же. С. 73).
78 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 243.
79 Ср.: Фризман Л. Г. Парадокс Катенина // Катенин П. А. Размышления и разборы. С. 9–44. Здесь, в частности, существо «парадокса Катенина» объяснялось тем, что «в 1820-х — начале 1830-х годов в России была создана оригинальная эстетическая система, которая не укладывалась в рамки ни классицизма, ни романтизма, которая отразила своеобразие путей развития русской эстетической мысли и противоречия которой — это противоречия катенинской эпохи, эпохи, когда романтизм терял свою господствующую роль в литературе, уступая ее реализму» (Там же. С. 11). В конце статьи, подводя итоги, Л. Г. Фризман писал, что в основе эстетических построений Катенина «лежала идея необходимости смены романтизма новым искусством, которое синтезировало бы в себе достижения предшествующего художественного развития. Реализм не был назван и описан, но — предугадан» (Там же. С. 42).
80 Катенин считает Петрарку классиком в силу «почтения его к древним» (Катенин П. А. Размышления и разборы. С. 95), но его сонеты к Лауре, в которых он уподобился влюбленным рыцарям и трубадурам, — романтическими (см.: Там же. С. 97). Ариосто «там особенно велик и похвал достоин <…>, где он не романтик, а классик» (Там же. С. 107). О романтизме Ариосто: «…все пошли выдумывать новые лица, сражения, любовные повести и связывать их, как поможет бог, с главным происшествием, войною Карла Великого с маврами <…>. Как много прекрасного не вышло в сих романтических поэмах, паче всего в Ариостовой» (Там же. С. 102); чуть ниже «Неистовый Роланд» назван «романтической эпопеей» (Там же. С. 104). И в то же время истинное достоинство Ариосто — в его «любви и почтении к древним», прежде всего — к латинским стихотворцам («Катуллу, Виргилию и Овидию, обязан Ариост за лучшие места своего „Роланда“» — Там же. С. 107, 106). Ср. также высказывание о Боккаччо: «Он первый также, что не так похвально, начал древнегреческих героев рядить в рыцарские костюмы; подражания и переводы сих дурных его романтических поэм сохранили к себе доныне некоторое уважение в Англии…» (Там же. С. 98).
81 Там же. С. 49.
82 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 66.
83 Приведенными двумя примерами связь Пушкина с культурой классицизма, конечно, никак не исчерпывается. Эта связь становилась предметом исследовательского внимания на разных этапах изучения пушкинского творчества — см., например: Пумпянский Л. В. 1) «Медный всадник» и поэтическая традиция XVIII века // Пумпянский Л. В. Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы. М., 2000. С. 158–196; 2) Об исчерпывающем делении, одном из принципов стиля Пушкина // Там же. С. 210–219; Ивинский Д. П. От романтизма к классицизму: К вопросу о литературной позиции Пушкина // Ивинский Д. П. О Пушкине. М., 2005. С. 5–23.
84 Из писем князя Вяземского к Жуковскому // Русский архив. 1900. Кн. 1. № 2. С. 193.
85 Вяземский П. А. О жизни и сочинениях В. А. Озерова. С. 40.
86 См.: Беляк Н. В., Виролайнен М. Н. «Маленькие трагедии» как культурный эпос новоевропейской истории (Судьба личности — судьба культуры) // Пушкин: Исследования и материалы. СПб., 1991. Т. 14. С. 82.
87 «Легкие намеки, туманные загадки — вот материалы, изготовленные романтическим поэтом», — говорит Классик Издателю в «Разговоре…», предпосланном Вяземским первому изданию «Бахчисарайского фонтана» (Вяземский П. А. Разговор между Издателем и Классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова // Вяземский П. А. Соч. Т. 2. С. 99). Классик здесь повторяет претензии, уже не раз высказанные противниками романтизма, которые упрекали «молодых наших авторов» в том, что их сочинения «ближе всего к шарадам» ([Цертелев Н. А.]. Отрывки из моего журнала // Благонамеренный. 1823. Ч. 23. № 13. С. 66; подпись: Житель Васильевского острова), в том, что у них отсутствует логическая точность (см.: [Цертелев Н. А.]. Спор // Благонамеренный. 1820. Ч. 9. № 6. С. 391–397; та же подпись), в том, что они приняли за правило «половину слов, необходимых для смысла, пропускать, оставляя догадываться читателям» ([Федоров Б. М.]. Разговор о романтиках и о «Черной речке» // Благонамеренный. 1823. Ч. 23. № 15. С. 179–180; подпись: Д. В. р. ст-в) и т. п.
88 Не случайно в 1842 году Герцен пропел романтизму и классицизму общую отходную: «…тяжба романтизма и классицизма, так волновавшая умы и сердца в первую четверть нашего века (даже и ближе) <…> сошла с ними <…> в могилу <…> А давно ли этот бой, шумно начавшийся, блистал во всей красе? Много было талантов на арене; общественный голос участвовал живо, деятельно; нынче избитые имена „классик“, „романтик“ были многозначительны — и вдруг все замолкло; интерес, окружавший сражавшихся, исчез; зрители догадались, что и те и другие сражаются за мертвых…» (Герцен А. И. Дилетантизм в науке // Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1954. Т. 3. С. 24–25).
89 Черта классицистической эстетики, актуальная на протяжении 1810–1830-х годов.
90 Можно было бы сказать, что романтизм оставил в наследие следующей эпохе принципы историзма и народности. Но к истории была обращена вообще вся русская словесность начиная с XI века, и интерес к национальным основаниям культуры тоже не был впервые принесен романтическими веяниями. На разных этапах так называемые историзм и народность просто получали разный характер, интересующая нас эпоха была всего лишь одним из таких этапов.
About the authors
Mariia N. Virolainen
Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom), Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: virolainen@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-0892-5556
Chief Researcher
Russian Federation, St. PetersburgReferences
- Baldensperger F. «Romantique» — ses analogues et équivalents // Harvard Studies and Notes in Philology and Literature. 1937. Vol. 19.
- Beliak N. V., Virolainen M. N. «Malen’kie tragedii» kak kul’turnyi epos novoevropeiskoi istorii (Sud’ba lichnosti — sud’ba kul’tury) // Pushkin: Issledovaniia i materialy. SPb., 1991. T. 14.
- Berkovskii N. Ia. Lektsii i stat’i po zarubezhnoi literature. SPb., 2002.
- Bestuzhev-Marlinskii A. A. Soch.: V 2 t. M., 1981. T. 2.
- Dmitrieva E. E. Nemetskii klassitsizm // Evropeiskii klassitsizm: Entsiklopedicheskii putevoditel’. T. 1 (v pechati).
- Evropeiskii romantizm. M., 1973.
- Fedorov F. P. Romanticheskii khudozhestvennyi mir: prostranstvo i vremia. Riga, 1988.
- Frizman L. G. Paradoks Katenina // Katenin P. A. Razmyshleniia i razbory. M., 1981.
- Gertsen A. I. Sobr. soch.: V 30 t. M., 1954. T. 3.
- Istoriia russkoi literatury: V 4 t. L., 1981. T. 2 / Pod red. E. N. Kupreianovoi.
- Ivinskii D. P. O Pushkine. M., 2005.
- K istorii russkogo romantizma. M., 1973.
- Katenin P. A. Razmyshleniia i razbory. M., 1981.
- Kiukhel’beker V. K. Puteshestvie. Dnevnik. Stat’i / Izd. podg. N. V. Koroleva, V. D. Rak. L., 1979 (ser. «Literaturnye pamiatniki»).
- Kurilov A. S. Nachalo teoreticheskogo osoznaniia romantizma russkoi kritikoi // Istoriia romantizma v russkoi literature: Vozniknovenie i utverzhdenie romantizma v russkoi literature (1790–1825). M., 1979.
- Lappo-Danilevskii K. Iu. Russkaia retseptsiia idei I. I. Vinkel’mana: Khronologiia i spetsifika // Drevnost’ i klassitsizm: Nasledie Vinkel’mana v Rossii. Antike und Klassizismus — Winckelmanns Erbe in Russland: Akten des internationalen Kongresses St. Petersburg 30. September — 1. Oktober 2015. Mainz; Ruhpolding; Petersberg, 2017.
- Lappo-Danilevskij K. Ju. Gefühl für das Schöne: Johann Joachim Winckelmanns Einfluss auf Literatur und ästhetisches Denken in Russland. Köln; Weimar; Wien, 2007.
- Maimin E. A. O russkom romantizme. M., 1975.
- Mann Iu. V. Poetika russkogo romantizma. M., 1976.
- Mann Iu. V. Russkaia filosofskaia estetika (1820–1830-e gg.). M., 1969.
- Modzalevskii B. L. Biblioteka Pushkina: Bibliograficheskoe opisanie. SPb., 1910 (Pushkin i ego sovremenniki: Materialy i issledovaniia. Vyp. 9–10).
- Na putiakh k romantizmu: Sb. nauch. trudov. L., 1984.
- Nadezhdin N. I. Literaturnaia kritika. Estetika / Vstup. stat’ia, sost. i komm. Iu. Manna. M., 1972.
- Polevoi N. A., Polevoi Ks. A. Literaturnaia kritika: Stat’i i retsenzii, 1825–1842 / Sost., vstup. stat’i i komm. V. Berezinoi i I. Sukhikh. L., 1990.
- Problemy romantizma v khudozhestvennoi literature i kritike. Kazan’, 1976.
- Problemy romantizma: Sb. statei. M., 1967.
- Pumpianskii L. V. Klassicheskaia traditsiia: Sobr. trudov po istorii russkoi literatury. M., 2000.
- Pushkin A. S. Poln. sobr. soch.: [V 16 t.]. M.; L., 1937–1949. T. 11, 13.
- Pushkin A. S. Soch.: Kommentirovannoe izdanie / Pod obshch. red. D. M. Betea. M., 2007. Vyp. 1.
- Pushkin v prizhiznennoi kritike: 1820–1827. SPb., 2001.
- Russkii romantizm. L., 1978.
- Tynianov Iu. N. Arkhaisty i Pushkin // Tynianov Iu. N. Pushkin i ego sovremenniki. M., 1968.
- Vaiskopf M. Vliublennyi demiurg: Metafizika i erotika russkogo romantizma. M., 2012.
- Vanslov V. V. Estetika romantizma. M., 1966.
- Vatsuro V. E. Anton Del’vig — literator // Del’vig A. A. Soch. L., 1986.
- Vatsuro V. E. Pushkinskaia pora. SPb., 2000.
- Viazemskii P. A. Soch.: V 2 t. M., 1982. T. 2. Literaturno-kriticheskie stat’i / Sost., podg. teksta i komm. M. I. Gillel’sona.
- Vigel’ F. F. Zapiski. M., 1928. T. 1.
- Vinkel’man I.-I. Izbr. proizvedeniia i pis’ma / Per. s nem. A. A. Aliavdinoi. [M.; L.], 1935.
- Vinogradov V. V. Pushkin i russkii literaturnyi iazyk XIX veka // Pushkin — rodonachal’nik novoi russkoi literatury: Sb. nauchno-issledovatel’skikh rabot. M.; L., 1941.
- Voprosy romantizma v russkoi literature. Kazan’, 1963.
- Zhukovskii V. A. Poln. sobr. soch.: V 20 t. M., 2019. T. 15.