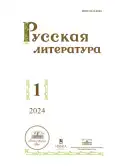Archaist-enlightener Ya. A. Galinkovsky: to the characteristics of literary reputation
- Authors: Baskina M.E.1,2
-
Affiliations:
- Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom), Russian Academy of Sciences
- National Research University Higher School of Economics
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 25-47
- Section: Литературный контекст переходных эпох. Случай Я. А. Галинковского
- URL: https://journal-vniispk.ru/0131-6095/article/view/257524
- DOI: https://doi.org/10.31860/0131-6095-2024-1-25-47
- ID: 257524
Full Text
Abstract
The article is an attempt to modify the established image of Ya. A. Galinkovsky’s short and unfortunate literary biography as an evolution from a karamzinist into an anti-karamzinist and finally into a shishkovist. We re-consider Galinkovsky within a different, less salient circle of learned translators and critics of «archaic-enlightened» orientation.
Full Text
Литературная биография Якова Андреевича Галинковского (Галенковского) (6 (17) октября 1777 — 16 (28) июня 1815), скоропостижно умершего в 38 лет, ограничена переходной эпохой 1790–1810-х годов. Он принадлежит к тем ее деятелям, кто не успел к «золотому десятилетию» Н. И. Новикова и сошел с литературной сцены, не перейдя в новую эпоху. Единственная институализированная литературная связь Галинковского, в последние годы жизни, — с «Беседой любителей русского слова»; в протоколах «Арзамаса» он не удостоился личного насмешливого эпитета и был отмечен в 1815 году С. П. Жихаревым только как собирательный знак ничтожных, дежурно презираемых архаистов: «Политковские и Галинковские».1 Упоминания Галинковского в работах по истории литературы опираются прежде всего на фундаментальную статью о нем Ю. М. Лотмана.2 Лотман рассматривает небольшую и тогда совершенно забытую литературную фигуру Галинковского в рамках системы карамзинизма / анти-карамзинизма: романы Галинковского конца 1790-х годов — подражание входившему в моду чувствительному стилю Карамзина; под влиянием последующей близости с «Дружеским литературным обществом» Андрея Тургенева происходит формирование критической позиции по отношению к творчеству Карамзина. Реакция современников на главный труд Галинковского, компилятивную, в основном переводную эстетическую энциклопедию «Корифей, или Ключ литературы» (1802–1807, 2 части, 11 выпусков), состояла, в изложении Лотмана, в резкой критике, исходившей из лагеря карамзинистов, П. И. Макарова и И. Рихтера, а анонимные статьи Галинковского 1805 года в журнале «Северный вестник» представляли собой ответ на нее и «широкую критику карамзинизма как направления».3 Описание позиции Галинковского как анти-карамзинистской вкупе с его членством в «Беседе», кажется, исчерпывающе фиксирует его место в истории литературы — ретрограда, которого «нападки карамзинистов сопровождали <…> до могилы, утвердив за ним славу бездарного педанта».4
Впрочем, в статье 1959 года Лотман отметил те точки, где позиция Галинковского-критика выходит за рамки анти-карамзинизма (в статьях в «Северном вестнике» Галинковский, будучи недоволен вообще фактом «чиновной» иерархии в «республике литературы», обещал «бранить» не только Н. М. Карамзина, И. И. Дмитриева и П. И. Шаликова, но и А. С. Шишкова, Г. А. Глинку, П. И. Голенищева-Кутузова и др.), а также признал, что воззрения, сформулированные в «Корифее», «обладали чертами, отделяющими их от принципов будущего руководителя „Беседы“ не менее решительно, чем от принципов карамзинистов».5 Так, представление Галинковского о гении имеет преромантический характер, интерес к Шиллеру и Шекспиру сближает его с Андреем Тургеневым. Лотман отмечает оригинальность взгляда Галинковского на отечественную литературу недавнего прошлого, в частности, весьма сочувственные отзывы о Тредиаковском, в духе радищевских.6 Патриотически окрашенный интерес Галинковского к античности, а также перевод древних авторов безрифменным белым стихом позволяют Лотману связать его с позже высказавшими сходные мысли Н. И. Гнедичем и А. Ф. Мерзляковым и т. д. Таким образом, и те элементы позиции Галинковского, которые выходят за рамки системы анти-/карамзинизма, описываются через аналогии со взглядами других, более крупных писателей. Это обычный историко-литературный способ рассмотрения таких небольших фигур переходного времени: на них смотрят, фокусируясь на более заметных деятелях эпохи и связанных с ними полемиках и направлениях. В результате при сокращенном изложении литературной биографии Галинковского на поверхности остаются только эти самые возвышенные общие точки историко-литературной схемы — черты его сходства с ними и критика в его адрес — сам же он буквально исчезает из виду: не будучи автором «первого разряда, <…> тем не менее подошел к разрешению самых существенных литературных проблем его эпохи»;7 «не будучи фигурой, отмеченной печатью крупного таланта или резкой самобытности, <…> тем не менее представляет интерес как писатель и критик, отразивший литературные воззрения переходного времени»;8 литератор, «в 1800-е гг. резко порвавший с карамзинской традицией и быстро сблизившийся с кругом А. С. Шишкова».9
Попробуем сначала подвергнуть ревизии утверждения об идейно определяющей связи Галинковского с «Дружеским литературным обществом» Андрея Тургенева и «Беседой» как кругом Шишкова. Лотман признает, что «скудость источников не позволяет в полной мере восстановить характер взаимоотношений Галинковского и ведущих членов „Дружеского литературного общества“», однако утверждает: «…упоминания в дневнике Андрея Тургенева говорят о дружеской близости. Вместе с Андреем Кайсаровым Тургенев бывал вечерами у Галинковского».10 Источников для утверждения о дружеской близости действительно слишком мало (и вовсе нет сведений о том, что Галинковский участвовал в заседаниях общества в его основной, московский, период): в архивных материалах Андрея Тургенева обнаруживаются процитированное Лотманом его письмо А. Ф. Мерзлякову и В. А. Жуковскому от 21 декабря 1801 года с упоминанием о том, как вместе с братьями Кайсаровыми и Д. М. Юзефовичем они провели у Галинковского «прекрасный, прещастливый вечер, которым единственно обязаны нашему бывшему Собранию»,11 а также упомянутая, но не процитированная Лотманом запись в дневнике Андрея Тургенева от 8 декабря 1801 года, которая оказывается весьма лаконичной: накануне «на вечер поехал с Кайс<аровыми?> к Галинковскому, у которого провели время довольно приятно».12 Вполне вероятно, что речь в обеих записях идет об одном и том же вечере, проведенном в гостях у Галинковского в Петербурге в начале декабря 1801 года (когда «Дружеское общество» уже перестало существовать), что вряд ли дает основание для утверждения об идейно и лично значимой близости.
Описание позднейшей позиции Галинковского как перехода в «круг А. С. Шишкова»,13 основанное на членстве в «Беседе», также нуждается в уточнении. Галинковский, что было отмечено Лотманом,14 сошелся с Г. Р. Державиным до возникновения «Беседы»: в апреле 1804 года он составлял выписки «по разным предметам словесности»15 для его итогового литературно-теоретического труда «Рассуждение о лирической поэзии, или об оде». В июле 1806 года Галинковский женился на Марии Феофилактовне, по первому мужу Бастидон, вдовой племяннице первой жены Державина,16 таким образом войдя в широкий родственный круг поэта поздних лет его жизни. Дружеский кружок, собиравшийся вокруг Державина с 1804 года, перерос в «Беседу», куда Галинковский перешел, видимо, прежде всего как родственник и помощник Державина. В «Беседе» ему было поручено делать то же, что он уже делал для Державина, — «извлечения из общего круга литературы»17 и, прежде всего, быть одним из сотрудников Державина в его работе над «Рассуждением о лирической поэзии». Таким образом, и в «Беседе» он оставался «в неизвестном и бесславном круге собирателя»,18 а среди ее членов — фигурой неважной и служебной.19 Следует также учесть, вероятно, сильную личную обиду Галинковского на Шишкова, который в своем знаменитом «Рассуждении о старом и новом слоге российского языка» (1803) в качестве одного из примеров того, как новые переводчики, не зная многих слов «природного языка своего», прибегают к калькам с французского, упомянул о «книге, называющей себя опытом всеобщей словесности, и первою классическою на русском языке» — т. е. о «Корифее» — и, издевательски разобрав рассуждение Галинковского о центральном понятии его труда, «литературе», отпустил по поводу этимологического перевода «littérature» на русский словом «письменность» (вместо «словесность») известную шутку, что «письменность» «в российском языке столь же обширный смысл имеет, как полотненость, бумажность, грибовность и проч.».20 Кроме того, Галинковский прямо высказал претензию к Шишкову, публикуя в 1813 году в «Чтениях в Беседе…» свой перевод первой эклоги Вергилия и сопровождавшее его «Письмо к издателям академического журнала: Сочинения и переводы, писанное 26 декабря 1804 года», за то, что тот в свое время, в 1804 году, не передал в Российскую академию это тогда новаторское сочинение.21
Таким образом, ранняя тесная связь Галинковского с «Дружеским литературным обществом» основательно не подтверждается, а поздняя, с «Беседой», имеет характер преимущественно родственной, а не идейной, кружковой приверженности. Кроме того, эти влияния почти не касаются центрального периода в литературной судьбе Галинковского — издания им в 1802–1807 годах «Корифея». Видимо, для описания небольшой, чуждой литературным объединениям фигуры Галинковского нужно перестроить литературную оптику, использовать неиерархический расфокусированный взгляд, который предложил тот же Лотман для характеристики целого ряда авторов переходной эпохи 1790–1810-х годов, удаленных от литературных «вершин»: «…идеологические и историко-литературные классификации лишь отчасти объясняют реальное расположение сил в глубине литературной жизни конца XVIII — начала XIX века. <…> Чем дальше от литературных „вершин“, тем труднее построить покоящуюся на единых логических основаниях всеобъемлющую классификацию», объединяющий признак приходится искать не в отчетливой литературной позиции и организационной принадлежности, а в пестрой социальной материи «дружеских связей, определяемых порой довольно случайными причинами, симпатий, вызванных общностью социальных эмоций, типом воспитания, службой», принадлежности к «одному, в достаточной мере расплывчатому провинциальному культурному „гнезду“», в ситуативном объединении вокруг какого-то журнала, в «принадлежности к недворянской культуре переходного времени» и вообще в «индивидуальных особенностях <…> судьбы».22
Галинковского можно отнести к тем, кто действовал на литературной сцене только в связанное с поздним русским классицизмом и Просвещением начало александровского царствования, после чего сошел с нее по одной из причин: умерев, переменив поприще на ученое, чиновничье или военное, потопив свой дар «в вине или лучше сказать в водке» или «зарыв в деревне».23 Это ярко своеобразные поэты С. С. Бобров и М. В. Милонов, погубленные «несчастной страстью излишнего служения Вакху»; основатели ВОЛСНХ — рано умерший И. П. Пнин, И. М. Борн, сменивший филологические занятия на роль учителя в семействе принца Ольденбургского и долгие годы находившийся с ним в Германии, В. В. Попугаев, пропавший с литературного горизонта и предположительно закончивший свои дни в Твери. Из тех членов «Дружеского литературного общества», с которыми Галинковский сохранил связь, Д. М. Юзефович посвятил себя армии,24 а А. С. Кайсаров выбрал университетскую ученую карьеру.25 Ближайшим общим определением для них будет предложенная Лотманом формула «архаисты-просветители»26 или те, кто принадлежал «культуре вчерашнего и завтрашнего дня».27
Внутри этого «безымянного сообщества», «сообщества одиночек»,28 Галинковский должен быть отнесен к типу «неудачников» или, как он сам пишет в связи с высоко им ценимым, в противоположность общим насмешкам, В. К. Тредиаковским, «несчастливым» авторам.29 Также представляются значимыми обстоятельствами его принадлежность к бедному малороссийскому дворянству, семинарское образование, служба до конца жизни на чиновничьих должностях, «весьма маловажных и принятых им по случаю <…> по худым его обстоятельствам, по неимению никакого покровительства и состояния»,30 а также то, что он был человек не светский (как говорилось в единственном, кажется, некрологе Галинковскому, он был «скромным любителем уединения», который собрал «прекрасную библиотеку» и «редко оставлял свой кабинет»31 или, как он сам писал о Сафо: она не имела «многих тех маловажных (светских. — М. Б.) приятностей» и имела «эту ученую неловкость, которая делала все ее поступки жеманными и неразвязными»).32
Можно выделить несколько лиц, которые достоверно составляли небольшой круг культурно значимых знакомств Галинковского в основной, связанный с «Корифеем»,33 период его литературной деятельности. Первым покровителем Галинковского был Д. П. Трощинский (1749–1829), крупный сановник александровского царствования, малороссиянин и патрон многих малороссийских литераторов и художников, в частности В. В. Капниста. Важные перемены в судьбе Галинковского начались именно с перехода на службу в канцелярию главного директора почт Трощинского и с переезда в августе 1801 года из Москвы в столицу:34 уже в начале 1802 года в свет вышел первый 250-страничный том составлявшегося им единолично «опыта всеобщей словесности» с пышным заглавием «Корифей, или Ключ литературы». Опубликованные С. Д. Дзюбановым архивные материалы отвечают на вопрос, каким образом «Корифей» — фундаментальная затея никому в литературном и ученом мире не известного мелкого чиновника и литератора35 — получил казенное финансирование, которого хватило на пять лет издания. «Его Императорское величество, — сообщал Галинковский в служебной записке 1807 года, — по прочтении программы сего издания, представленной докладчиком его превосходительством Трощинским, изволил повелеть печатать оное на счет Кабинета, а издателю при поднесении 1-й книжки всемилостивейше пожалован перстень бриллиантовый».36 Подробно изложенный во вступлении замысел первой, «дидактической», части издания37 был полностью воплощен, в 1802–1803 годах вышли все запланированные шесть книг: «Клия, или История», «Мельпомена, или Трагедия», «Талия, или Комедия», «Эвтерпа, или Музыка», «Терпсихора, или Пляска» и «Каллиопа, или Поэзия». Пестрый состав первых томов и часто дилетантский характер собственных замечаний Галинковского, который пытался говорить с молодым, не знающим иностранных языков «соотчичем» «не тоном правил, но легким слогом собеседника»,38 вызвали убийственную критику П. И. Макарова,39 создавшую «Корифею» репутацию труда, который сразу был «осужден на изгнание» из числа книг.40 Вторую часть Галинковский сделал не занимательной, как предполагал в начале, а напротив, более конвенциональной и почти свободной от его собственных оценок и соображений.41 Книжки «Корифея» предполагалось выпускать каждые полтора месяца, однако выход томов был нерегулярным и постоянно замедлялся, в 1807 году издание прервалось с прекращением финансирования.42
Одновременно с Галинковским в почтовом ведомстве у Трощинского служил и также пользовался его покровительством Н. М. Яновский (ок. 1764 или 1767 — 1826), еще один выходец из бедной малороссийской среды, который одновременно с «Корифеем» выпустил свой «Новый словотолкователь, содержащий разные в российском языке встречающиеся иностранные речения и технические термины…» (1803–1806; 3 т.). «Словотолкователь» близок к «Корифею» как сделанная одним находившимся вне определенного литературного и ученого круга человеком переводческая работа «филолого-энциклопедического типа»43 и масштаба (в «Словотолкователе» более 10 тысяч словарных статей, по своему качеству во многом превосходящих академический словарь русского языка, готовившийся тогда же коллективом авторов), ориентированная на актуальную необходимость перевода и толкования большого объема вошедших в русский язык новых иностранных понятий. Можно предположить, что общность происхождения,44 близость ученых замыслов и служба в одной канцелярии служили основанием для взаимного интереса Яновского и Галинковского.
Перенос на русскую почву новых европейских терминов и понятий, что составляло основное содержание «Корифея» и «Нового словотолкователя», в те годы был сосредоточен уже не столько в области военной, естественно-научной, связанной с мореплаванием, дипломатией, администрацией, а прежде всего в политической,45 философской, эстетической, духовной, эмоциональной. В «Словотолкователе» Яновского объяснялись не только гуманитарные понятия, однако в восторженной рецензии «Северного вестника» на эту драгоценную «опору нашей словесности», полезную и «ученым людям», и «читателям всякого рода», особенно были выделены статьи гуманитарного круга — «диалектика», «журнал», «ирой», «история», «комедия», «литература», «логика», «мифология», «мода», «музыка» и др.46 Также и выходивший в «Северном вестнике» все годы его издания отдел «Синонимы», основанный на французском словаре синонимов аббата Рубо (1785–1786), толковал понятия прежде всего из моральной и эмоциональной области: «эгоист, своекорыстный», «ожидать, надеяться», «гений и талант или отличные дарования», «гений, ум», а в подражавшем ему «Журнале российской словесности» Н. П. Брусилова — «счастие, благополучие, блаженство» и т. п.47
В те годы своеобразие вообще регулярно возобновляемой в русской культуре работы перевода и усвоения новых европейских эстетических понятий заключалось в том, что она происходила в поле, наэлектризованном полемикой между сторонниками старого и нового слога, имевшей острый характер борьбы за власть в литературе. Шишков, признавая, что «все вещи, конечно, подвержены переменам: некоторые старинные слова и обороты ветшают и выходят из обыкновения; употребление дает силу словам и выражениям; от новых понятий рождаются новые названия и новый образ речений»,48 — и что «мы не имеем еще определенных слов, употребляемых в науке красноречия для показания разных ее правил»,49 решительно выбирал в ситуации, когда нет «нужных для перевода слов», не добавлять «к известным иноземным словам еще другие, мало или вовсе неизвестные», а осмелиться «изобресть и определить русские слова»,50 прежде всего образованные по составной словообразовательной модели, и демонстрировал свой выбор переводом из имевшего тогда огромное влияние на русскую культуру «Лицея» Ж.-Ф. де Лагарпа, где слово «фигура» заменял на «словоизвитие», «метафора» на «иносказание», «аллегория» на «инословие», «метонимия» на «иноимие», «философы» на «мудролюбцы», «ораторы» на «краснословы», «критики» на «рассматриватели книг» и т. п.51 Тут необходимо учесть, что до Отечественной войны сочинения Шишкова (вообще написанные, по замечанию Д. П. Святополк-Мирского, «великолепным русским языком»52) представляли собой яркую утопическую фантазию, реакцию на ширившееся французское влияние, тогда как взвешенное возражение Д. В. Дашкова («лучше, когда бы все даже учебные выражения, без коих мы теперь обойтиться не можем, были переведены настоящими русскими словами», но «хотеть переводить всякое слово без разбора есть также погрешность: ибо вместо известного и значительного иностранного слова, везде употребляемого, мне вбивают в голову другое славенорусское или, лучше сказать, славеноварварское, совсем того смысла не выражающее»)53 было уверенной речью тех, кто чувствовал себя литературной властью, созвучной духу времени. Признак архаистической работы перевода, противостоявшей карамзинистскому введению в русский язык «галлицизмов умственных понятий», как их позже назвал П. А. Вяземский, — множество часто уродливых экспериментальных решений и метапереводческих примечаний. Интересующие нас ученые переводчики из числа «архаистов-просветителей» не стремились сформировать новый слог русского языка и победить в литературной борьбе за власть — их задачей было прежде всего, как писал Галинковский, «научиться понимать».54 Они стояли ближе к архаистам своим демократическим и национальным пафосом, осуждением «преизбыточной» переимчивости русского общества, которая становится «обезьянством», и «моды» на французский язык,55 но при этом признавали и «утончение понятий нынешних просвещенных нравов и недостаток на нашем языке слов к выражению оных».56 Автор напечатанной в «Северном вестнике» рецензии на «Новый словотолкователь» Яновского с одобрением отмечает в нем как вполне «шишковские» изобретения: «отомат самодвиг, барометр погодомер, волан леток, и пр.»,57 так и использование латинизмов и грецизмов с подробным энциклопедическим толкованием их значения: теперь «литераторы, которые всегда занимаются одною своею изящностью, <…> не будут рыться в курсах и библиотеках, дабы узнать, что такое артериотомия, антропология, гигиена, гидрофобия, консерва, илиаческий, климатерический, и пр.», а «статские люди» узнают точное значение таких часто употребляемых слов, как «муниципальный, администрация, коносемент, компетенция, акцептовать и пр.».58 В прагматике «Нового словотолкователя» изобретенные русские переводы и европеизмы имеют ту же цель, что и энциклопедические толкования, — наилучшим образом объяснить смысл заимствованного иностранного слова. Если, например, грецизм «космополит» Яновский не просто пояснял «шишковским» переводом «всеградник», но и оперировал им в словарной статье, т. е., видимо, предлагал ввести его в оборот («Космополит, гр. Всеградник; гражданин всего света <…>. Таковый всеградник не может быть хороший гражданин»59), то упомянутую рецензентом «Северного вестника» этимологическую кальку со слова «барометр» — «погодомер» — приводил только для пояснения смысла, в статье же оперировал грецизмом «барометр».60 Аналогичным образом в «Синонимах» анонимный переводчик, излагая рассуждение французского академика о различии значений слов «l’egoiste» и «l’homme personnel», первое передает европеизмом (грецизмом) «эгоист», архаичным составным вариантом «самохвал» и простонародным словом «янька»;61 второе переводит составным словом «своекорыстный», буквально («до слова») как «личный человек», а в связи с «personnalisme» приводится еще «весьма хорошо его выражающее слово самособие».62 Так же действовал Галинковский в «Корифее», ставя в многочисленных номенклатурах, которыми он снабжал свои переводы и компилятивные пересказы европейских сочинений, в одном ряду европеизм, кальку, часто построенную по архаичной составной модели, ряд русских эквивалентов-синонимов и толкование. Так, он поясняет: «Prosodie, прозодия, словоударение»,63 соединяя уже принятый латинизм «просодия», использованный, в частности, в русском переводе Зульцера,64 и тот же составной русский вариант перевода «словоударение», что Яновский65 (который более точно передает смысл термина «prosodie», чем предложенное Шишковым в его переводе из Лагарпа «произношение»). Руководствуясь при выборе варианта из потенциального синонимического ряда прежде всего смысловой точностью, «ибо всего необходимее переводить слова в настоящем их смысле»,66 эти переводчики допускали возможность сказать как «барометр», так и «погодомер», как «просодия», так и «словоударение».
У Галинковского эта лексикографическая переводческая пестрота интегрирована в его собственную речь, где перемешаны европеизмы «эпиграф», «энтузиаст», «космополит» со славянизмами «дееписатели» и «письменознатели», а патетические обличения «поддельных» французов: «…тут нет людей, отоматы, истуканы, махины славного художника, у которых все движется своими пружинами, своими колесами; тут природа не раскрывает своего лица: у них она кокетка, которая всегда хочет казаться сквозь флер»,67 — сформулированы сплошь «иноземными» словами («энтузиаст», «отомат», «кокетка», «флер») и стилистически пестрыми синонимическими рядами («отоматы, истуканы, махины»).68 Галинковский постоянно включает в собственную речь и синонимические пары славянизм-европеизм (в большинстве случаев совпадая с «Новым словотолкователем» Яновского или, возможно, на него опираясь): «возвыситься до красот сказания (дикции)»,69 «на каждой странице высказывают ложного фаталиста (случайника)»,70 «без всякой народодержавной (политической) догадки»,71 «говоря о характере своих соотчичей с великим энтузиасмом (исступлением)»,72 «видел у себя отчичей (патриотов)»,73 «всякий народ носит отпечаток своего характера на его лиценачертании (физиогномии)»,74 «много однакож и между ними себялюбцев (эгоистов)»,75 «обширное поле именочислия (номенклатуры)»,76 «перо историка никогда не имело <…> дальности (перспективы)»77 и проч. При этом предпочтение того или иного варианта не мотивировано предметом описания: о характере русских говорится «твердость или лучше стоизм»,78 о привычке соотечественников глазеть на сцены жестокости: «Пожар не обойдется без целого партера зрителей»,79 а о сражениях в древнем Риме: «когда сражаются мечебойцы (гладияторы)».80 Галинковский часто поясняет вполне уже прижившиеся на русской почве лексические заимствования («Хронология — времяисчисление», «астрономия — звездословие»,81 «арифметика — числословие»,82 «логика — умословие»,83 «история — дееписание»84 и т. д.), конечно, не потому, что, как Шишков или составители академического словаря, предлагает их заменить славянскими аналогами, а вероятно, развивая синонимическое богатство русского языка и ориентируясь не на образованного светского читателя (и вряд ли хорошо его себе представляя, поскольку сам не имел ни светского, ни европейского, ни университетского опыта), а на широкого, не знакомого не только с иностранными языками, но и со стилистическими новациями отечественной словесности. Так, номенклатура к переводу театральных понятий: «Актер, действующий. Роля, лице. <…> Комический, смешный. <…> Феатр, зрелищный дом. Сцена, амвон, возвышение, на котором играют в зрелищном доме <…>. Декламация, возглашение. <…> Спектакль, зрелище»85 — предполагает, кажется, того же читателя, которому 30 лет назад М. И. Попов в словарике, сопровождавшем перевод поэмы Клода Дора «На феатральное возглашение», объяснял: «Acteur — действователь», «declamation — возглашение», «parterre — помост», «souffleur — поправлятель, напоминатель».86 Попов в свое время, рассуждая о том, как передавать иностранные слова: переделывать «на свой салтык», «это был бы урод», а оставить непереведенными «еще гаже», — выбрал первый вариант,87 Галинковский чаще соединял оба подхода, создав множество «гадких уродов»,88 что дало основание В. Д. Левину написать о свойственном ему «удивительном отсутствии вкуса и пестроте слога».89 Нужно только добавить, что эта пестрота возникает из желания с возможной точностью передать содержание иностранного понятия и, вероятно, из сознательного дистанцирования от окрашенных борьбой за литературное господство критериев «вкуса» и «стиля» (см. об этом подробнее ниже).
Вернемся к выявлению культурного окружения Галинковского. Сюда можно отнести П. А. Сохацкого (1766–1809), уроженца Полтавы и выпускника Киевской духовной академии. В 1800 году большое место в журнале Сохацкого «Иппокрена, или Утехи любословия» заняли фрагменты перевода Галинковским из английской антологии «Красоты Стерна». Этот перевод находился в русле свойственного Сохацкому и его журналу нечастого в ту эпоху освоения английской литературы в оригинале, а не через французские переводы-посредники.90 Кроме того, с вероятной близостью с Сохацким не в меньшей степени, чем с «Дружеским обществом», можно связать отрицательное отношение Галинковского к карамзинистскому культу «безделок», интерес к вопросам эстетики и вообще к «важным и высоким» предметам.
Для характеристики Галинковского значимо также, что Сохацкий, который первым стал преподавать в Московском университете эстетику, перевел труд геттингенского профессора Кристофа Мейнерса (Christoph Meiners, 1747–1810) «Главное начертание теории и истории изящных наук» (М., 1803; «Grundriß der Theorie und Geschichte der schönen Wissenschafften», 1787), близкий «Корифею» как «начальному руководству или основанию всеобщей словесности»,91 а также как осторожное введение внутрь еще актуальной для этих авторов эстетической системы классицизма некоторых новых идей.92 Мейнерс, в отличие от более известных в России авторов французских классицистических эстетик, в числе «образцовых сочинений» рассматривал не только античных писателей и французских классиков, но также Мильтона и Шекспира — Галинковский в «Корифее» также сообщает новые для тогдашней русской культуры преромантические представления об «ужасной прелести» и «волшебстве» пьес Шекспира — «жени́», который «превосходит все правила в своей превыспренности».93
В связи с Сохацким и его переводом Мейнерса обратим внимание на характерную черту речи Галинковского — не просто частое, но имеющее характер тика употребление некоторых европеизмов, особенно «жени» («genie»), которое вызвало раздражение не только Шишкова, воспринявшего его как признак «галло-русского наречия», но и В. Г. Анастасевича. Шишков высмеял фразу из «Корифея» «Жени рассматривал природу»:94 «…иной подумает, что это Жан или Иван рассматривал природу»,95 Анастасевич сдержанно заметил: «…к слову жени (гений) видно в нашем авторе особенное пристрастие»96 (а также, процитировав фразу из «Корифея» «Множество высоких пассажов внушат вам энтузиазм», добавил: «Оба чужестранные слова; употребите русские, оборотите фразу, и смысл будет яснее. Чтение <…> многих величественных мест (passages) приведет вас в восхищение, или, если угодно, в исступление (enthousiasme)»97). Галинковский, конечно, знал и в своих номенклатурах использовал те более узуальные варианты перевода этих слов, которые советует Анастасевич: «Enthousiasme, энтузиазм <…> поэтическое исступление…»,98 «Genie, жени, гений…».99 При этом «жени» у него — не знак стилистической приверженности «типично карамзинскому термину»,100 как и использование слов «лиценачертание» и «дееписатели» — не «шишковизм». Принципиально объявленная им позиция («…я не озабочивался переводом иностранных ученых слов, принятых в общем языке литературы, — и потому пишу слова жени, сюжет, пиэса, шедэвр — в их оригинале. Для сего может послужить прилагаемая терминология, в которой значения их переведены до слова. Я приглашаю знатоков их придумывать…»)101 представляет собой попытку оперировать современным общеевропейским эстетическим языком. Так, насмешившая Шишкова фраза «Образы во всех видах словесности предшествовали правилам: Жени рассматривал природу…» — это перевод начальных строк первой книги «Лицея» Лагарпа: «Во всяком роде произведений образцы были прежде правил: гений рассматривал природу…».102 Вообще этот фрагмент «Корифея», озаглавленный «Опыт словесности чистой, или Курс стихотворства и прозы. Правила», где еще несколько раз встречается слово «жени»,103 представляет собой (что не указано) перевод вводной главы к «Лицею» Лагарпа, в который без оговорок интегрированы собственные соображения Галинковского о Кантемире и Тредиаковском и изложение цели «Корифея». При этом возвращаясь несколько раз к объяснению содержания понятия «жени», с его новым, преромантическим, элементом («Эти дарования, стремящиеся превзойти самого человека, бунтовали вечно в душе его (Руссо. — М. Б.), как стихии, были как ртуть ни одной минуты не знающая покою <…>. В сих чертах распознавайте жени! — он не ходит обыкновенною дорогою…»;104 «Genie, жени, гений, лично-особенное-дарование, дух великий, недостигаемый, творец оригинальный, ум составленный из превосходнейших стихий совершенства смертного. Человек особенный, у которого свой образ видеть, чувствовать, мыслить и писать, человек небывалый; оставляю знатокам и любителям языка своего придумать на русском сие слово и сообщить оное, когда угодно будет, в журнал»105), и парадоксально предлагая читателям сообщить издателю «Корифея» перевод слова, которое уже было принято переводить на русский грецизмом «гений»,106 Галинковский, как представляется, отражал свое понимание необходимости переопределить и пояснить это понятие, как оно используется в новейших эстетиках; необходимость расширения понятия «гений» в романтическом направлении ощущали в те годы и другие авторы-переводчики.107 Аналогичным образом, говоря о Стерне, Галинковский зафиксировал непереводимость английского слова «humour» в его новом значении: не доминирующего темперамента и чудачества, нрава, как немецкое «Laune» и французское «humeur», а особого мировоззрения, «возвышенного наоборот»:108 «…слово гюмор не выразимо на нашем языке»,109 — и первый ввел для его передачи англицизм «юмор»: «Стерн есть диво английских юмористов».110 Также и Сохацкий в своем переводе эстетики Мейнерса фиксирует культурную непереводимость понятия «naif», когда пишет: «Невинность (naif)» с примечанием: «Почти невозможно еще на российском языке в точности перевести того, что называется naif; ибо и самая о нем идея не определена. Есть для этого слова названия: простосердечие, простодушие, невинность, чистосердечная откровенность, чистая натуральность и пр.».111 Проблема перевода этого понятия сохранялась и в следующую эпоху, о чем писал П. А. Вяземский в «Старой записной книжке»: «У нас жалуются и жалуются по справедливости на водворение иностранных слов в русском языке. Но что же делать, когда наш ум, заимствовавший некоторые понятия и оттенки у чужих языков, не находит дома нужных слов для их выражения? Как, например, выразить по-русски понятия, которыя возбуждают в нас слова naif и sérieux, un homme naif, un esprit sérieux? Чистосердечный, просто сердечный, откровенный, все это не выражает значения первого слова; важный, степенный не выражают понятия, свойственного другому; а потому и должны мы поневоле говорить наивный, серьозный. Последнее слово вошло в общее употребление».112 «Наивный» вошло в русский язык только в 1820–1840-х годах;113 «юмор», который пытался ввести Галинковский, — только в 1850-е годы.114
Много несомненно подтверждаемых и культурно значимых точек близости у Галинковского с И. И. Мартыновым (1770–1833), тоже бедным малороссиянином, «извлеченным из неизвестности» благодаря покровителям, трудолюбию и учености.115 Их сближает исходный литературно осмысленный пункт личной социальной бедности. Галинковский еще в паратексте «От сочинителя» к роману «Часы задумчивости» (1799) дал социальный автопортрет автора — мелкого чиновника, пишущего среди шумной и скучной службы, — как мотивировку стиля, отличного от «нежного» стиля «новейших наших сочинителей»: «Если читатели не найдут в сочинении моем той нежности, того выражения, той привлекательности, которыми прославились новейшие наши сочинители, то пускай припишут рассеянности и образу моего состояния, которое слишком удалено от спокойствия кабинетной музы. — Часто в беспрерывном шуме в каком-нибудь уголке, а иногда и на колене, остановя на минуту течение рассеянных мыслей, на особых лоскутках бумаги, писал я каждый час, дав волю чувствам моим без плану и цели».116 Мартынов начинает свою раннюю автобиографическую повесть «Филон» (1796) с главы «Я, и они», противопоставляющей повествователя, бедного выпускника полтавской семинарии, который «лишился отца, быв еще в колыбели, а мать <…> едва могла потом и кровью выплачивать несколько лет моего учения»,117 его богатым, имеющим покровителей и виды на будущее, соученикам; далее бедность Филона часто определяет движение сюжета и рассуждения героя. Если «несчастные» и «бедные» герои как объекты сочувствия постоянно встречаются в раннем русском сентиментализме, то такой же образ автобиографического героя-повествователя и тем более автора представляется исключением и заставляет, уже без идейной нагрузки советского литературоведения, вспомнить о «демократическом сентиментализме».
В 1804 году Мартынов в своем журнале «Северный вестник» поместил критические, но сочувственные заметки В. Г. Анастасевича и А. А. Писарева, защищавшие «Корифей» от издевательской рецензии П. И. Макарова.118 Авторы «Северного вестника» ценили, при всех недостатках исполнения, искреннее желание издателя «Корифея» «быть полезным любителям русской словесности».119 Он «весьма мало успел в своих желаниях»,120 но его труд можно поставить на книжной полке рядом, «конечно, не с Ла Гарпом — но по крайней мере на одной полке с детскою енциклопедиею… с грамматиками, чтоб иногда справиться хоть с номенклатурою».121
Наконец, в 1805 году именно в «Северном вестнике» появилось самое известное критическое высказывание Галинковского — анонимное письмо к издателю журнала о критике и три рецензии.122 Мартынов — несомненно знавший, кто их автор, — снабдил статьи Галинковского такими обширными подстрочными примечаниями, что они приняли форму диалога о критике в журнале, для которого выработка нового критического дискурса, отличного от «партийной» полемики карамзинистов с анти-карамзинистами, была одной из главных задач. Галинковский, видимо, претендовал на то, чтобы сменить отошедшего от журнального дела Писарева в роли главного критика «Северного вестника», собирался «решительно» говорить «острую правду»123 и прежде всего, слишком буквально понимая расхожее тогда выражение «республика словесности», собирался противостоять монополии всех «господствующих» в литературе групп: «На что возвышать безделки и унижать полезные труды? На что так думать, как г. Рихтер, о нашей словесности? (т. е. выделять только сочинения Карамзина и его круга. — М. Б.) — или как думает о ней модный свет? Республика ученых имеет свои законы: она иначе видит, иначе судит, нежели народная толпа».124 В первую очередь, конечно, Галинковского не устраивал гелиоцентричный литературный космос карамзинистов, в котором вокруг «солнца» с Никольской улицы в Москве (т. е. Карамзина) вращаются связанные с ним «планеты»,125 однако он заявлял о своем намерении подвергнуть «ученой» критике и произведения представителей другой литературной «власти» — переводы, связанные с Российской академией (Галинковский, видимо, рассчитывал иметь влияние на широко задуманную переводческую программу Академии, адресовав ей в 1804 году особое письмо, которое, однако, как уже говорилось, не было передано А. С. Шишковым).126 Монополия литературных «чинов» составляет главный предмет негодования Галинковского (он и Вольтера упрекал в том, что у того в суждениях заметен «дух партии» и что «в республике литературы» он «отправлял звание беспрерывного полновластного диктатора — и пал под бременем почестей»127), он пытается создать в отечественной критике диспозицию для «ученого сословия», для критики без чинов, партий и имен: критик рассматривает «книгу, а не писателя. Последний приметен ей только издали, под именем, которое он сам выставил; или никак не приметен, если он себя скрыл. Прочие титла и достоинства остаются в стороне. В учености нет чинов: надобно либо иметь дарования, либо не писать…».128 Галинковский хотел привлечь внимание критики, журналов, читателей к находящимся вне фокуса литературной борьбы за власть ученым сочинениям и сам сделал сравнительный разбор книг по русской истории Г. А. Глинки и А. С. Кайсарова.129 Мартынов в своих примечаниях посмеивается над задиристостью «молодого человека», однако не потому, что разделяет иерархическое представление карамзинистов об устройстве российского Парнаса, где осмелившегося на ревизию их литературной власти «junger Mensch»130 и «безыменного автора»131 следовало подвергать «умышленному оскорблению»132 — в своих основных чертах критическая позиция Галинковского, пусть часто нелепо выраженная, близка позиции «Северного вестника».
Таким образом, круг, к которому Галинковский был близок в основной, связанный с «Корифеем», период своей деятельности, — это не «Дружеское литературное общество» и «Беседа», а Яновский, Сохацкий, Мартынов, журналы «Иппокрена» и «Северный вестник». Основным занятием этого круга была в те годы прежде всего не собственно литература, а издательская деятельность, критика, переводы — составление толковых словарей, номенклатур, компилятивных энциклопедических изданий, переводы ученых трактатов. «Когда-нибудь, может быть, сделают вопрос, почему я больше занимался переводами и составлением словарей, нежели сочинениями, — писал Мартынов в «Записках». — Конечно, что-нибудь и я мог бы написать. Но <…> я никогда не любил своих сочинений, не почитал их полезными столько, сколько переводы известных иностранных писателей…».133 Именно они составляют близкий контекст «Корифея», план которого проникнут пафосом начала александровского царствования. Упражнения в «науках и просвещении», «во всех частях словесности и тем более в красоте слога, витийстве пера» Галинковский объявляет необходимыми не для литературных «безделок», а для деятельности «на сцене гражданского мира».134
Также, особенно в связи с Мартыновым, нужно отметить своеобразное представление этого круга о «красоте слога», альтернативное и карамзинскому, и шишковскому. Мартынов в примечаниях к переведенному им трактату Псевдо-Лонгина «О высоком» противопоставляет «высокий» слог, который, несомненно, предпочитает, «изящному», или «посредственному»,135 и замечает, что «в самом худом сочинении может встречаться самая высокая черта, и напротив, самое красноречивое сочинение может не иметь ни одной высокой черты».136 Сходным примечанием Мартынов предварил перепечатку в «Северном вестнике» (без указания имени автора) главы из «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева: «Читатель найдет в сем сочинении не чистоту русского языка, но чувствительные места».137 Видимо, «нечистота» слога служит знаком подлинной чувствительности, возвышенности чувств.
Галинковский сделал свойственный ему, вероятно, органически, в силу несветскости, раннего усвоения семинарской учености и чиновничьей привычки к приказному языку, стилистический «мовизм» маркером своей литературной позиции: задачу «очистить» русский слог своих переводов в «Корифее» он объявлял одной из последних,138 ученые сочинения, по его мнению, вообще не должно рассматривать с точки зрения слога: «…слог есть последнее дело: мы можем ему научиться, со временем его обработать. Сам Плутарх писал не гладко, однако ж никто не думает о его слоге, читая прекрасные его творения. Несчастлив тот, кто на одном слоге удерживает славу своего пера! — слог есть наружная обмазка (штукатурка) дома, который может быть хорошим и вчерне»;139 «слог <…> должен после всего рассматриваться в сочинениях розыскательных или ученых. <…> Красота слова, искусство оборотов и фигур не столько здесь существенны, как ясность, точность, истина».140 Говоря об «ученом, глубокомысленном творении» Тредиаковского «Три рассуждения о трех главнейших древностях российских…», Галинковский заметил, что «даже самый слог, столь несносный впрочем в его оригинальных пиесах, кажется здесь гораздо легче, развязнее и чище».141 Ученому слогу противно стилистическое изобретательство как шишковского, так и карамзинистского толка, которое Галинковский объединяет общим понятием «неологизма»:142 «…составные слова и высокопарные прилагательные, напр<имер>, небосклонение вместо небо; беснобожие вместо баснословие: черт вместо следов <…>; худо вразумленное вместо понятное или которое худо понимали. Там же — лицеобразованные свойства, вместо представленные в лицах. Это перевод француз<ского> слова personnifié. Кажется, у нас есть славянское слово вочеловечен, но оно также дурно, как и лицеобразован».143 «Настоящий русский» слог ученого сочинения в его понимании должен быть такой, чтобы в нем не было «ни галлицизмов, ни фраз, ни переводов».144
В тогдашней литературной системе, где одним из ключевых признаков приверженности к одному из основных противоборствующих литературных лагерей был слог — как заметил в 1808 году А. Ф. Воейков, архаистические слова «зане», «ради», «словесник» «в русской литературе то же, что орлы, драконы, лилии, изображаемые на знаменах войск: они показывают, к какой стороне принадлежит автор»;145 также и слова «нежный», «чувствительный», «милый», «трогательный» и т. д. служили шибболетами приверженности противоположному лагерю сторонников «нового слога», — «ученый» слог Галинковского, «безвкусно» сочетавший европеизмы нового «языка мысли» с разного рода архаизмами (лексическими, синтаксическими, архаистическим пафосом протеста против отечественной моды на французский язык, призывами внедрять русский язык во все области гражданской жизни146), был чужд обоим. Карамзин в статье «Отчего в России мало авторских талантов» (1802) писал, что те, кто остаются «в ученом состоянии, редко имеют случай узнать свет — без чего трудно писателю образовать вкус свой, как бы он учен ни был. Все французские писатели, служащие образцом тонкости и приятности в слоге, переправляли, так сказать, школьную свою реторику в свете, наблюдая, что ему нравится и почему. <…> Со временем будет, конечно, более хороших авторов в России — тогда, как увидим между светскими людьми более ученых или между учеными — более светских людей».147 В. С. Подшивалов в «Сокращенном курсе российского слога» (1796) также утверждал: «Чтобы писать не грубо, не педантически, то надобно обходиться с людьми просвещенными, и не показывать великого глубокомыслия, которое часто производит шероховатость».148 А. С. Шишков высмеивал в одном ряду беллетристическую моду на «приятность слога (elegance)» и использование в ученых сочинениях и переводах новой европейской терминологии.
Одним из примеров критики ученого сочинения исключительно с точки зрения стиля может служить книга первого русского шеллингианца, теоретика натурфилософского подхода к медицине Д. П. Велланского «Пролюзия к медицине как основательной науке» (СПб., 1805). В этой книге, как говорится в надписи на экземпляре «Пролюзии», подаренном в 1854 году Императорской Публичной библиотеке в Петербурге князем В. Ф. Одоевским (сделанной рукой дарителя), «замечательна борьба автора с русской философской номенклатурой». Велланский и сам сообщал в предуведомлении, что «содержание материи» его предмета «требует особливых выражений <…> для сообразнейшего представления понятий, равно как и пристойности штиля»,149 и оперировал необходимыми для него латинизмами «интеллектуальный», «универсальный», «емпирический», «рациональный», «субъективный», «формальный», «теоретический», «абсолютный», «пассивный» и т. п., с тех пор безусловно вошедшими в русский язык, соединяя их с торжественным архаичным синтаксисом и лексикой авторской речи («пред глазами, далее обыкновенных видящими», «рациональная их часть так безобразная и вредная», «толикого времени», «а кольми паче всяк из таковых»), заставляющими вспомнить о его семинарском прошлом (ср. тяжеловесную ученую шутливость: «простой народ и литеральные скрибенты, не имеющие о натуре никакого понятия»). Этот характерный для интересующего нас круга деятелей переходной эпохи пестрый ученый стиль был, с одной стороны, подвергнут Шишковым критике в одном ряду с карамзинизмом в литературе, который, отступая от «истинных источников» языка, вводит в него «чужеязычные новости»:150 автор в «Пролюзии», «так называемой русской книге», пишет «еллектричество не есть жидкость или материя собственного роду; а феномен динамического процесса тел…» и т. п., так что получается язык, «который не есть ни русский, ни иностранный, и которого ни русский человек, ни иностранец разуметь не могут».151 С другой стороны, анонимный рецензент «Лицея», журнала И. И. Мартынова, раскритиковал предисловие Велланского за то, что оно выдержано в архаичном стиле «витийства», в каком не говорит уже и «самый высокопарный лирический стихотворец».152 Оба критика игнорировали эпистемологическую необходимость введения терминологических научных европеизмов и рассматривали только то, «каковой слог происходит из такового набора иностранных слов».153
Так же был воспринят «Корифей» Галинковского, тем более что он не только был изложен крайне пестро и часто комически неуклюже, но и посвящен словесности и искусствам — предмету, более подходящему для стилистической критики. Несмотря на все предупреждения Галинковского, что «Корифей» — «не классическая книга, расположенная по методу, а одно собрание литературы во всем его разнообразии»,154 что он «делал первые опыты (в материи небывалой еще в русском языке!): представлял одно собрание, а не курс литературы»,155 его, с одной стороны, сравнивали с новым и модным тогда «Лицеем» Лагарпа — а читая его как «подражание лагарповскому „Лицею“», нельзя было не воскликнуть: «…но какое расстояние от образца до копии!»156 С другой стороны, «пестрый» и «безвкусный» стиль Галинковского подвергся критике сторонников и старого, и нового слога, причем Макаров и Шишков выступили в унисон: Макаров утверждал, что в «Корифее» собственно эстетическую «материю» заменяет «множество новых слов, которыми ни один еще русский лексикон не украшен», для чего, придав речи Галинковского вид галиматьи, выписал их подряд из разных частей книги, начав с субстантивов на «-ность» («Начитанность — сердечность — равносторонность (вместо политического равновесия) — чинность — неписьменность (вместо простоумия) — фигурность — изящная обдуманность…»)157 — над ними же, как уже говорилось, посмеялся Шишков, говоря о том, что Галинковский вместо русского слова «словесность» использует «письменность», которое «в российском языке столь же обширный смысл имеет, как полотненость, бумажность, грибовность и проч.».158 Нужно заметить, что в целом критика Шишкова более точно направлена, чем остроумие Макарова, так как сосредоточена на ключевых в «Корифее» понятиях «жени» и «литература». Шишков считает, что Галинковский использует галлицизм «литература» и его этимологическую кальку «письменность» просто ради того, чтобы заменить коренное русское слово «словесность» заимствованным. На самом деле Галинковский дифференцирует их семантически: «Слово литература будет на русском не столько словесность, сколько любословие, наука письмен, или ближе к переводу если позволят назвать, письменность; наука, которая посредством литер (т. е. букв или письмен) изображает заимственные предметы из природы усовершенствованной, вкуса, воображения. Приняв это слово, можно назвать литератора письменным человеком».159 Галинковский тут выступает прежде всего как ученый переводчик, считая, что русское слово «словесность» не в полной мере передает смысл «littérature», которое он понимает в значении «науки», т. е. нормативной эстетики и критики, ср.: «…особенно приписывают ей (литературе. — М. Б.) критику грамматическую и самые сочинения, относящиеся к сему предмету. <…> упражняющихся в оной наиболее называют учеными Litterati, gens des lettres».160
Предпринятый нами опыт перефокусировки исследовательской оптики для описания небольшой фигуры несветского литератора-неудачника, чуждого известным литературным объединениям, почти случайно вынесенного на поверхность литературной жизни в начале александровского царствования и получившего редкую для такого типа фигур возможность пространно высказать себя в «Корифее» и статьях «Северного вестника», позволил увидеть, что взгляд на нее с точки зрения крупных литературных деятелей и победивших направлений ценен для описания последних, современники в основном использовали малозначительного молодого литератора как повод для очередного полемического утверждения своей позиции и упражнения в желчном остроумии, мало интересуясь собственно его взглядами. Их слова весомее в истории литературы, лучше документированы, громче слышны. Однако если задаться целью описания «лично-особенных» взглядов «бездарного педанта» Галинковского и, вероятно, других аналогичных литературных фигур, то такой подход, кажется, им не адекватен. Во всяком случае, чтобы увидеть Галинковского, нужно извлечь его из рамки анти-/карамзинизма — шишковизма и соотнести с иным кругом — выходцев из небогатой малороссийской среды, несветских ученых переводчиков — ученого сословия довоенного александровского царствования.
1 Арзамас и Арзамасские протоколы / Вводная статья, ред. и прим. М. С. Боровковой-Майковой; предисловие Д. Благого. Л., 1933. С. 100. Ср. также, вероятно, притворные воспоминания Жихарева, который сам когда-то был «беседчиком», о том, что он в 1807 году не знал Галинковского, и его небрежную аттестацию как «автора какой-то книги для прекрасного пола под заглавием „Утренник“», в которой лучшими статьями можно почесть не собственно включенные в нее сочинения автора, а «Белые листы для записок на 12 месяцев» (Жихарев С. П. Записки современника / Ред., статьи и комм. Б. М. Эйхенбаума. М.; Л., 1955. С. 348). Эта характеристика, впрочем, отражает низкий литературный статус Галинковского среди современников (ее, повторив Жихарева, использовал Ю. Н. Тынянов в романе «Пушкин» (Л., 1976. С. 150)).
2 Лотман Ю. М. Писатель, критик и переводчик Я. А. Галинковский // XVIII век. М.; Л., 1959. Сб. 4. С. 230–256. Эта статья с сокращениями и без принципиальных изменений послужила основой для статей Лотмана о Галинковском в «Словаре русских писателей XVIII века» (Л., 1988. Вып. 1. С. 192–194) и биографическом словаре «Русские писатели. 1800–1917» (М., 1989. Т. 1. С. 515–516). Значимые, основанные на архивных материалах дополнения к статье Лотмана о Галинковском сделаны в работе С. Д. Дзюбанова «Родственное окружение Е. Я. Бастидон (первой супруги Г. Р. Державина)» (Г. Р. Державин и его время. СПб., 2011. Вып. 7. С. 77–82, 91–96).
3 Лотман Ю. М. Писатель, критик и переводчик Я. А. Галинковский. С. 236–237. Позже В. Э. Вацуро в статье об И. И. Дмитриеве заострил эту интерпретацию статей Галинковского, назвав их «сигналом к открытой полемике» с «карамзинизмом» (Вацуро В. Э. И. И. Дмитриев в литературных полемиках начала XIX века // Вацуро В. Э. Пушкинская пора. СПб., 2000. С. 23 (впервые: XVIII век. Л., 1989. Сб. 16. С. 139–179)), Лотман тогда же утрировал свою позицию, оценив выступление Галинковского как «по значению в истории критики равное статьям Макарова в защиту карамзинистов» (Лотман Ю. М. Галинковский Яков (Иаков) Андреевич // Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 1. С. 194), с чем трудно согласиться, имея в виду ничтожный литературный вес Галинковского. Н. И. Мордовченко в своем фундаментальном обзоре русской критики не обнаружил в выступлении Галинковского сколько-нибудь широкого и принципиального значения и упомянул начавшее критический цикл письмо издателю «Северного вестника» лишь как «запрос со стороны одного из читателей», вызванный, возможно, тем, что «в течение первого года издания „Северного вестника“ отдел рецензий и критики был довольно широко представлен в журнале, но вот на второй год издания рецензии стали появляться значительно реже» (Мордовченко Н. И. Русская критика первой четверти XIX века. М., 1959. С. 70). В. Д. Левин также не увидел в этих анонимных статьях значения, выходящего за рамки позиции «Северного вестника», и предположил, что их автором мог быть сам издатель журнала И. И. Мартынов (Левин В. Д. Очерк стилистики русского литературного языка конца XVIII — начала XIX в. (Лексика). М., 1964. С. 267, прим. 315).
4 Лотман Ю. М. Галинковский Яков (Иаков) Андреевич. С. 193.
5 Лотман Ю. М. Писатель, критик и переводчик Я. А. Галинковский. С. 240.
6 Об этом см. также: Альтшуллер М. Беседа любителей русского слова: У истоков русского славянофильства. 2-е изд., доп. М., 2007. С. 305–307.
7 Лотман Ю. М. Писатель, критик и переводчик Я. А. Галинковский. С. 254.
8 Там же. С. 256.
9 Альтшуллер М. Беседа любителей русского слова. С. 305.
10 Лотман Ю. М. Писатель, критик и переводчик Я. А. Галинковский. С. 232, 241.
11 ИРЛИ. Ф. 309. № 4759; цит. по: Лотман Ю. М. Писатель, критик и переводчик Я. А. Галинковский. С. 233.
12 ИРЛИ. Ф. 309. № 272. Л. 16.
13 Альтшуллер М. Беседа любителей русского слова. С. 305.
14 Лотман Ю. М. Писатель, критик и переводчик Я. А. Галинковский. С. 254.
15 РНБ. Ф. 247 (Г. Р. Державин). Оп. 1. № 5. Л. 231; Лотман Ю. М. Писатель, критик и переводчик Я. А. Галинковский. С. 254.
16 Дзюбанов С. Д. Родственное окружение Е. Я. Бастидон. С. 77.
17 Чтения в Беседе любителей русского слова. 1813. Чтение 11. С. 20–21.
18 Корифей. 1803. Ч. 1. № 6. С. 182 ненум. В. А. Западов в статье «Работа Г. Р. Державина над „Рассуждением о лирической поэзии“» (XVIII век. Л., 1986. Сб. 15. С. 232–233) упоминает Галинковского среди сотрудников Державина по этой работе, однако ссылается только на сообщение в «Записках о словесности» Д. И. Хвостова о чтении Державиным своего «Рассуждения» в «Беседе» в марте 1811 года, после которого был создан «комитет» из А. Ф. Лабзина и Галинковского для исправления и сокращения трактата. Однако в папке «Разные бумаги, относящиеся к „Беседе“» архива Державина (РНБ. Ф. 247. Оп. 1. № 5) первые выписки Галинковского «по разным предметам словесности» датированы еще апрелем 1804 года, также его рукой сделаны многочисленные вставки, библиографические справки, включающие отсылки к «Корифею», и маргиналии к «Рассуждению о лирической поэзии», «Рассуждению об оде» и «Продолжению опыта о лирической поэзии» Державина, составлена «Записка о лучших изданиях Пиндара и Горация». Критическая оценка Д. И. Хвостовым «Рассуждения» Державина: «…слепок несообразный из разных учебных книг, а большею частью из немецких эстетик, <…> перевод из слова в слово аббата Батте (Batteaux), но умноженный или, лучше сказать, разжиженный неосновательными понятиями и ложными заключениями русского сочинителя» (Из архива Хвостова / Публ. А. В. Западова // Литературный архив. Материалы по истории литературы и общественного движения. М.; Л., 1938. С. 370, 375), — видимо, в большой степени на совести Галинковского и разительно напоминает его «Корифей».
19 Помещенные в «Чтениях в Беседе…» за 1813 год две статьи Галинковского и перевод из Вергилия сопровождались особыми пометами, что «при посетителях» они прочитаны не были, в протоколах заседаний «Беседы» выступления Галинковского не зафиксированы (Альтшуллер М. Г. Беседа любителей русского слова. С. 216).
20 [Шишков А. С.]. Рассуждение о старом и новом слоге российского языка. [2-е изд.]. СПб., 1813. С. 296–298. В статьях Лотмана о Галинковском, где акцент сделан на его критике из лагеря карамзинистов, критика Шишкова не упомянута.
21 См.: Галинковский [Я.]. Перевод первой Виргилиевой эклоги древним размером // Чтения в Беседе любителей русского слова. СПб., 1813. Чтение 10. С. 135. Для 1804 года мысль Галинковского о переводе древних авторов белым безрифменным стихом, которую он возводил к «Телемахиде» Тредиаковского, «Мессиаде» Клопштока, античным переводам И. Г. Фосса и белому драматическому стиху Шекспира и Мильтона (Там же. С. 121–126), и сделанные им соответствующие опыты перевода (ср. также переводы безрифменным стихом фрагментов из «Бури» Шекспира (Корифей. 1803. Ч. 1. Кн. 2. С. 103), «Потерянного рая» Мильтона (Там же. 1807. Ч. 2. Кн. 11. С. 55–57, 61–62, 75–76), стилизацию стихов Сафо (Утренник прекрасного пола, содержащий сочинения в стихах и прозе… Сочинение Я. А. Галинковского. СПб., 1807. С. 49–50)) были новаторством, опередившим аналогичные опыты А. Х. Востокова, Н. И. Гнедича, А. Ф. Воейкова (см. об этом статью А. В. Волкова в наст. изд. — ред.). Однако в 1813 году, когда «Письмо» наконец попало в печать, все это уже воспринималось как повторение сказанного гораздо более основательно в «Опыте о русском стихосложении» Востокова. Галинковский одобрительно упоминает труд Востокова (Галинковский [Я.]. Перевод первой Виргилиевой эклоги древним размером. С. 136; впервые «Опыт» опубл.: Санкт-Петербургский вестник. 1812. № 4–6), Востоков же, переиздавая «Опыт» в 1817 году, включил в него резкую критику Галинковского (Востоков А. Х. Опыт о русском стихосложении. СПб., 1817. С. 52–53).
22 Лотман Ю. М. Поэзия 1790–1810-х годов // Поэты 1790–1810 годов / Вступ. статья и сост. Ю. М. Лотмана. Л., 1971. С. 59–60 (Библиотека поэта. Большая сер.). Лотман говорит тут о Н. Н. Сандунове, А. Ф. Мерзлякове, Н. И. Гнедиче, И. А. Крылове, В. Т. Нарежном, М. В. Милонове, В. В. Попугаеве, И. П. Пнине, А. Х. Востокове, И. И. Мартынове, С. С. Боброве.
23 Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1928. Т. 1. С. 358. Галинковский умер от простуды, см. некролог: Кабинет Аспазии. 1815. Кн. 5. С. 107–110; см. также: Дзюбанов С. Д. Родственное окружение Е. Я. Бастидон. С. 82.
24 Галинковский был знаком с Юзефовичем по «Дружескому литературному обществу»; о том, что знакомство было продолжено, свидетельствует последнее выступление Галинковского в печати — анонимный перевод «Песнь дифирамбическая победоносному Александру на вшествие в Париж…» (СПб., 1814), сделанный, как указал переводчик, по просьбе Юзефовича и напечатанный на его средства.
25 С братьями Кайсаровыми Галинковский также был знаком по «Дружескому литературному обществу», а в 1805 году дал анонимный положительный отзыв о немецкой диссертации А. С. Кайсарова «Versuch einer Slavischen Mythologie» (Северный вестник. 1805. Ч. 8. № 11. С. 123–141). Впрочем, к этому времени близкая личная связь, видимо, уже прервалась: Александр Тургенев, сообщая Кайсарову о рецензии, не знал, кто ее автор, и невысоко оценил: «Недавно в „Северном Вестнике“ написал кто-то рецензию на всех Русских Авторов нынешних, где по обыкновению бранит Карамзина и Дмитриева даже <…> одно только, что есть в ней умного и справедливого, это то, что он похвалил твою книжку…» (Архив братьев Тургеневых. М., 1911. Вып. 2. С. 345).
26 Лотман Ю. М. Архаисты-просветители // Лотман Ю. М. Собр. соч. М., 2000. Т. 1. С. 250 (впервые: Тыняновский сборник. Вторые тыняновские чтения. Рига, 1986. С. 192–207). В другой статье Лотман пишет о «культурных кругах, близких Боброву», упоминая Гнедича, Востокова, Мерзлякова и Галинковского (Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры («Происшествие в царстве теней, или Судьбина российского языка» — неизвестное сочинение Семена Боброва) // Успенский Б. А. Избр. труды. М., 1992. Т. 2. С. 493).
27 Там же. С. 345–347.
28 Ср. попытки определения таких сообществ в ХХ веке: Петровская Е. В. Безымянные сообщества. М., 2012; Ямпольский М. Б. Сообщество одиночек: Арендт, Беньямин, Шолем, Кафка // Новое литературное обозрение. 2004. № 3. С. 78–105.
29 Корифей. 1802. Ч. 1. № 1. С. 229.
30 Из служебной записки Галинковского 1808 года (РГИА. Ф. 1162. Оп. 7. № 209. Л. 6–9), цит. по: Дзюбанов С. Д. Родственное окружение Е. Я. Бастидон. С. 91.
31 Кабинет Аспазии. 1815. Кн. 5. С. 107–110.
32 Утренник прекрасного пола. С. 42.
33 См. роспись содержания «Корифея»: Сводный каталог сериальных изданий России (1801–1825). СПб., 2006. Т. 3. Журналы (З–М). С. 131–137.
34 Из почтового ведомства Галинковский в мае 1805 года перешел письмоводителем в канцелярию Государственного совета — вероятно, вслед за своим патроном Трощинским, ставшим главой Совета, и далее сохранял эту должность и жалованье, совмещая ее сначала, с июля 1808 года, когда прекратилось казенное финансирование «Корифея», с должностью уездного смотрителя училищ в Луге, а с 1813 года еще и столоначальника в Провиантском департаменте Военного министерства. По словам его вдовы, просившей в 1823 году о выделении пенсиона, «неусыпные труды», «сопряженные с отправлением в одно и то же время с 1808 двух, с 1813 трех особых должностей при других ученых его занятиях переводами и собственными сочинениями», «преждевременно ослабили его здоровье и ускорили его смерть» (РГИА. Ф. 1162. Оп. 7. № 209. Л. 25; цит. по: Дзюбанов С. Д. Родственное окружение Е. Я. Бастидон. С. 82).
35 К 1801 году Галинковский успел выпустить только чувствительный роман «Часы задумчивости» (1799; см. о нем: Сиповский В. В. Очерки из истории русского романа. СПб., 1910. Т. 1. Вып. 2 (XVIII век). С. 584; Баскина М. Э. «Жалкая дань сентиментализму» Якова Галинковского // Литературный факт. 2023. № 28. С. 113–120) и переводную антологию «Красоты Стерна, или Собрание лучших его патетических повестей и отличнейших замечаний на жизнь для чувствительных сердец» (М., 1801; первоначально публиковалась частями в журнале «Иппокрена, или Утехи любословия». 1800. Ч. 5–7).
36 Цит. по: Дзюбанов С. Д. Родственное окружение Е. Я. Бастидон. С. 94.
37 Корифей. 1802. Ч. 1. № 1. С. 3–16.
38 Там же. С. 3–4.
39 Московский Меркурий. 1803. Ч. 3. № 7.
40 [Анастасевич В. Г.]. [Рец. на «Корифей» в форме письма к издателям] // Северный вестник. 1804. Ч. 2. № 5. С. 178. Ср. также негативные приватные отзывы — Карамзина в письме к М. Н. Муравьеву от 28 сентября 1803 года: «…галиматья, под именем Корифея, печатается на счет казны…» (Сочинения Карамзина. СПб., 1848. Т. 3. С. 681), И. И. Дмитриева в письме к Д. И. Языкову от июля 1805 года о статьях Галинковского в «Северном вестнике»: «…сходится всякая сволочь бранить высших себя и тем отмщать за свое ничтожество» (Дмитриев И. И. Соч. М., 1986. С. 379).
41 Седьмая книга, о поэзии, вся посвящена Гомеру и Вергилию; восьмая, «Полимния», — учебный классицистический курс прозы (грамматики, логики, красноречия и эстетики). Девятую книгу, «Эрата», предполагалось посвятить любовной поэзии и включить в нее «план поэмы: Любовь, или Изыскание истинного блаженства в сем чувствии. Учебная книга для молодых сердец, наполненная полезными уроками, влекущими их к наслаждению невинными пристрастиями, без порока и отвращений. Сочинение неизвестного…» (Корифей. 1802. Ч. 1. № 1. С. 13), однако она оказалась посвящена «археологии», т. е. древнейшим материальным памятникам словесности и художеств. Две последние книги, «Урания», отданы эпической поэзии: Камоэнсу и Торквато Тассо (кн. 10) и Мильтону (кн. 11).
42 Планировавшееся и, как заявляет Галинковский, написанное продолжение «Урании» о «Мессиаде» Клопштока, «Генриаде» Вольтера и других не вышло. Также не были доведены до конца компилятивные «История наук и художеств» и «Опыт словесности». Вовсе не увидели свет тома «Фемида» «об отечественном законоискусстве», «Натура» — «нечто о духовном и телесном мире. Картины природы из лучших авторов — Оссиана, Феокрита, других писателей идиллий и проч.» и «Грации», «мелкие стихотворения лучшего, новейшего вкуса», причем только отечественные, а не переводные (Корифей. 1807. Ч. 2. № 11. С. 6, 11). В 1813 году Галинковский попытался продолжить начатый в последних книжках «Корифея» «Опыт мой о славнейших эпических стихотворцах», как он его именовал, в «Чтениях в Беседе…» и рассмотреть «Лукана, творца Фарсалы, Стация Фиваиды, Аполлония Аргонавтов, поэмы Оссиана, Триссина, Гловера, Овидия, Лукреция, Горация, Попе, Юнга и других героических песнопевцев» (Галинковский [Я.]. Рассмотрение Овидия // Чтения в Беседе любителей русского слова. СПб., 1813. Чтение 11. С. 20), из которых представил только рассмотрение «Метаморфоз».
43 Биржакова Е. Э. Русская лексикография XVIII века. СПб., 2010. С. 31.
44 И Галинковский, и Яновский рассматривают свое малороссийское происхождение как культурный факт: Галинковский в связи с гомеровским эпитетом «бесстыдная сука» замечает, что если выражение это «не по вкусу нашему (ибо новые правила любословов требуют, чтоб стихотворец списывал только одну изящную природу), то, по крайней мере, это натурально; так натурально, что и теперь в Малороссии, где больше царствует еще сельская простота, вы услышите между женщинами низшего звания самые те же эпитеты в побранке» (Корифей. 1804. Ч. 2. Кн. 7. С. 269; особо отметим, что мы нормализуем крайне прихотливую пунктуацию «Корифея»); Яновский часто приводит малороссийские значения слов, например: «Контроверсия. Лат. Спор, состязание <…>. В малороссийских судебных местах так называется судопроизводство…» (Яновский Н. М. Новый словотолкователь. СПб., 1804. Ч. 2. Стб. 382).
45 См.: Лаборатория понятий: перевод и языки политики в России XVIII века / Сост. С. В. Польской, В. С. Ржеуцкий. М., 2022.
46 Северный вестник. 1805. Ч. 6. № 4. С. 12, 14.
47 Разбор этих синонимов в журнале Брусилова был написан Н. И. Гречем, см.: Греч Н. Воспоминания юности // Новогодник. Собрание сочинений, в прозе и стихах, современных русских писателей / Изд. Н. Кукольником. СПб., 1839. С. 231–232.
48 Перевод двух статей из Лагарпа с примечаниями переводчика [А. С. Шишкова]. СПб., 1808. С. VII.
49 Там же. С. 59.
50 Там же.
51 См.: Кочеткова Н. Д. Перевод книги Ж.-Ф. Лагарпа «Ликей, или Круг словесности древней и новой», осуществленный Российской академией // Российская академия (1783–1841). Язык и литература в России на рубеже XVIII–XIX веков. СПб., 2009. С. 137 (Чтения Отдела русской литературы XVIII века; вып. 5). Также и Российская академия ставила целью своей лексикографической работы заменить «в российском языке употребительные» иностранные слова «старинными российскими, или в случае недостатка оных, вновь по правилам языка составленными равносильными словами» (Известие об ученых обществах. Российская академия. Заседание 19 марта <1804 года> // Северный вестник. 1804. Ч. 2. № 4. С. 118).
52 Мирский Д. С. История русской литературы с древнейших времен до 1925 года / Пер. с англ. Р. Зерновой. London, 1992. С. 131.
53 Дашков Д. В. [Рец. на:] Перевод двух статей из Лагарпа с примечаниями переводчика // Арзамас. Сб.: В 2 кн. М., 1994. Кн. 2. Из литературного наследия «Арзамаса» / Под общ. ред. В. Э. Вацуро, А. Л. Осповата. С. 22–23 (впервые: Цветник. 1810. № 11. С. 256–303; № 12. С. 404–467).
54 Корифей. 1803. Ч. 1. № 2. С. 4–5.
55 Там же. С. 238–239. Такой же позиции придерживался анонимный переводчик-составитель печатавшегося в «Северном вестнике» раздела «Синонимы»: «…наш язык обилен и гибок», но при этом «не мешает и из других языков (если не можно приискать собственных) усыновлять такие слова, которые доказывают преимущество знаний иностранцев пред нашими; особливо же нужно сие для слов технических, которыми другие языки наш упредили…» (Северный вестник. 1804. Ч. 1. № 1. С. 33).
56 [Языков Д. И.]. [Рец. на:] [Шишков А. С.]. Рассуждение о старом и новом слоге российского языка // Северный вестник. 1804. Ч. 1. № 1. С. 19.
57 Там же. 1805. Ч. 6. № 4. С. 12.
58 Там же.
59 Яновский Н. М. Новый словотолкователь. СПб., 1804. Ч. 2. Стб. 419. Ср. у Галинковского: «Космополит, человек всяческий, равносторонный, не привязанный ни к одной (партии) стороне» (Корифей. 1802. Ч. 1. № 1. С. 210).
60 Яновский Н. М. Новый словотолкователь. Ч. 1. Стб. 343–344.
61 Северный вестник. 1804. Ч. 1. № 1. С. 34.
62 Там же. С. 31–32, 38. В другом месте к архаичной по форме морфологической кальке «confederation» как «совосстание» и, по аналогии, «ligue» как «споборение» или «соополчение», переводчик «Словаря синонимов» сделал примечание, что эти слова «тяжелы для выговора; хотя не новы, но неупотребительны в чистом русском наречии. Они здесь для того только приняты, чтобы выразить французские слова, и что в необходимом только случае можно будет прибегнуть к ним, кто пожелает» (цит. по: Калайдович П. Ф. Опыт словаря русских синонимов. Т. 1. С. 82).
63 Корифей. 1803. Ч. 1. № 2. С. 20.
64 [Зульцер И. Г.]. Сокращение всех наук и других частей учености, в коем содержание, польза и совершенство каждыя части сокращенно описываются / [Пер. с нем. И. Морозова]. М., 1781. С. 103 (ориг.: Sulzer J. G. Kurzer Begriff aller Wissenschaften und andern Theile der Gelehrsamkeit, worin jeder nach seinem Inhalt, Nuzen und Vollkommenheit beschrieben wird. Leipzig, 1745).
65 «Просодия. <…> Правильное произношение слов по ударению и количеству, словоударение…» (Яновский Н. М. Новый словотолкователь. Ч. 3. Стб. 471).
66 Корифей. 1804. Ч. 2. № 8. С. 238.
67 Там же. 1803. Ч. 1. № 2. С. 241.
68 Само по себе это явление: адмирал Шишков «вопиял против галлицизмов фразами, которые были наполнены ими» (слова В. А. Жуковского цит. по: Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры. С. 377), у карамзинистов легко было найти церковнославянизмы и вообще понятия «галлицизм» и «славянизм» использовались в литературных полемиках не в непосредственно терминологическом, а в полемическом смысле, — подробно рассмотрено в цитированной статье Лотмана и Успенского и их комментарии к сочинению С. С. Боброва 1805 года «Происшествие в царстве теней, или Судьбина российского языка», где часто упоминается и Галинковский.
69 Корифей. 1802. Ч. 1. № 1. С. 69. Ср. у Яновского: «Дикция, лат. Элокуция, сказание…» (Яновский Н. М. Новый словотолкователь. Ч. 1. Стб. 704).
70 Корифей. 1802. Ч. 1. № 1. С. 72. Яновский тут перевода не изобретает, ограничиваясь объяснительным толкованием: «…кои не приемлют другой причины бытия мира и всего в нем случающегося, кроме судьбы» (Яновский Н. М. Новый словотолкователь. Ч. 3. Стб. 953).
71 Корифей. 1802. Ч. 1. № 1. С. 87.
72 Там же. С. 159. Ср. у Яновского: «Энтузиазм, гр. Восторг, восхищение, исступление, вдохновение…» (Яновский Н. М. Новый словотолкователь. Ч. 3. Стб. 1274).
73 Корифей. 1802. Ч. 1. № 1. С. 166. У Яновского: «Патриот, гр. Сын отечества. Отечестволюбец, любитель отечества, рачитель, ревнитель о пользе отечества» (Яновский Н. М. Новый словотолкователь. Ч. 3. Стб. 285).
74 Корифей. 1802. Ч. 1. № 1. С. 166.
75 Там же. С. 182.
76 Там же. С. 208. У Яновского «номенклатура» переведено как «именосказание» (Яновский Н. М. Новый словотолкователь. Ч. 2. Стб. 951).
77 Корифей. 1802. Ч. 1. № 1. С. 188.
78 Там же. С. 165. У Яновского: «Стоик. Твердый, строгий, непреклонный, беспристрастный» (Яновский Н. М. Новый словотолкователь. Ч. 3. Стб. 744).
79 Корифей. 1802. Ч. 1. № 1. С. 171.
80 Там же. С. 168. У Яновского: «Гладиатор, лат. Мечебоец, мечебитец…» (Яновский Н. М. Новый словотолкователь. Ч. 1. Стб. 606).
81 Ср. в «Северном вестнике» в статье «Астрономия»: «Астрономия, или Звездочетство» (1805. Ч. 6. № 4. С. 2); у Яновского: «Астрономия, гр. Звезднонаблюдение, звездословие, звездозаконие…» (Яновский Н. М. Новый словотолкователь. Ч. 1. Стб. 256).
82 У Яновского: «Арифметика, гр. Числословие, числительница…» (Яновский Н. М. Новый словотолкователь. Ч. 1. Стб. 200).
83 Ср. в переводе Зульцера: «Логика или умословие» ([Зульцер И.]. Сокращение всех наук и других частей учености. С. 213; далее переводчик пользуется словом «логика»).
84 Корифей. 1802. Ч. 1. № 1. С. 21–23.
85 Там же. 1803. Ч. 1. № 3. С. 68.
86 Попов М. И. Досуги, или Собрание сочинений и переводов… СПб., 1772. Ч. 1. С. 212.
87 См.: Биржакова Е. Э. Русская лексикография XVIII века. С. 29.
88 Много таких примеров приводит в своей рецензии на «Корифей» В. Г. Анастасевич (Северный вестник. 1804. Ч. 2. № 5. С. 166–167, 176–177).
89 Левин В. Д. Очерк стилистики русского литературного языка… С. 286, прим. 351.
90 См.: Беспрозванный В. Г. Из истории восприятия Карамзина в литературной среде конца XVIII века // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. Тарту, 1998. № 1. С. 37–45. Об английской литературе в более раннем журнале Сохацкого см.: Синицына М. В. Журнал «Приятное и полезное препровождение времени» в контексте 1790-х гг. Дис. … канд. филол. наук. М., 2021.
91 Корифей. 1802. Ч. 1. № 1. С. 5.
92 Как заметил Н. И. Мордовченко, в труде Мейнерса было сообщено новое для русской культуры представление о прекрасном: Мейнерс отвергал старое представление о нем как о подражании только «изящной природе» и утверждал, что предметом искусства и «идеалом» могут быть как прекрасные, так и дурные стороны действительности, что эстетические нормы и критерии относительны (Мордовченко Н. И. Русская критика первой четверти XIX века. С. 107–108). О «тяжбе» с классицизмом Галинковского писал А. Н. Егунов, называя его симптоматичным явлением «на грани двух эпох»: вкус французского классицизма «еще тяготеет над его „литературной энциклопедией“ — с ним он все время считается и в тяжбе с ним дает новые подходы к литературе» (Егунов А. Н. Гомер в русских переводах XVIII–XIX веков. Л., 1964. С. 144).
93 Корифей. 1803. Ч. 1. № 3. С. 19; ср. также: Там же. 1802. Ч. 1. № 2. С. 46–47, 98–106, 176–178; 1803. Ч. 1. № 3. С. 105 и др.
94 Там же. 1802. Ч. 1. № 1. С. 31.
95 [Шишков А. С.]. Рассуждение о старом и новом слоге российского языка. С. 136.
96 Корифей. 1803. Ч. 1. № 6. С. 177.
97 Северный вестник. 1804. Ч. 2. № 5. С. 167.
98 Корифей. 1803. Ч. 1. № 2. С. 12–13.
99 Там же. С. 15.
100 Лотман Ю. М. Писатель, переводчик и критик Я. А. Галинковский. С. 241; Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры. С. 527.
101 Корифей. 1803. Ч. 1. № 2. С. 215.
102 Ликей, или Круг словесности древней и новой. Сочинение И. Ф. Лагарпа / Пер. П. Карабановым. СПб., 1810. Ч. 1. С. I. Ср. в оригинале: «Les modeles en tout genre ont devancé les préceptes: la genie a considéré la nature…» (Laharpe J.-F. Lycée, ou Cours de Littérature Ancienne et Moderne. Paris, 1800. T. I. P. I).
103 «Жени рождает; толпа народная судит…» (Корифей. 1802. Ч. 1. № 1. С. 32) — ср.: «…один (гений. — М. Б.) производит, другой (народ. — М. Б.) судит…» (Ликей, или Круг словесности древней и новой. Ч. 1. С. III) и т. п.
104 Корифей. 1802. Ч. 1. № 1. С. 60.
105 Там же. 1803. Ч. 1. № 2. С. 15. Галинковский также поместил в «Корифее» перевод статьи Зульцера «Genie» из «Allgemeine Theorie der schönen Künste» (1771) (Там же. № 4. С. 58–59).
106 Карамзин писал «жени» в первом издании «Писем русского путешественника» в «Московском журнале» (1791. Ч. 2. Кн. 3. С. 312), но в переизданиях заменил на «гений», см.: Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры. С. 377, 525–528.
107 Ср. о жени/гении: [Баккаревич М. Н.]. Ответ на реценсию // Приятное и полезное препровождение времени. 1795. Ч. 5. С. 167–168; прим. И. И. Мартынова к его переводу Псевдо-Лонгина: О высоком или величественном. Творение Дионисия Лонгина / Пер. с греч. [И. И. Мартынова] с прим. пер. СПб., 1803. С. 64–67; Яновский Н. М. Новый словотолкователь. СПб., 1803. Ч. 1. С. 565–566; Ликей, или Круг словесности древней и новой. Ч. 1. С. I–XLIX, и мн. др.
108 Жан Поль [Рихтер И. П. Ф.]. Приготовительная школа эстетики / Вступ. статья, пер. с нем. и комм. А. Д. Михайлова. М., 1981. С. 149.
109 Красоты Стерна, или Собрание лучших его патетических повестей и отличнейших замечаний на жизнь для чувствительных сердец / Пер. с англ. [Я. А. Галинковского]. М., 1801. С. 14.
110 Там же. С. 1.
111 Главное начертание теории и истории изящных наук… 2-е изд. М., 1826. С. 33. Непонятно, почему Сохацкий оригинальное немецкое «Naiv» приводит на французский манер (французского перевода книги Мейнерса нам обнаружить не удалось).
112 Полн. собр. соч. кн. П. А. Вяземского. СПб., 1883. Т. VIII. С. 38.
113 См.: Виноградов В. В. История слов. С. 777.
114 Об этом свидетельствуют материалы к «Словарю русского языка XVIII в.» в Институте лингвистических исследований РАН.
115 Мартынов И. И. Биография гр. Завадовского. СПб., 1831. С. 53.
116 Часы задумчивости. Соч. Иакова Галинковского. Ч. 1–2. М., 1799. Ч. 1. С. 3–4.
117 Муза. 1796. Кн. 1. С. 74.
118 См.: Московский Меркурий. 1803. Ч. 3. № 7. С. 42–50 (Макаров); Северный вестник. 1804. Ч. 2. № 5. С. 164–178 (Анастасевич); Ч. 3. № 9. С. 208–209 (Писарев). Ср. также положительную рецензию на первую книгу второй части «Корифея», «Каллиопа», Брусилова в его, напомним, во многом подражавшем «Северному вестнику» «Журнале российской словесности» (1805. Ч. 1. № 3. С. 181–183).
119 Северный вестник. 1804. Ч. 3. № 9. С. 208.
120 Там же. С. 209.
121 Там же. Ч. 2. № 5. С. 178.
122 См. о них подробнее: Лотман Ю. М. Писатель, критик и переводчик Я. А. Галинковский. С. 236–239; Вацуро В. Э. И. И. Дмитриев в литературных полемиках начала XIX века. С. 23.
123 [Галинковский Я. А.]. <Рецензия на книги у вас совсем замолкла…> // Северный вестник. 1805. Ч. 6. № 6. С. 294.
124 [Галинковский Я. А.]. [Рец. на:] 1) Древняя русская религия славян, сочинение Григория Глинки, профессора Дерптского университета. В Митаве 1804. 2) Versuch, einer Slavischen Mythologie, in alphabetischer ordnung, entworfen von Andrey von Kayssaroff, Russisch Kayserlichen Stabs-Capitain. Göttingen. Bey J. C. Baier // Северный вестник. 1805. Ч. 7. № 8. С. 166.
125 [Галинковский Я. А.]. <Рецензия на книги у вас совсем замолкла…>. С. 290.
126 В плане Галинковского в порядке очередности предметов для критики сочинения Карамзина и карамзинистов стоят на втором месте — первыми названы труды Российской академии: «Творения Пиндара» (М., 1804. Ч. 1–2) в переводе П. Голенищева-Кутузова «(неизвестно с какого языка), который выдают за классический и который должно поставить в числе самых посредственных» ([Галинковский Я. А.]. <Рецензия на книги у вас совсем замолкла…>. С. 291); перевод А. Ф. Лабзиным «Ключа к таинствам натуры» Эккартсгаузена (1804) — Галинковский предлагал порассуждать о «переводе весьма гладком, и о философии сей книги темной и таинственной» (Там же. С. 291); два перевода «Путешествия Анахарсиса» Ж.-Ж. Бартелеми (Там же. С. 292) П. П. Страхова (1803) и Российской академии под ред. А. А. Нартова (Т. 1–6. 1804–1809) — последний представлял собой лишь выправленный в соответствии с лингвистической программой академии перевод Страхова (см.: Костин А. А. О проекте А. А. Нартова по переводу классических авторов в Российской академии // Российская академия (1783–1841). С. 107–131; Левин В. Д. Очерк стилистики русского литературного языка… С. 189–192); дневник путешествия по России академика И. И. Лепехина ([Галинковский Я. А.]. <Рецензия на книги у вас совсем замолкла…>. С. 292), впервые вышедший в 1770 году и переизданный Академией в 1802 году (ч. 2) — эти записки непременного секретаря Российской академии, активного сотрудника Академического словаря, одного из переводчиков «Всеобщей истории» Бюффона (СПб., 1789–1808), замечательны, помимо прочего, введением в русский язык, в том числе по «Системе природы» Линнея, множества новых слов.
127 Корифей. 1803. Ч. 1. № 6. С. 164, 171.
128 [Галинковский Я. А.]. <Рецензия на книги у вас совсем замолкла…>. С. 286. Когда И. Рихтер сообщил, что издатель «Корифея» — «молодой человек по фамилии Голенковский <так!>, мало известный до сих пор в русских литературных кругах» ([Richter J.]. Notizen über die neueste russische Litteratur // Russische Miszellen / Hrsg. von Johann Richter. 1803. № 4. S. 151–152; Лотман Ю. М. Писатель, переводчик и критик Я. А. Галинковский. С. 236), Галинковский с сильной личной обидой откликнулся именно на раскрытие анонимности, а не на низкую оценку своего труда: Рихтер «напрасно огорчил некоторых писателей, назвав их поименно, в то время, когда они сами не назвали себя пред публикою, и остаются анонимы. Он знает, что за это в другом месте мог бы быть procès verbal. Ни в одной образованной нации не позволено называть сочинителя, который скрыл свое имя. Это личное насилие и оно не годится между людьми, обязанными взаимным уважением» ([Галинковский Я. А.]. [Рец. на:] Russische Miscellen, herausgegeben von Johann Richter. IX. B. Leipzig. 1803–1804. Русская Смесь, Журнал, издаваемой Иоганом Рихтером, 9 тетрадей. В Лейпциге. 1803–1804 // Северный вестник. 1805. Ч. 6. № 6. С. 302; процитированная антикритика была напечатана Галинковским также анонимно).
129 Северный вестник. 1805. Ч. 7. № 8. С. 159–172.
130 Так именовал Галинковского как составителя «Корифея» Рихтер ([Richter J.]. Notizen über die neueste russische Litteratur. S. 152; Лотман Ю. М. Писатель, переводчик и критик Я. А. Галинковский. С. 236).
131 См.: Вацуро В. Э. И. И. Дмитриев в литературных полемиках начала XIX века. С. 23–24.
132 К ряду указанных Лотманом и Вацуро выпадов карамзинистов против Галинковского можно, кажется, добавить помещенное в «Вестнике Европы» в 1805 году ироническое «Начертание уложения для республики литераторов», представленное как перевод с французского, в котором, в частности, содержалось предписание запретить вход в «область республики» молодым людям, а «кто напишет толстую книгу, содержащую в себе выбранные места из других сочинений, того почитать нарушителем общественного покоя и удовольствия. Каждому позволяется такую книгу взвалить на плеча автору, который не имеет права жаловаться за умышленное оскорбление» (Вестник Европы. 1805. Ч. 19. № 4. С. 28), которое, как кажется, метило в Галинковского с его «Корифеем».
133 Мартынов И. И. Записки // Заря. 1871. № 6. С. 98.
134 Корифей. 1802. Ч. 1. № 1. С. 16.
135 О высоком или величественном. Творение Дионисия Лонгина. С. 37–38, 93. Помимо отечественных образцов высокого слога у Ломоносова и Державина, Мартынов также считает образцовыми «Письма из Италии» Дюпати, которые перевел на русский (Путешествие г. дю Пати в Италию в 1785 году / Пер. с фр. И. Мартынова: В 2 ч. СПб., 1800–1801), не объясняя, впрочем, чем именно хорош стиль Дюпати, кроме «бессоюзия».
136 О высоком или величественном. Творение Дионисия Лонгина. С. 40.
137 Северный вестник. 1805. Ч. 5. № 1. С. 61.
138 Корифей. 1803. Ч. 1. № 2. С. 215.
139 [Галинковский Я. А.]. [Рец. на:] Древняя русская религия славян, сочинение Григория Глинки… С. 165–166.
140 [Галинковский Я. А.]. Окончание разбора соч<инения> о религии славян // Северный вестник. 1805. Ч. 8. № 11. С. 139.
141 Корифей. 1802. Ч. 1. № 1. С. 229.
142 Там же. С. 141.
143 Там же. С. 139–141.
144 Там же. С. 224.
145 Воейков [А. Ф.]. Мнение беспристрастного о Способе сочинять книги и судить о них // Вестник Европы. 1808. Ч. 41. № 18. С. 118.
146 Корифей. 1801. Ч. 1. № 1. С. 238–239 и др.
147 Карамзин Н. М. Избр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1964. Т. 2. С. 185; ср.: Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв. 3-е изд. М., 1982. С. 191–192.
148 Подшивалов В. С. Сокращенный курс российского слога. М., 1796. С. 92.
149 Велланский Д. П. Пролюзия к медицине как основательной науке. СПб., 1805, без пагинации.
150 [Шишков А. С.]. Перевод двух статей из Лагарпа с примечаниями переводчика. С. II.
151 Там же. С. 60–61.
152 [Б. п.]. [Рец. на:] Пролюзия к медицине как основательной науке от Данилы Велланского, в СПб. в Мед. типографии. 1805 // Лицей. 1806. Ч. 1. Кн. 1. С. 67.
153 Там же. С. 72.
154 Корифей. 1803. Ч. 1. № 3. С. 3.
155 [Галинковский Я. А.]. К читателям // Там же. 1803. Ч. 1. № 6. С. 182 ненум.
156 [Richter J.]. Notizen über die neueste russische Litteratur. S. 152; Лотман Ю. М. Писатель, критик и переводчик Я. А. Галинковский. С. 236. Мы не приводим здесь доказательств ценности «Корифея», так как она уже достаточно общепризнана: «Корифей» служит одним из основных источников для составления «Словаря русского языка XVIII века»; признана новизна для отечественной культуры многих приведенных Галинковским сведений из иностранных источников и его импортных эстетических воззрений. Так, А. Н. Егунов с симпатией писал о Галинковском — его приоритете в изложении по-русски новейшего европейского представления о «гомеровском вопросе» и в характеристике стиля Гомера, четверть века спустя повторенной Н. И. Гнедичем, он также высоко оценил «переводы-пересказы» Галинковским многих эпизодов гомеровских поэм белыми дактилями, с использованием двусоставных эпитетов, стилистически предвосхитившие опыты Гнедича, и реабилитацию им гекзаметров «Телемахиды» Тредиаковского (Егунов А. Н. Гомер в русских переводах XVIII–XIX веков. С. 141–145). Н. Д. Кочеткова считает, что в антологии «Красоты Стерна» (1801) содержатся «наиболее удачные переводы из Стерна» в ту эпоху (Кочеткова Н. Д. Середина 1780-х годов — 1800: Сентиментализм // История русской переводной художественной литературы. Древняя Русь. XVIII век. СПб., 1995. Т. 1. Проза / Отв. ред. Ю. Д. Левин. С. 278), и указывает, что Галинковский первым использовал по-русски англицизмы «сентиментальный» и «юмор». Приоритет Галинковского в пропаганде в России Шекспира и именно «Бури» отмечен в статье П. Р. Заборова в коллективной монографии «Шекспир и русская культура» (Л., 1965. С. 85–86), как и то, что Галинковский одним из первых стал переводить Шекспира с английского оригинала белым (шестистопным) ямбом. Галинковский также первый предпринял попытку адекватно передать по-русски белый безрифменный стих «Потерянного рая» Мильтона, отказавшись от «закоснелой неволи» рифмы и от ямбов, «сделавшихся почти незначащими от ежедневного их употребления» (см. подробнее: Баскина (Маликова) М. Э. Английская поэзия // История русской переводной художественной литературы, 1800–1825: Очерки / Отв. ред. В. Е. Багно, Е. Е. Дмитриева, М. Ю. Коренева. СПб., 2022. С. 382–386). Также признана роль «Корифея» в отечественном усвоении творчества Вольтера (Заборов П. Р. Вольтер в России конца XVIII — начала XIX в. // От классицизма к романтизму. Из истории международных связей русской литературы / Отв. ред. М. П. Алексеев. Л., 1970. С. 120–121), А. Коцебу (Мельникова С. И. Коцебу в России. СПб., 2005. С. 162, 169–170), польской литературы (Dąbrowska M. Jakowa Galinkowskiego klucz do literatury europejskiej — «Pro et contra» // Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze. 2014. № 24. P. 41–50), и др.
157 Московский Меркурий. 1803. Ч. 3. № 7. С. 42.
158 [Шишков А. С.]. Рассуждение о старом и новом слоге… С. 296–298. Сам Галинковский, характерным для него бесстильным пестрым образом, пользуется в одной фразе всеми синонимами понятия «литература»: «Если бы намерение мое было проходить систематически курс литературы, я бы должен был здесь повторять уроки Мармонтеля, Баттё, Лагарпа; но <…> я буду довольствоваться обработанием обширнее лучших частей словесности <…> и легкими примечаниями на все прочие роды письмен» (Корифей. 1802. Ч. 1. № 1. С. 34–35; курсив мой. — М. Б.).
159 Корифей. 1802. Ч. 1. № 1. С. 27.
160 Там же. Сходным образом «литературу» и «словесность» дифференцирует Яновский: «Литература, от латинского слова Litterae, письмена, буквы, значит письменность, словесность и берется за ту часть учености, которая упражняется в изучении языков, в переводах, в словесном разборе и истолковании писателей и в суждении об оных, относительно выражений слов и наблюдения правил грамматики, поэзии и риторики <…>. Русское название есть более общее и в сем смысле употребляется за неимением другого такого, которое выражало бы точно латинское слово литература, которое однако иногда переводят словесностию. От сего происходит не только смешение в понятиях об учености, но и к самому сему слову некоторое неуважение» (Яновский Н. М. Новый словотолкователь. Ч. 2. Стб. 578). Ср. другое, более близкое к современному, представление о словесности как «общем наименовании сочинений, писанных стихами и прозою» в «Рассуждении о словесности», прочитанном А. А. Писаревым 18 ноября 1805 года в ВОЛНСХ (Лицей. 1806. Ч. 1. Кн. 1. С. 26); к слову «словесность» Писарев делает примечание, нивелирующее дифференциации Галинковского и Яновского: «Словесность, письмена, письменность, литература (literature) имеют одно значение» (Там же).
About the authors
Maria E. Baskina
Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom), Russian Academy of Sciences; National Research University Higher School of Economics
Author for correspondence.
Email: maria.e.malikova@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-3371-1231
Senior Researcher, Associate Professor
Russian Federation, St. Petersburg; St. PetersburgReferences
- Al’tshuller M. Beseda liubitelei russkogo slova: U istokov russkogo slavianofil’stva. 2-e izd., dop. M., 2007.
- Baskina (Malikova) M. E. Angliiskaia poeziia // Istoriia russkoi perevodnoi khudozhestvennoi literatury, 1800–1825: Ocherki / Otv. red. V. E. Bagno, E. E. Dmitrieva, M. Iu. Koreneva. SPb., 2022.
- Baskina M. E. «Zhalkaia dan’ sentimentalizmu» Iakova Galinkovskogo // Literaturnyi fakt. 2023. № 28.
- Besprozvannyi V. G. Iz istorii vospriiatiia Karamzina v literaturnoi srede kontsa XVIII veka // Trudy po russkoi i slavianskoi filologii. Literaturovedenie. Tartu, 1998. [T.] 1.
- Birzhakova E. E. Russkaia leksikografiia XVIII veka. SPb., 2010.
- Dąbrowska M. Jakowa Galinkowskiego klucz do literatury europejskiej — «Pro et contra» // Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze. 2014. № 24.
- Dashkov D. V. [Rets. na:] Perevod dvukh statei iz Lagarpa s primechaniiami perevodchika // Arzamas: Sb. V 2 kn. M., 1994. Kn. 2. Iz literaturnogo naslediia «Arzamasa» / Pod obshch. red. V. E. Vatsuro, A. L. Ospovata.
- Dmitriev I. I. Soch. M., 1986.
- Dziubanov S. D. Rodstvennoe okruzhenie E. Ia. Bastidon (pervoi suprugi G. R. Derzhavina) // G. R. Derzhavin i ego vremia. SPb., 2011. Vyp. 7.
- Egunov A. N. Gomer v russkikh perevodakh XVIII–XIX vekov. L., 1964.
- Iampol’skii M. B. Soobshchestvo odinochek: Arendt, Ben’iamin, Sholem, Kafka // Novoe literaturnoe obozrenie. 2004. № 3.
- Karamzin N. M. Izbr. soch.: V 2 t. M.; L., 1964. T. 2.
- Kochetkova N. D. Perevod knigi Zh.-F. Lagarpa «Likei, ili Krug slovesnosti drevnei i novoi», osushchestvlennyi Rossiiskoi Akademiei // Rossiiskaia akademiia (1783–1841). Iazyk i literatura v Rossii na rubezhe XVIII–XIX vekov. SPb., 2009 (Chteniia Otdela russkoi literatury XVIII veka; vyp. 5).
- Kochetkova N. D. Seredina 1780-kh godov — 1800: Sentimentalizm // Istoriia russkoi perevodnoi khudozhestvennoi literatury. Drevniaia Rus’. XVIII vek. SPb., 1995. T. 1. Proza / Otv. red. Iu. D. Levin.
- Kostin A. A. O proekte A. A. Nartova po perevodu klassicheskikh avtorov v Rossiiskoi Akademii // Rossiiskaia akademiia (1783–1841). Iazyk i literatura v Rossii na rubezhe XVIII–XIX vekov. SPb., 2009 (Chteniia Otdela russkoi literatury XVIII veka; vyp. 5).
- Laboratoriia poniatii: perevod i iazyki politiki v Rossii XVIII veka / Sost. S. V. Pol’skoi, V. S. Rzheutskii. M., 2022.
- Levin V. D. Ocherk stilistiki russkogo literaturnogo iazyka kontsa XVIII — nachala XIX v. (Leksika). M., 1964.
- Lotman Iu. M. Arkhaisty-prosvetiteli // Lotman Iu. M. Sobr. soch. M., 2000. T. 1.
- Lotman Iu. M. Galinkovskii Iakov (Iakov) Andreevich // Russkie pisateli. 1800–1917. M., 1989. T. 1.
- Lotman Iu. M. Galinkovskii Iakov (Iakov) Andreevich // Slovar’ russkikh pisatelei XVIII veka. L., 1988. Vyp. 1.
- Lotman Iu. M. Pisatel’, kritik i perevodchik Ia. A. Galinkovskii // XVIII vek. M.; L., 1959. Sb. 4.
- Lotman Iu. M. Poeziia 1790–1810-kh godov // Poety 1790–1810 godov / Vstup. stat’ia i sost. Iu. M. Lotmana. L., 1971 (Biblioteka poeta. Bol’shaia ser.).
- Lotman Iu. M., Uspenskii B. A. Spory o iazyke v nachale XIX v. kak fakt russkoi kul’tury («Proisshestvie v tsarstve tenei, ili Sud’bina rossiiskogo iazyka» — neizvestnoe sochinenie Semena Bobrova) // Uspenskii B. A. Izbr. trudy. M., 1992. T. 2.
- Mel’nikova S. I. Kotsebu v Rossii. SPb., 2005.
- Mirskii D. S. Istoriia russkoi literatury s drevneishikh vremen do 1925 goda / Per. s angl. R. Zernovoi. London, 1992.
- Mordovchenko N. I. Russkaia kritika pervoi chetverti XIX veka. M., 1959.
- Petrovskaia E. V. Bezymiannye soobshchestva. M., 2012.
- Sinitsyna M. V. Zhurnal «Priiatnoe i poleznoe preprovozhdenie vremeni» v kontekste 1790-kh gg. Dis. … kand. filol. nauk. M., 2021.
- Svodnyi katalog serial’nykh izdanii Rossii (1801–1825). SPb., 2006. T. 3. Zhurnaly (Z–M).
- Vatsuro V. E. I. I. Dmitriev v literaturnykh polemikakh nachala XIX veka // Vatsuro V. E. Pushkinskaia pora. SPb., 2000.
- Vinogradov V. V. Istoriia slov. M., 1999.
- Vinogradov V. V. Ocherki po istorii russkogo literaturnogo iazyka XVII–XIX vv. 3-e izd. M., 1982.
- Zaborov P. R. Ot klassitsizma k romantizmu // Shekspir i russkaia kul’tura. L., 1965.
- Zaborov P. R. Vol’ter v Rossii kontsa XVIII — nachala XIX v. // Ot klassitsizma k romantizmu. Iz istorii mezhdunarodnykh sviazei russkoi literatury / Otv. red. akad. M. P. Alekseev. L., 1970.
- Zapadov V. A. Rabota G. R. Derzhavina nad «Rassuzhdeniem o liricheskoi poezii» // XVIII vek. L., 1986. Sb. 15.
- Zhan Pol’ [Rikhter I. P. F.]. Prigotovitel’naia shkola estetiki / Vstup. stat’ia, per. s nem. i komm. A. D. Mikhailova. M., 1981.
- Zhikharev S. P. Zapiski sovremennika / Red., stat’i i komm. B. M. Eikhenbauma. M.; L., 1955.