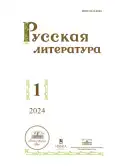On the translation views of Ya. A. Galinkovsky
- Authors: Volkov A.V.1
-
Affiliations:
- Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom), Russian Academy of Sciences
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 47-59
- Section: Литературный контекст переходных эпох. Случай Я. А. Галинковского
- URL: https://journal-vniispk.ru/0131-6095/article/view/257525
- DOI: https://doi.org/10.31860/0131-6095-2024-1-47-59
- ID: 257525
Full Text
Abstract
Using the data from The Coryphaeus magazine and the subsequent publications, the article attempts to offer a comprehensive outlook on the approaches to translation of Ya. A. Galinkovsky, an author of the early 19th century who stayed away from the warring literary groups. Galinkovsky’s opinions on the European translation traditions, on the problem of translation accuracy, on various translation methods and ways of reproducing the formal features of the original are considered.
Keywords
Full Text
В истории литературы Яков Андреевич Галинковский (1777–1815)1 остался прежде всего благодаря единолично издававшемуся им в 1802–1807 годах периодическому изданию «Корифей, или Ключ литературы». По определению Ю. М. Лотмана, «это был разделенный на выпуски курс теории искусства (во многом обнаруживающий зависимость от различных источников) с обширными экскурсами в различные области истории и культуры».2
Значительное внимание в «Корифее» уделено рассмотрению зарубежных литератур, поэтому неизбежным было обращение Галинковского к вопросам перевода. Какого-либо специального раздела, посвященного переводческому искусству, в «Корифее» нет, однако частные высказывания о переводе — как и совсем краткие, так и относительно развернутые — встречаются в издании постоянно; несмотря на свою спорадичность, они складываются в довольно последовательную систему. При характеристике некоторых классических произведений, главным образом относящихся к античной литературе, Галинковский касается их существующих переводов на русский и другие языки. Во многих случаях он приводит отрывки в собственных переводах, а иногда предлагает несколько своих вариантов перевода одного и того же фрагмента. Поскольку Галинковский рассматривает вопросы перевода главным образом на материале стихотворных произведений (эпической поэзии и драматургии), то он не обходит стороной и проблему передачи формальных особенностей оригинала.
К началу XIX века в русской литературе преобладала вполне отчетливая переводческая парадигма, для которой была характерна ориентация не на передачу особенностей оригинала, а на создание переводного текста, который отвечал бы требованиям русского литературного языка. Показательны в этом смысле высказывания о переводе, принадлежащие лидерам двух противоборствующих литературных лагерей того времени — Н. М. Карамзину и А. С. Шишкову. Карамзин в предисловии к своему переводу «Юлия Цезаря» (1786) объявлял, что «старался перевести верно, стараясь притом избежать и противных нашему языку выражений», добавляя: «Мыслей автора моего нигде не переменял я, почитая сие для переводчика непозволенным».3 Рецензируя перевод одной французской комедии, Карамзин усматривал его достоинство в том, что он «чист и гладок», а в качестве недостатка указывал калькирование французского синтаксиса: «Это слишком по-французски».4 Два десятилетия спустя в предуведомлении к «Переводу двух статей из Лагарпа» (1808) Шишков, протестуя против внедрения в русский язык иноязычных заимствований, высказывает, в сущности, аналогичные мысли об особенностях переводческого труда: «Разность между переводчиком и списывальщиком, подобно как между писателем и писарем, состоит в том, что первый рассуждает и старается выразить мысли подлинника, а другому нет никакой нужды размышлять; ему надобно только затвердить слова, и где пришло на память русское, так и поставить русское, а где нескоро оное отыскать можно, там, избавляя себя от скучного умствования, поставить иностранное слово».5 И Карамзин, и Шишков видели задачу переводчика в передаче мыслей переводимого автора в соответствии с нормами русского языка — сколь ни различным было представление обоих литераторов об этих самых нормах. Галинковский, в разные периоды своей литературной деятельности сближавшийся то с карамзинистами, то с «Беседой любителей русского слова», в пору издания «Корифея» занимал обособленное положение, не примыкая ни к одному из литературных лагерей. Поэтому и переводческая позиция Галинковского более явственно проявляется, будучи рассмотрена в контексте господствовавших в ту эпоху представлений.
Распространенной переводческой практикой, унаследованной от XVIII века и продолжавшей существовать в начале нового столетия, было активное использование текстов-посредников, прежде всего французских.6 При этом с текстами-посредниками могли обращаться самым различным образом, что особенно наглядно видно на примере переводов античной литературы: прозаические французские переводы перелагались на русский как прозой (таков перевод «Фарсалии» Лукана, выполненный С. Филатовым с перевода Ж.-Ф. Мармонтеля), так и стихами (переводы П. И. Голенищева-Кутузова из Пиндара, Гесиода, Феокрита). Стихотворные французские переводы из античных поэтов также передавались русскими авторами и в стихотворной форме (таковы переводы П. И. Голенищева-Кутузова из Мосха и Биона или многочисленные переложения второй оды Сафо с переводов Н. Буало и Ж. Делиля), и — хотя и реже — в прозаической (переложение П. Ю. Львовым эпизода из «Георгик» Вергилия с французского перевода Ж. Делиля).
Наконец, необходимо упомянуть, в какой степени русские переводчики конца XVIII — начала XIX века задавались целью передать формальное своеобразие переводимого оригинала (речь идет, разумеется, о переводах стихотворных текстов). В то время преобладали два, казалось бы, полярных подхода к переводу стихов: с одной стороны — прозаический перевод, с другой — перевод с использованием рифмованного стиха и употребительных в русской поэзии того времени стиховых форм. Наибольшее распространение имел александрийский стих, применявшийся не только в переводах французской поэзии и стихотворной драматургии, но и, например, английского «героического куплета» или античного гекзаметра. Впрочем, в последней четверти XVIII века начали предприниматься попытки освободить шестистопный ямб от рифмы — прежде всего с целью более точной передачи содержания подлинника, а не формальных особенностей. Так, Я. Б. Княжнин переводил нерифмованным шестистопным ямбом «Генриаду» Вольтера и трагедии Корнеля, в оригинале написанные александрийским стихом.7 Аналогичный размер время от времени использовался для передачи нерифмованного стиха — античного гекзаметра или шекспировского пятистопного ямба. Впрочем, подобные опыты оставались единичными; в подавляющем большинстве случаев зарубежная поэзия переводилась или рифмованным стихом, или прозой.
Галинковский в «Корифее» затрагивает ряд актуальных для начала XIX века вопросов, связанных с литературным переводом (прежде всего стихотворных произведений): использование текстов-посредников; передача формальных особенностей оригинала; проблемы точности и вольности перевода. Эти вопросы нередко оказываются взаимосвязаны. В первой книжке «Корифея» Галинковский перечисляет основные сочинения, касающиеся вопросов литературного мастерства и красноречия. Характеризуя трактат «О возвышенном» Псевдо-Лонгина (в начале XIX века его автором считался ритор и философ III века Дионисий Кассий Лонгин), Галинковский останавливается на его известном французском переводе, выполненном Н. Буало: «От всех его сочинений остался нам только его превосходный трактат, „О высоком“, который Боало перевел по-французски: то есть, весьма не близко к подлиннику и своим манером с приложением многих оборотов, многих прикрас, не найденных в подлиннике».8
Выражение «перевел по-французски» выступает у Галинковского своего рода термином, значение которого он сразу же раскрывает; перевод «по-французски» подразумевает значительную вольность, сокращения и добавления, адаптацию текста под собственные литературные вкусы переводчика. Критику французских переводов Галинковский продолжает при характеристике трагедий Софокла: «Лучший перевод на французском г-на Рошефорта, который во многих местах сравнивали знатоки; и находят довольно точным. Но надобно читать все француз<ские> переводы с осторожностию; потому что они обыкновенно любят украшать оригиналы, придавать им свои манеры — и следов<ательно> обманывать читателя; так же Патра Брюмоя, Гина, Дюпюи, Дасье и проч».9
Наконец, еще одну характеристику французского метода перевода Галинковский дает при упоминании перевода «Потерянного рая» Дж. Мильтона, выполненного Ж. Делилем: «…привожу его вступление нарочно для того, чтоб показать читателям, как переводят французы. Как мало придерживаются они подлинника, когда могут заменить его своими красотами!»10 Впрочем, по мнению Галинковского, перевод, выполненный подобным методом, может обладать и своими литературными достоинствами, однако его едва ли правомерно было бы называть переводом в строгом смысле слова. Упоминая о Делиле в дальнейшем, Галинковский указывает, что французский поэт «написал поэтический перифраз Георгиков с таким превосходством».11
На французских переводах Галинковский останавливается неслучайно: именно они были основным источником знакомства русской читающей публики с античной литературой, а также с некоторыми европейскими (в частности, английской); однако, в силу обозначенных причин, читать эти переводы, по мнению Галинковского, следует «с осторожностию».
Непосредственно после характеристики перевода Буало Галинковский сообщает следующее: «Г<осподин> Мартынов, упражняющийся в греческой литературе, сличая подлинного Лонгина с подкрашенным французским, решился перевесть его гораздо ближе на русский язык и успел в этом: публика скоро, может быть, увидит сей новый опыт его трудолюбия».12 Иван Иванович Мартынов (1771–1833), впоследствии получивший известность главным образом как переводчик и издатель многотомной серии «Греческие классики» (1823–1829), входил в число немногих литературных знакомств Галинковского. Упоминание в «Корифее» перевода Псевдо-Лонгина отчасти имеет характер анонса и может восприниматься как своего рода дружеская услуга; в свою очередь, Мартынов в издававшемся им журнале «Северный вестник» (1804–1805) поместил несколько сочувственных отзывов о «Корифее», а также ряд критических публикаций самого Галинковского. Однако высказывание о переводе Мартынова может в определенной мере служить для характеристики взглядов Галинковского на перевод. Галинковский упоминает о профессиональных занятиях Мартынова древнегреческой словесностью («упражняющийся в греческой литературе») — соответственно, достоинство перевода состоит в том, что он сделан с оригинала. Как уже указывалось, в начале XIX века имели значительное распространение переводы древнегреческой литературы с французских текстов-посредников. Если рассматривать выполненные подобным методом переводы с позиций Галинковского, то они, подобно своим непосредственным источникам, также «обманывают читателя» и потому не могут считаться удовлетворительными. Следовательно, полноценный перевод может быть выполнен только с оригинала, человеком, знающим язык и не вынужденным прибегать к тексту-посреднику (каковым был «упражняющийся в греческом языке» Мартынов). В одной из статей, помещенных в «Северном вестнике», Галинковский довольно пренебрежительно отзывается о переводе од Пиндара, осуществленном П. И. Голенищевым-Кутузовым с текста-посредника: «Как не уведомить читателей о переводе Пиндара (неизвестно с какого языка), который выдают за классический и который должно поставить в числе самых посредственных?»13
Впрочем, в собственной переводческой практике Галинковский несколько раз прибегает к текстам-посредникам. В «Трактат о красноречии» в составе 8-й книги «Корифея» Галинковский включает ряд выдержек из речей знаменитых античных ораторов, при этом делая следующее примечание: «Сии речи сличены с подлинником — однако ж они не во всех местах переведены до слова — здесь нужны были только примерные извлечения. — Речи Димосфеновы переведены из Лагарпа».14 В сущности, весь «Трактат о красноречии» представляет собой конспект третьего тома «Лицея» Ж.-Ф. Лагарпа, посвященного ораторскому искусству древности; Галинковский довольно близко воспроизводит структуру первоисточника, сохраняя даже названия разделов, хотя иногда и меняя их последовательность. Вероятно, из Лагарпа переведены не только речи Демосфена («О Херсонесе» и «О венке»), но и фрагменты из сочинений римских авторов (Квинтилиана, Цицерона, Плиния Младшего): примечание, что переводы «сличены с подлинником», вполне определенно указывает, что перевод выполнен не с оригинала. Очевидно, обращение к тексту-посреднику Галинковский считает допустимым при определенных условиях, когда необходимо дать читателю лишь общее представление об иностранном сочинении, в данном случае — проиллюстрировать риторические приемы, употреблявшиеся древними ораторами. Таким образом, к фрагментарному переводу, преследующему ознакомительные цели и включенному в состав статьи или обзора, могут быть предъявлены менее строгие требования, нежели к полному переводу, издаваемому с указанием имени автора на титульном листе. К текстам-посредникам Галинковский прибегал не только для перевода выдержек из сочинений античных ораторов: при переводе фрагмента из «Ахилла на Скиросе» П. Метастазио он, по собственному признанию, «пользовался французским переводом кавалера д’Арбле», хотя при этом приводит текст своего перевода параллельно с итальянским оригиналом.15 Впрочем, обтекаемую формулировку Галинковского можно понимать в том смысле, что, переводя с оригинала, он лишь сверялся с французским переводом.
Перевод Мартынова, упомянутый Галинковским, был опубликован в 1803 году; о своих переводческих принципах Мартынов упоминает в «Предуведомлении» довольно сжато: «О переводе скажу, что я старался сделать его сколько можно исправнее».16 Однако в дальнейшем, при издании «Греческих классиков», Мартынов предварит свой труд высказыванием, вполне отчетливо соотносимым с рассуждениями Галинковского: «Украшенные, распространенные или сокращенные переводы хороши для чтения, но не для большего ознакомления с автором читателя, не знающего его языка».17 Выражение «украшенные переводы» перекликается с характеристикой «подкрашенный», которую Галинковский дал переводу Буало. Однако Мартынов признает за «украшенными переводами» чисто литературные достоинства, подобно тому как Галинковский высоко оценивал «поэтический перифраз» «Георгик» Вергилия, принадлежащий Делилю. Высказывания Галинковского и Мартынова разделяют два десятилетия; однако они, по всей вероятности, служат иллюстрацией принципов, характерных для переводческой практики Мартынова начала–середины 1800-х годов: его переводы гимнов Каллимаха, помещенные в 1806 году в издававшемся им журнале «Лицей», не сильно отличаются от переводов в составе «Греческих классиков» (том Каллимаха вышел в 1823 году); изменения же в переводе Псевдо-Лонгина обусловлены, вероятно, тем, что при подготовке переиздания перевода Мартынов пользовался новейшим критическим изданием, тогда как первоначальный вариант был выполнен по изданию Я. Толлия (1694).18
У «Греческих классиков» Мартынова обнаруживается еще одна точка соприкосновения с «Корифеем». Раздел «Отрывки из лучших трагиков» Галинковский открывает фрагментом из «Трахинянок» Софокла в оригинале и собственном переводе, причем тексты представлены довольно необычным образом: греческий текст дан без членения на строки, как прозаический, а под каждым греческим словом помещено соответствующее русское; русский перевод выглядит следующим образом: «О многая — и жестокая и словом злая и руками и хребтами поборавший я. И ниже таковое ни супруга — Зевеса предложила ниже — ужасный Еврисфей мне каково сие — коварная Оинеева девица возложила плечам — моим фурий сотканное облачение, коим погибаю плечам бо прилепясь из — последнее пожрало тело легкого и жилы снедает сопребывая; из же бледную кровь мою испила уже и растлел составом всем, несказанными сими связанный узами».19 Подобные словесные ребусы не могут не оставить читателя в недоумении, однако Галинковский никак не комментирует свое переводческое решение. Далее, в этом же номере «Корифея», в разделе «Рассмотрение Софоклова Эдипа», он аналогичным образом приводит текст вступительного монолога заглавного героя трагедии, с той разницей, что текст оригинала разделен на стихотворные строки.
В 1823 году, издавая «Илиаду» в составе «Греческих классиков», Мартынов привел не только прозаический перевод, помещенный параллельно оригиналу, но и буквальный перевод, расположенный точно таким же образом, как и в вышеупомянутых отрывках из Софокла в «Корифее»: под каждым греческим словом было подписано соответствующее русское. Целью этого, по словам Мартынова, было стремление продемонстрировать невозможность буквального перевода: «Первую песнь с междустрочным переводом издаю, как первый опыт таковых переводов на русском языке; сим желал я как показать разность между свойством греческого и нашего языка, трудность и невозможность удержать в переводе все обороты, частицы и слова подлинника, если не желательно быть странным, так и угодить почтенным особам, настоятельно сего от меня требовавшим».20
Мартынов проявляет забывчивость (возможно, намеренную), заявляя, что его «междустрочный» перевод является первым таковым на русском языке; едва ли можно допустить его незнакомство с аналогичными опытами Галинковского в «Корифее». Однако у Мартынова этот перевод помещен в качестве примера, каким перевод не должен, да и не может быть, по свойствам русского языка. У Галинковского дословный перевод, откровенно нарушающий русскую грамматику (чего стоит постпозитивное расположение предлогов), приведен без каких-либо оговорок, а в случае с «Трахинянками» — как единственный русский вариант перевода. Единственное назначение подобного перевода может состоять в том, чтобы он служил подспорьем при изучении древнегреческого языка, тем более у Галинковского он неотделим от оригинального текста; однако подобные фрагменты уместнее выглядели бы в хрестоматии, в сопровождении грамматического комментария, а не в труде, посвященном истории и теории литературы.
Параллельно с греческим текстом (и, соответственно, подстрочным переводом) монолога из «Царя Эдипа» Галинковский помещает также стихотворное «подражание», выполненное нерифмованным шестистопным ямбом. В сравнении с дословным переводом это подражание выглядит следующим образом:
О чада Кадма — древнего новое племя, Какие убо седалища сии мне возлежите, Молебными ветвями увенчанные, Град же купно — фимиамами исполнен, Купно же пении и — стенании, Что я рассуждая не чрез вестников, чада! Сторонних слышать сам сюда пришел, Всем преславный Эдип именуемый. | О Кадма древнего род новый, знаменитый — Фебанцы! — для чего вы тако возлежите На сих седалищах, с молебными ветвями, В десницах ваших? — град исполнен фимиама, И пений жалобных и жертвенных стенаний. Судя, что знать о том, любезные мне чада! Не чрез сторонню весть довлело — я пришел, Сам ваш Эдип пришел, прославленный повсюду.21 |
В «подражании» Галинковский несколько проясняет текст: вводит обращение «фебанцы», изображает граждан Фив с ветвями «в десницах» (в оригинале причастие ἐξεστεμμένοι, буквально означающее «увенчанные, увитые»; это значение отражено в подстрочном переводе). Несколько усилена экспрессия, введен ряд эпитетов — «знаменитый род», «жалобные пения», «любезные чада»; не находит опоры в оригинале и двукратное повторение «пришел». Тем не менее «подражание» Галинковского представляет собой не вольное переложение, а вполне близкий к подлиннику перевод. Особо следует отметить, что в переводе выдержана не только эквилинеарность, но и стремление воспроизвести движение фразы относительно стиха. Определение этого текста как «подражание» можно связать, очевидно, с авторской скромностью Галинковского, не дерзающего равняться с самим Софоклом; неслучайно «подражанию» он предпосылает следующие слова: «…вот слабый отголосок лиющегося, пламенного языка афинянина, которую <sic!> только в одном подлиннике, и одним приобщенным к таинствам поэзии, понимать и чувствовать можно».22 Помимо монолога Эдипа Галинковский приводит в стихотворном переводе более пространный ответный монолог «первосвященника», который, однако, не сопровождается текстом оригинала. Наконец, в завершении «Рассмотрения Софоклова Эдипа» Галинковский помещает два фрагмента из финала трагедии — монолог вестника, описывающий самоубийство Иокасты и самоослепление Эдипа, и заключительный монолог Эдипа; эти отрывки Галинковский переводит прозой, со следующим предуведомлением: «Но если в стихах ослаблен подлинник, то не ожидайте ничего, кроме самого посредственного, от прозы».23 Таким образом, прозаическому переводу стихов Галинковский отказывает в эстетической ценности, оставляя за ним сугубо информативную функцию; в данном случае перевод призван показать трагизм ситуации, изображенной в «Эдипе», а не передать поэтические достоинства оригинала. Кроме того, вступительный монолог Эдипа Галинковский приводит также во французском прозаическом переводе вышеупомянутого Дюбуа де Рошфора, и слова о «посредственности» прозаического перевода могут быть отнесены также к нему; в этом можно усмотреть очередной выпад Галинковского против французских переводов. По всей видимости, из предложенных на материале «Царя Эдипа» трех методов перевода стихотворного произведения (дословный перевод; стихотворное «подражание»; прозаический перевод) наиболее предпочтительным для Галинковского является второй; даже если в стихотворном подражании «ослаблен подлинник», оно все равно эстетически выше прозаического перевода, от которого нельзя ожидать «ничего, кроме самого посредственного». Стихотворный же перевод может быть если не конгениален подлиннику, то по крайней мере выше посредственности.
Тем же нерифмованным шестистопным ямбом, что и фрагменты из «Царя Эдипа», Галинковский переводит фрагменты еще двух драматических произведений — либретто П. Метастазио «Ахилл на Скиросе» и «Бури» У. Шекспира. В предуведомлении к «Отрывкам из лучших трагиков» Галинковский обосновывает формальное решение, примененное им в переводах: «Я назначил для Мельпомены белые стихи; ими писаны самые мастерские творения; на что же брать на себя иго рифмы в переводе, когда и в оригиналах оно отброшено!»24 Употребляя в переводах белый стих, он стремится передать формальные особенности подлинника, а не облегчить себе задачу, избавившись от необходимости подыскивать рифмы. Если же рифма присутствует в оригинале, Галинковский пытается по мере сил ее сохранить. В рифмованном переводе он приводит фрагмент из «Родогуны» П. Корнеля, хотя рифмы даются ему с очевидным трудом:
Люблю и я! — познай всю тайну чувств моих:
С досадою она из уст исторглась сих;
Но коль исторглася — скидаю мрак наружной.
Нельзя, нельзя мне быть к обеим равнодушной
Средь ненависти к вам, один пленил меня:
Люблю; и самый вздох сей говорит — тебя.25
Нерифмованный шестистопный ямб, используемый Галинковским, представляет собой, в сущности, освобожденный от рифмы александрийский стих, с сохранением обязательной цезуры после третьей стопы. Этим стихом он передает целый ряд стихотворных форм, относящихся к различным системам стихосложения: древнегреческий ямбический триметр, итальянский силлабический одиннадцатисложник, английский пятистопный ямб. В силу этого переводы Галинковского выглядят несколько однообразно; но в эпоху господства в переводной поэзии рифмованных стихов отказ от рифмы уже сам по себе выглядел довольно смелым новаторством. Кроме того, будучи переведенными одним и тем же стихом, Софокл и Шекспир (а также Метастазио) как бы встают в один ряд и оказываются в оппозиции к Корнелю, представителю французского классицизма, к которому Галинковский относится без особого пиетета. Если о Софокле и Шекспире Галинковский говорит исключительно в восторженных выражениях, а фрагмент из Метастазио сопровождает указанием, что «подлинник превосходен», то «Родогуну» он характеризует более сдержанно, ограничиваясь сообщением, что эту трагедию высоко ценил сам автор: «Родогюня трагедия, по суду самого Корнеля, есть одна из лучших театральных произведений».26 Крайне критично отзывается Галинковский о Корнеле в помещенных в том же выпуске «Корифея» примечаниях на трагедию Корнеля «Гораций», причем Корнелю неоднократно противопоставляется Шекспир: «Эти монологи вовсе не шекспировские. В них более скуки, пустословия, нежели поэзии»; «Следуйте за сими примечаниями вдоль по пиэсе. Вы найдете много мест превосходных, — но как далеко вся она от какого-нибудь Гамлета, Царя Лира, Ю. Кесаря».27
Белый стих Галинковский использует не только в переводах драматургии; в 11-й книжке «Корифея», посвященной Мильтону, помещено несколько отрывков из «Потерянного рая», переведенных все тем же нерифмованным шестистопным ямбом.28 Кроме того, через несколько лет после «Корифея» Галинковский поместил в «Чтениях в Беседе любителей русского слова» пространную статью «Рассмотрение Овидия»,29 мыслившуюся им как продолжение «Опыта о славнейших эпических стихотворцах» в составе «Корифея». Фрагменты из сочинений Овидия (главным образом «Метаморфоз») Галинковский цитирует в собственных переводах, среди которых есть как прозаические, так и стихотворные, причем в стихотворных он вновь использует нерифмованный шестистопный ямб. Употребление этого размера для передачи гекзаметра представляется не столь оправданным, как для передачи ямбического триметра или пятистопного ямба шекспировских пьес и мильтоновской поэмы. Однако фрагмент о сотворении мира из «Метаморфоз», переведенный этим размером, отчетливо соотносится с «Потерянным раем»; устранив мифологические образы, присутствующие в латинском оригинале, Галинковский (думается, вполне умышленно) придает стихам Овидия библейское звучание:
Еще златых лучей не проливало Солнце;
Ни новыя луны не округлялся лик;
Ни круговодный шар на воздухе не плавал,
Уравновешенный своею тяготою.
Ни по краям земли не простирал еще
Шумящий Океан своих прозрачных дланей:
Все — море и земля и воздух то же были.30
Справедливости ради отметим, что в 17 ямбических стихах Галинковскому удается довольно точно передать содержание 16 гекзаметрических стихов оригинала. Однако он отмечает, что в переводе «не можно довольно выразить приятности и согласия в стихах подлинника, сколько бы ни близко были переведены иные стихи».31 Другие фрагменты «Метаморфоз» Галинковский приводит в прозаических переводах, в которых, однако, не стремится к буквальному следованию за оригиналом. Поскольку «Рассмотрение Овидия» представляет собой публикацию доклада, предназначенного для прочтения на заседании «Беседы любителей русского слова», то включенные в него цитаты Галинковский стремится сделать более пригодными для восприятия на слух: «Я не хотел для публичного чтения переводить Овидия буквально; поелику для слушателей не столько нужна была классическая верность, сколько приятность повествования — и потому осмелился переводить в роде перифраза, чтоб выяснить более прелесть и простоту слога Овидиева».32 Галинковский выражает весьма знаменательную мысль, что метод перевода может различаться в зависимости от его целей. Таким образом, представляется невозможным создание одного, универсального перевода; напротив, желательным становится сосуществование нескольких переводов одного текста, имеющих различное предназначение.
Вопросы, связанные с переводом, затрагиваются в седьмой книге «Корифея», посвященной Гомеру и Вергилию. Основное внимание Галинковский уделяет «Энеиде» Вергилия; если в случае с Гомером Галинковский ограничивается общими сведениями об авторе (уделяя внимание и «гомеровскому вопросу») и кратким пересказом «Илиады» и «Одиссеи», то содержание «Энеиды» излагается подробно, по книгам. При изложении поэм Гомера и Вергилия Галинковский приводит некоторые фрагменты в собственных прозаических переводах-пересказах, которым он, видимо, придавал сугубо ознакомительное значение; однако А. Н. Егунов оценивает их как «небезынтересные стилистически».33 В примечаниях же Галинковский останавливается на краткой характеристике существующих переводов поэм Гомера и Вергилия на различные языки и рассуждает о качествах, необходимых переводчику поэзии. Он придает большое значение способности переводчика к передаче «духа» оригинала и наличию у него поэтического дарования; при этом если переводчику удается передать «дух» подлинника, то искажения и добавления, допущенные в переводе, заслуживают снисхождения. Поэтому он высоко оценивает английский перевод Гомера, принадлежащий А. Поупу: «Английский стихотворец украсил Омира; вычистил его во многих местах и тем навлек нарекание многих археологов, кои любят видеть его точно таким, как он есть. <…> Но Попе умел владеть духом Омира, а этого уже и много». Еще более высокой оценки удостоен русский перевод «Илиады» Е. И. Кострова: «Костров, который прославил себя переводом Оссиана, переложил в стихи первые шесть песней Илиады, почти ближе к подлиннику, нежели Попе. <…> У нас на русском нет ничего переведенного с большей силою и важностью языка, как Илиада».34
Мысль о необходимости поэтического дарования для переводчика поэзии Галинковский высказывает и при характеристике русских переводов «Энеиды». О переводе В. П. Петрова (1770; полностью — 1781–1786) он пишет следующее: «Перевод Петрова есть один из лучших на русском языке; в нем везде виден стихотворец по крайней мере, ежели не оригинал. Не должно его, однако ж, почитать таким, который бы мог заменить недостаток превосходнейшего».35 Тем не менее Галинковский, видимо, считает перевод Петрова достаточно близким к оригиналу, поскольку цитирует обширные фрагменты из него при изложении содержания «Энеиды». Другой же перевод поэмы Вергилия, выполненный В. Д. Санковским (первые три книги; 1769–1775), Галинковский оценивает ниже, поскольку он обладает меньшими литературными достоинствами: «…он близок к латинскому, только не стихотворец его переводил».36 Среди всех существующих переводов «Энеиды» Галинковский высоко оценивает немецкий перевод И. Г. Фосса, выражая пожелание, чтобы подобный перевод появился и на русском языке, чему, по его мнению, должны посодействовать власти предержащие: «Такой богатый перевод должен, да и может быть и у нас — если возьмут надежнейшие меры о благопризрении наших писателей».37 Аналогичную мысль Галинковский высказал ранее, сетуя на отсутствие полного русского перевода «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха: «Этот труд заслуживает давно внимание нашей словесности; и сколько людей, знающих греческий язык, ожидают только пособий от правительства? Нам надобны деньги, везде одни деньги!»38
Рассматривая в «Корифее» поэмы Гомера и Вергилия, Галинковский не затрагивает вопрос о передаче античного гекзаметра средствами русского стихосложения. Однако характерно, что наиболее высокой оценки со стороны Галинковского удостаивается немецкий гекзаметрический перевод «Энеиды», осуществленный Фоссом; при этом, впрочем, польский перевод «Илиады» Ф. К. Дмоховского (1800), выполненный рифмованным силлабическим тринадцатисложником, он также признает «довольно удачным» и отмечает, что «пора бы и нам иметь такой же».39 Кроме того, небольшой фрагмент из «Энеиды» (VIII, 452–453; описание кующих циклопов) Галинковский приводит в собственном гекзаметрическом переводе:
Многою силою медленно млаты к верху возносят
И ударяют мерно по меди презвонкой.40
Однако именно с разработкой русского гекзаметра связана наиболее крупная переводческая работа Галинковского — перевод первой эклоги Вергилия, выполненный, по словам самого Галинковского, не позднее 1804 года, но опубликованный только в 1813 году, когда на страницах периодической печати началась бурная дискуссия о русском гекзаметре.41 Вопроса о русском гекзаметре Галинковский коснулся в «Корифее» в связи с литературной деятельностью В. К. Тредиаковского, полагая, что предпринятая в «Тилемахиде» попытка передачи гекзаметра средствами русского стиха должна получить продолжение, которое увенчается успехом: «…родятся некогда счастливейшие дарования, которые отважатся по проложенной им дороге возвыситься до красот сказания (дикции) Гомерова, ввести величественное течение героического древнего стиха, так свойственного природному нашему стихотворству».42 В письме, предпосланном публикации перевода эклоги Вергилия, Галинковский высказывается аналогичным образом: «…мысль г-на Тредьяковского о введении у нас древнего размера не переставала быть великою, прекрасною и достойною внимания наших стихотворцев».43
Сам Галинковский в гекзаметре стремится к употреблению чистого дактиля и крайне редко заменяет дактилические стопы хореическими. Поэтому для соблюдения размера ему постоянно приходится вставлять односложные слова, переносить ударения на предлог («Для́ того пре́жде на во́здухе ста́нут оле́ни пасти́ся»), лишать ударения некоторые слова («Я́ никогда́ не прине́с домой го́рсти тяже́лыя ме́ди»), из-за чего стих становится напряженным и неестественным; стремление же по возможности соблюдать чистый дактиль придает стиху монотонность. Немногочисленные попытки внести ритмическое разнообразие также не всегда оказываются удачными. На это указывал А. Х. Востоков: «…г-н Галинковский хуже всех предшественников своих знал строение экзаметра, ибо полагал, что стих сей (в первых пяти стопах) должен вообще иметь одни дактили, и позволил себе как уклонение от правила только местах в четырех хореи вместо дактилей; но зато в двух стихах простер вольность сию еще далее, отсекши у хореев по одному слогу в средине стиха после цезуры:
Варвар пожнет их себе? Вот до чего нас раздоры
Бедных граждан довели? Вот для кого мы пахали».44
Галинковский заявляет, что старался в переводе избегать как буквализма, так и чрезмерной вольности: «Приняв за правило, по особому расчету, не переводить буквально, как Фосс, дабы из чрезвычайной вольности не вдаться в чрезвычайное рабство, я удерживал средину между близостию подлинника, свойством языка и нашими нравами. Оттого некоторые слова я прибавил, иные заменил иными; но только слова. <…> Я полагаю, что непременно должно близко переводить древних поэтов; но между тем и владеть собою».45
В примечаниях к переводу, составленных для публикации 1813 года, Галинковский делает критический выпад в сторону уже существующих русских переводов первой эклоги, выполненных александрийским стихом: «Знатоки могут сличить перевод сей эклоги с теми, кои изданы уже на русском, и увидят, что по самому составу стихов этот подходит ближе к подлиннику».46 Очевидно, Галинковский имеет в виду переводы Д. А. Облеухова47 и А. Ф. Мерзлякова,48 напечатанные уже после того, как Галинковский выполнил свой гекзаметрический перевод.49 Перевод Галинковского действительно выигрывает в точности по сравнению с двумя названными переводами. Например, Вергилий говорит, что Рим возвышается над другими городами, как кипарис над калиной («quantum lenta solent inter viburna cupressi»). Мерзляков, сохранив «благородный» кипарис, устраняет из перевода калину, которую, очевидно, считает недостаточно «поэтической»:
Нет! — Рим среди градов так высится главой,
Как гордый кипарис над низкою травой!50
Аналогичным образом поступает и Д. А. Облеухов:
Но Рим возвысился над всеми городами,
Как древний кипарис над мелкими древами.51
Галинковский сохраняет это сравнение, хотя его гекзаметры звучат более неуклюже, чем александрийские стихи Мерзлякова и Облеухова:
Рим знаменитый, вознесся главою над всеми градами
Так, как прямый кипарис над калиной повислою долу.52
Перевод первой эклоги Вергилия оказался единственной существенной попыткой разработки русского гекзаметра, предпринятой Галинковским. Возможно, он сам счел эту попытку недостаточно удачной, поскольку, как уже отмечалось, в «Рассмотрении Овидия» выдержки из сочинений этого поэта приведены в переводе, выполненном нерифмованным шестистопным ямбом, или в прозаических переводах-перифразах.
Мысли о переводе, высказываемые Галинковским в его различных публикациях, отличаются некоторой эклектичностью, однако для своего времени их нельзя не признать весьма ценными. Он, пусть и неявно, выступает против использования французских текстов-посредников, хотя допускает их использование в переводах, преследующих сугубо информативную цель. Также он полагает, что метод перевода может различаться в зависимости от его функции, предназначен ли перевод для чтения или для восприятия на слух. Заявляя о необходимости поэтического дарования для переводчика поэзии, Галинковский не отказывает в праве на существование и прозаическим переводам и перифразам, выполняющим ознакомительную задачу. Особенно важными следует признать эксперименты Галинковского по внедрению в переводы нерифмованного стиха (ямба и гекзаметра). И высказывания Галинковского о переводе, и его, пусть даже скромная, переводческая практика составляют неотъемлемую часть переводческих поисков, которые велись в русской литературе начала XIX века и вскоре привели к значительным достижениям на поприще литературного перевода.
1 См. о нем: Лотман Ю. М. Галинковский Яков Андреевич // Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. М., 1989. Т. 1. А–Г. С. 515–516.
2 Лотман Ю. М. Писатель, критик и переводчик Я. А. Галинковский // XVIII век. М.; Л., 1959. Сб. 4. С. 235.
3 Карамзин Н. М. Избр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1964. Т. 2. С. 81.
4 Московский журнал. 1791. Ч. 1. С. 232.
5 Цит. по: Сопиков В. С. Опыт российской библиографии. СПб., 1814. Ч. 2. С. 301.
6 См.: Заборов П. Р. Переводы-посредники в истории русской литературы // Res traductorica: перевод и сравнительное изучение литератур: К восьмидесятилетию Ю. Д. Левина. СПб., 2000. С. 38–49.
7 См.: Кукушкина Е. Д. Пьер Корнель в России // XVIII век. СПб., 2013. Сб. 27. Пути развития русской литературы XVIII века. С. 374–375.
8 Корифей. СПб., 1802. Ч. 1. Кн. 1. С. 41.
9 Там же. Кн. 2. С. 38. Упомянуты французские литераторы: Гийом Дюбуа де Рошфор (1731–1788), автор стихотворных переводов «Илиады» и «Одиссеи», а также прозаического перевода трагедий Софокла; иезуит («патер») Пьер Брюмуа (1688–1742), составитель и комментатор многотомного «Греческого театра» (Le Théâtre des Grecs; первое издание — 1730, второе издание — 1747); ученый-эллинист Пьер-Луи-Клод Жен (1726–1807), переводивший прозой Гомера и Гесиода; Луи Дюпюи (1709–1795), переводивший для «Греческого театра» трагедии Софокла; знаменитые филологи-классики Андре Дасье (1651–1722) и его жена Анна (1654–1720).
10 Корифей. 1807. Ч. 2. Кн. 11. С. 218.
11 Там же. 1804. Ч. 2. Кн. 7. С. 295. Курсив мой. — А. В.
12 Там же. 1802. Ч. 1. Кн. 1. С. 41.
13 Северный вестник. 1805. Ч. 6. № 6. С. 291–292. Двухтомные «Творения Пиндара, переведенные Павлом Голенищевым-Кутузовым» были выпущены в 1803–1804 годах, без указания, с какого языка выполнен перевод, что, очевидно, и послужило причиной язвительного выпада Галинковского («неизвестно с какого языка»). Основой для перевода Голенищева-Кутузова послужил французский прозаический перевод П.-Л.-К. Жена (см.: Волков А. В. П. И. Голенищев-Кутузов — переводчик древнегреческой поэзии // Из истории русской переводной художественной литературы первой четверти XIX века: Сб. статей и материалов. СПб., 2017. С. 130–131). Любопытно, что в 1807 году, выпуская свой перевод поэм Гесиода, Голенищев-Кутузов сообщал в «Предуведомлении»: «В заглавии оного не сказано, с какого языка я сей перевод сделал; сего я точно и сказать не могу, поелику я в труде моем кроме англинского, французского и немецкого переводов вспомоществуем был советами человека, хорошо знающего по-гречески и указывавшего мне, в котором из вышесказанных переводов какое место ближе к греческому подлиннику; следовательно, я переводил с трех разных языков» (Творения Гезиода, переведенные Павлом Голенищевым-Кутузовым. М., 1807. С. V). Эти слова, по всей видимости, следует воспринимать как реакцию (отчасти, возможно, ироничную) на критическое высказывание Галинковского.
14 Корифей. 1804. Ч. 2. Кн. 8. С. 159.
15 Там же. 1803. Ч. 1. Кн. 2. С. 79–97. Возможно, имеется в виду Александр Жан-Батист Пиошар д’Арбле (1748–1818), французский генерал, в революционные годы эмигрировавший в Англию; муж писательницы Фрэнсис Берни (1752–1840). Отец последней, музыкальный критик Чарльз Берни (1726–1814) был автором биографии Метастазио. Д’Арбле принадлежит ряд литературных опытов, поэтому он может быть вполне вероятной кандидатурой на авторство перевода из Метастазио. Однако о публикации принадлежащего ему перевода соответствующего отрывка на данный момент неизвестно. За указание приношу благодарность А. О. Демину.
16 [Псевдо-Лонгин]. О высоком или величественном. Творение Дионисия Лонгина. СПб., 1803. С. IV.
17 Греческие классики, переведенные Иваном Мартыновым. СПб., 1823. Ч. 1. Басни Езоповы. С. III–IV.
18 См.: Колбасин Е. И. Литературные деятели прежнего времени. СПб., 1859. С. 17–18.
19 Корифей. 1803. Ч. 1. Кн. 2. С. 78. Сохранена пунктуация первоисточника.
20 Греческие классики, переведенные с греческого языка Иваном Мартыновым. СПб., 1823. Ч. 7. Кн. 10. Омирова Илиада. Ч. 1. С. XXII.
21 Корифей. 1803. Ч. 1. Кн. 2. С. 124–125.
22 Там же. С. 123.
23 Там же. С. 129.
24 Там же. С. 76.
25 Там же. С. 111.
26 Там же. С. 106.
27 Там же. С. 140.
28 См.: Маликова (Баскина) М. Э. Английская литература в русских переводах. Поэзия // История русской переводной художественной литературы 1800–1825 гг.: очерки. СПб., 2022. С. 382–386.
29 См.: Маликова (Баскина) М. Э. Английская литература в русских переводах. Поэзия // История русской переводной художественной литературы 1800–1825 гг.: очерки. СПб., 2022. С. 382–386.
30 Там же. С. 27. Упомянутые в подлиннике Титан, Феба, Амфитрита заменены соответственно на солнце, луну, океан.
31 Там же. С. 28.
32 Там же. С. 40–41.
33 Егунов А. Н. Гомер в русских переводах XVIII–XIX веков. М.; Л., 1964. С. 158.
34 Корифей. 1804. Ч. 2. Кн. 7. С. 275–276.
35 Там же. С. 287.
36 Там же. С. 286.
37 Там же. С. 288.
38 Там же. 1802. Ч. 1. Кн. 1. С. 59.
39 Там же. 1804. Ч. 2. Кн. 7. С. 276.
40 Там же. С. 292.
41 ЧБЛРС. 1813. Ч. 10. С. 119–138. См.: Егунов А. Н. Гомер в русских переводах XVIII–XIX веков. С. 174–188.
42 Корифей. 1802. Ч. 1. Кн. 1. С. 69.
43 ЧБЛРС. 1813. Ч. 10. С. 121.
44 Востоков А. Х. Опыт о русском стихосложении. СПб., 1817. С. 52–53.
45 ЧБЛРС. 1813. Ч. 10. С. 137.
46 Там же. С. 135.
47 Друг просвещения. 1805. Ч. 3. № 8. С. 105–110.
48 Эклоги П. Виргилия Марона, переведенные А. Мерзляковым. М., 1807. С. 1–6.
49 В 1777 году, в год рождения Галинковского, был опубликован гекзаметрический эквилинеарный («из строки в строку») перевод первой эклоги, выполненный В. Г. Рубаном (П. Виргилия Марона Георгик, или О земледелии четыре книги. С приобщением перевода I эклоги Виргилиевой, называемой Титир. СПб., 1777. С. 101–103). Неизвестно, был ли знаком с этим переводом Галинковский; возможно, он проигнорировал его намеренно, желая утвердить за собой первенство в возрождении русского гекзаметра.
50 Эклоги П. Виргилия Марона… С. 2.
51 Друг просвещения. 1805. Ч. 3. № 8. С. 107.
52 ЧБЛРС. 1813. Ч. 10. С. 130.
About the authors
Aleksandr V. Volkov
Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom), Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: senderwolf@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-6193-7804
Junior Researcher
Russian Federation, St. PetersburgReferences
- Egunov A. N. Gomer v russkikh perevodakh XVIII–XIX vekov. M.; L., 1964.
- Karamzin N. M. Izbr. soch.: V 2 t. M.; L. 1964. T. 2.
- Kukushkina E. D. P’er Kornel’ v Rossii // XVIII vek. SPb., 2013. Sb. 27. Puti razvitiia russkoi literatury XVIII veka.
- Lotman Iu. M. Galinkovskii Iakov Andreevich // Russkie pisateli. 1800–1917: Biograficheskii slovar’. M., 1989. T. 1. A–G.
- Lotman Iu. M. Pisatel’, kritik i perevodchik Ia. A. Galinkovskii // XVIII vek. M.; L., 1959. Sb. 4.
- Malikova (Baskina) M. E. Angliiskaia literatura v russkikh perevodakh. Poeziia // Istoriia russkoi perevodnoi khudozhestvennoi literatury 1800–1825 gg.: Ocherki. SPb., 2022.
- Volkov A. V. P. I. Golenishchev-Kutuzov — perevodchik drevnegrecheskoi poezii // Iz istorii russkoi perevodnoi khudozhestvennoi literatury pervoi chetverti XIX veka: Sb. statei i materialov. SPb., 2017.
- Zaborov P. R. Perevody-posredniki v istorii russkoi literatury // Res traductorica: perevod i sravnitel’noe izuchenie literatur. SPb., 2000.