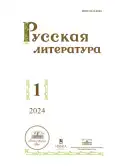I. S. Aksakov and M. F. De-Poulet in a dialogue about Russian literature
- Authors: Fetisenko O.L.1
-
Affiliations:
- Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom), Russian Academy of Sciences
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 75-89
- Section: К 200-летию со дня рождения И. С. Аксакова
- URL: https://journal-vniispk.ru/0131-6095/article/view/257528
- DOI: https://doi.org/10.31860/0131-6095-2024-1-75-89
- ID: 257528
Full Text
Abstract
The source basis for this article is the unpublished correspondence between I. S. Aksakov and M. F. De-Poulet, which is especially interesting because it offers a profound insight into a Slavophile’s views on Russian literature. The Appendix to the article contains a letter from Aksakov with detailed reminis reminiscences on A. V. Koltsov, to whom his interlocutor had dedicated the book.
Full Text
В августе 1858 года И. С. Аксаков стал редактором славянофильского журнала «Русская беседа».1 При нем значительно обновился круг авторов этого издания. Так, именно Аксаков привлек к сотрудничеству Кохановскую (Н. С. Соханскую), завязались отношения и с писателями, критиками и публицистами не славянофильского лагеря. Одним из них оказался старший Аксакова на год воронежец2 Михаил Федорович Де-Пуле (1822–1885), выпускник словесного отделения философского факультета Харьковского университета (1846), преподаватель русского языка и истории в Михайловском кадетском корпусе (с 1848), участник кружка, ставившего целью пробуждение провинции к «органической жизни».3 До знакомства с Аксаковым он печатался в «Воронежских губернских ведомостях», «Атенее» и «Московских ведомостях», а впоследствии в «Русском слове» (с № 10 за 1859 год и до изменения в составе редакции), «Русской речи» графини Е. В. Салиас де Турнемир (1861), бартеневском «Русском архиве» (1863), «Санкт-Петербургских ведомостях» (1864, 1868).4
Этот «эстет, делающий уступки времени» (так позднее охарактеризовал его Е. М. Гаршин5), прислал в славянофильский журнал критический отзыв о романе А. Ф. Писемского «Тысяча душ». Аксаков, о резко негативном отношении которого к этому произведению и к его главному герою Калиновичу можно судить хотя бы по письму к Соханской,6 принял статью Де-Пуле с радостью как «прекрасную и смелую»,7 восстающую против господствующих мнений петербургской критики, поместил ее во второй книге «Русской беседы»,8 сделав некоторые поправки в тексте и снабдив публикацию «Примечанием от редакции»,9 о чем и сообщил автору 21 марта 1859 года. Как выясняется из этого письма, оно было не первым, ему предшествовало посланное «в начале лета прошлого года» (Л. 2–2 об.), по-видимому, не дошедшее до адресата. Теперь же, судя по концовке послания, редактор отвечал на обращение Де-Пуле, вероятно осведомлявшегося о судьбе статьи (она датирована 8 февраля 1859 года), а заодно и о состоянии здоровья С. Т. Аксакова. Младший Аксаков, как видно по его письму, был крайне заинтересован приобретением нового соратника, призывал его не верить «ретроградной» репутации «Беседы» (в качестве обратного примера, не называя имени, он указывал на уже изданные и готовящиеся к печати статьи Н. П. Гилярова-Платонова10) и заверял, что будет ждать ответа «с нетерпением» (л. 2 об.).
После этого эпизода между москвичом и провинциалом установилась переписка, длившаяся с большими перерывами11 26 лет, до ухода из жизни одного из собеседников (Де-Пуле скончался 27 августа 1885 года, Аксаков пережил его лишь на несколько месяцев). Сохранилось 34 письма Аксакова12 и, к сожалению, только четыре ответных.13 Последняя аксаковская эпистола послана перед отъездом в Ялту 28 февраля 1885 года.14 Испытав «отлучение» от круга «Русской беседы», о котором будет сказано далее, Де-Пуле поместил 20 статей и корреспонденций «Из Воронежа»15 в издаваемой Аксаковым газете «День».16 А весной 1864-го, после отстранения от редактирования неофициальной части «Воронежских губернских ведомостей» и упразднения в кадетском корпусе в связи с преобразованием в военную гимназию должности помощника инспектора, которую он занимал с 1862 года, именно к издателю «Дня» обратился за помощью в приискании нового места службы. Аксаков охотно откликнулся на эту просьбу и предложил несколько вариантов: от редактирования «Дня» до учительских, инспекторских и даже директорских должностей в гимназиях Северо-Западного края, где начиналась «русификация». В отличие от бескомпромиссно настроенных В. А. Елагина и Ф. В. Чижова, осуждавших друзей-славянофилов, поступающих на службу в этот край и в называвшиеся тогда «Привислинскими» губернии,17 Аксаков, напротив, приветствовал, что «трудный вопрос» исторического дела примирения будет сдан «на руки единственной нашей общественной силе, единственно настоящей интеллигенции русской — людям нашего кружка и нашим приятелям»,18 почему он и не отвергал просьбы приискать желающих служить в польско- литовских землях, которую ему адресовал попечитель Виленского учебного округа И. П. Корнилов. Его ригоризм, вероятно, распространялся только на людей, имевших непосредственное отношение к славянофильскому кругу, и не касался прочих. В итоге в конце 1865 года Де-Пуле переехал в Вильно, где, хотя и предпочел бы, судя по его словам, ограничиться только работой в газете,19 снова начал совмещать и педагогическую, и редакторско-публицистическую деятельность: стал инспектором гимназии, а чуть позже и редактором официозного «Виленского вестника».20 Вильно он выбрал как крупный культурный центр, имевший прямое железнодорожное сообщение с Москвой,21 и оставался там до 1868 года,22 когда получил назначение чиновником особых поручений в Главное управление военных учебных заведений. Это место он занимал недолго: вернулся к инспекторству, на этот раз в Полтавской военной гимназии (с 1870), а в 1875-м в чине действительного статского советника вышел в отставку и поселился в Тамбове, изредка продолжая печататься у М. Н. Каткова и А. С. Суворина, с которым издавна приятельствовал.23 Переписка с Аксаковым внезапно оживилась в 1883–1884 годах, когда цикл статей Де-Пуле по педагогическим вопросам был помещен в газете «Русь».24
Но вернемся к начальному периоду знакомства двух публицистов (1859). Выражая признательность за присланную статью о «Тысяче душ», редактор «Русской беседы» писал Де-Пуле: «Благодарю Вас очень за то, что Вы обратились к нам, с полною (и признайтесь — несомненною) уверенностью в нашем сочувствии нравственной идее, лежащей в основе Вашей критики» (л. 1– 1 об.). Далее он оправдывался за предпринятые правки в статье, о которых не счел нужным предуведомить автора, поскольку сношения с ним тогда были возможны по каким-то причинам только через посредника (Ф. Н. Берга): «Статья прекрасная, — но есть один-два промаха, две-три фразы, которые ослабляют действие статьи, подвергнут ее справедливым нападкам, лишат ее цельности. Обставлять примечаниями, оговорками от редакции? Это значит ослаблять впечатление. — Не подумайте, что я позволил себе какие-либо значительные переделки и вставки. Нет, я уверен даже, что вы не вдруг и заметите, где что отменено или вставлено. Но думаю, что статья от этого выиграла. Некоторые ваши мысли эстетические, вполне справедливые, я только разъяснил и распространил, потому что они были выражены не только неясно, но даже небрежно. — В значении 4 части романа я решительно несогласен. Весь роман писан для нее, она-то и раскрывает мысль автора. Не будь этой части, не на что было бы и нападать, потому что не было бы причин заподозривать автора в сочувствии к герою, в желании оправдать его. Впрочем, у Вас, верно, есть подлинник Вашей статьи. Потрудитесь сверить, и — пожалуйста — напишите мне Ваше мнение откровенно. — Но как все же я не мог позволить себе распространить статью Вашу, то прибавил к статье, в виде особого „Примечания от редакции“ — странички четыре моих замечаний о романе и о его критиках. Надеюсь, что удар сим последним будет чувствителен» (л. 2).
Гонорар за статью (15 руб. серебром) Аксаков выслал 6 апреля, успев получить письмо от ее автора, заговорившего о новых своих замыслах. Здесь-то впервые и прозвучало в корреспонденции имя И. С. Тургенева. Де-Пуле в письме от 29 марта 1859 года предложил две темы будущих статей — об «Исторической грамматике» Ф. И. Буслаева25 и о «Дворянском гнезде».26 Относительно второй работы издатель «Дня» высказался так: «О Тургеневе я вполне разделяю Ваше мнение и в особенности люблю его за искренность. В „Дворянском гнезде“ он подвинулся на несколько ступеней вперед в своем внутреннем развитии, но это еще ступень переходная: он пойдет дальше. Пришлите статью и об нем. Если обе статьи почему-либо не могут быть помещены в „Беседе“, я перешлю их в редакцию „Атенея“» (л. 3 об.).
Знакомство семьи Аксаковых с Тургеневым произошло еще в 1840-х годах, позднее писатель неоднократно посещал аксаковское Абрамцево и явно выделял из всего семейства своего полного тезку. Отношения с братьями Аксаковыми современный тургеневед определяет как «теплые дружеские», но «не лишенные, однако, полемического противостояния».27 Участие автора «Записок охотника» в «Русской беседе» хотя и обсуждалось (Тургенев получил приглашение от И. С. Аксакова), но не состоялось.28 К. С. Аксаков еще при обсуждении программы будущего журнала резко заявил: «Не нужно нам ни Тургенева, ни Григоровича, ни других подобных».29 На этом фоне отзыв младшего Аксакова об «искренности» и «внутреннем развитии» создателя Лизы и Лаврецкого выглядит весьма благожелательным. Отметим, что подобная оценка очень скоро сменится иной: Аксаков охотно подхватит bon mot своей будущей жены о том, что у Тургенева нет l’épine dorsale morale (нравственного хребта)30 — а при этом о какой искренности может идти речь. Тургенев тоже не стоял на месте в своих взглядах на славянофилов в целом и издателя «Дня» в частности. К сожалению, его попытка мемуарного очерка о семье Аксаковых осталась незавершенной.31 Итоговыми же высказываниями Аксакова о Тургеневе станут две подпередовые статьи в «Руси».32
Итак, в 1859 году Аксаков ожидает следующей работы Де-Пуле и не забывает сообщить ему, что «статья о Писемском очень многим нравится» (л. 5). Но воронежец не спешит выслать свой новый опус. Это, видимо, произойдет не ранее начала июня, и Де-Пуле снова прибегнет к помощи Берга. Аксаков сочтет невозможным напечатать статью в «Русской беседе» (славянофильский кружок строго стоял за единомыслие в главных вопросах) и 24 июня напишет автору, объясняя причины отказа. Это письмо — фактически конспект несозданной статьи о современной литературе, о состоянии общества, о разрыве дворянства и народа, о людях, «лишенных почвы», и таких же (беспочвенных) правительственных мерах, о «положительном направлении», о Пушкине — чрезвычайно важно, его, как и последовавшее за ним, стоит привести целиком, несмотря на ошибочность прозвучавшего здесь прогноза о том, что «лет через 10 никто не станет перечитывать» ни Тургенева, ни Гончарова.33
«Милостивый Государь
Михаил Федорович.
Я получил Вашу рукопись — разбор „Дворянского гнезда“ и даже возвратил ее34 Вашему верному комиссионеру, г. Бергу. Статья Ваша не может быть у нас напечатана: в критике больше, чем где-либо, выражается основное воззрение журнала, а с Вашим воззрением оно, к сожалению, в настоящем случае несогласно. Мне кажется, Вы даете слишком большое, прочное значение Тургеневу, Гончарову и всем теперешним нашим беллетристам. Неужели Вы не чувствуете мелкости их литературного подвига, их преходящесть? Из них я ставлю выше всех Тургенева, люблю его всею душой, как человека (мы хорошо знакомы), признаю в нем талант поэтический и художественный, все это так, но дело его —35имеет важность только с исторической точки зрения.
Главное значение Тургенева заключается в том, что он выражает собою36 духовно-болезненное состояние нашего общества, все его муки, борьбу нравственную, всю внутреннюю возню с анализом и с рефлексией. В этом заключается главная причина симпатии, возбуждаемой его сочинениями. Заслуга Тургенева состоит37 в том, что он понял, что это болезнь, что он осудил ее, что он стремится высвободиться из-под ее гнета. Но не высвободится. Болезнь эта не случайная, а историческая: она породила тот класс общества, который, оторвавшись от жизни народной, чувствует себя сиротою, лишен почвы под ногами. Это страшная мука всех современных деятелей; — от того и байбачество. Наша деятельность не зачерпывает жизни народной, скользит над нею,38 и потому бесплодна и безотрадна. Возьмите для прим<ера> хоть вопрос о судопроизводстве, проект которого изготовляется теперь в П<етер>бурге. Везде судопроизводство является наследием веков, органическим продуктом жизни…. Вам же приходится сочинять, сочинять за жизнь, сочинять самую жизнь. А вы ее не знаете, вы не участник ее таинственного творчества, вы не состоите с ней в единении. Если б эта жизнь, жизнь 60 милльонов была tabula rasa, другое дело, — но вы знаете, что она не tabula rasa, что в ней лежит тайна, которой вы разгадать не можете, что она хранит начала и основы совершенно новые, что она будет протестовать — против всякого насилия — безобразием, т. е. что все ваши великолепные проекты обратятся в безобразное явление действительности, лягут на землю новым слоем хлама. — Как немедленно все опошляется у нас! Теперь нельзя сказать, совестно употребить слова: гласность, обществ<енное> мнение и проч<ее>. Отчего? плодов от них еще мало. Оттого, что все эти стремления не зачерпывают жизни действительной, все это — как былие без корня! Лодка носится по волнам по воле ветра, как скоро нет груза, дающего ровный тяжелый ход судну: этот груз — народ, сумма исторического опыта и проч<ее>. — Великий Гоголь болел нашею болезнью и искал выхода; он пал жертвою своих усилий. Он обличал наше общественное уродство. Тургенев (которого талант я, конечно, не думаю сравнивать с Гоголевским) — не касается вопросов общественных, но сделал предметом своего анализа самую болезненность; оттого-то он вечно возится с типами, подобными Рудину, Лаврецкому и проч<им>. Вы ставите ему это в недостаток! Это его существенное достоинство, дающее ему историческое значение. Это самые искренние его создания, почерпаемые из самосознания. Разве не слышите вы, как ему хочется здоровья и здоровья! Вы говорите, что в Тургеневе отношение к жизни положительное. Напротив! положительное является в нем искомым идеалом!39 И эта искомость, этот процесс искания слышится при каждом положительном изображении и лишает его искренности. Т. е. вы чувствуете искреннюю предумышленность[40] в изображении положительных характеров, радость больного, смакующего лекарство. Цельность, простота, непосредственность — вот идеалы, естественно мучающие больную душу современного человека.41 Было время, когда хвастались и рисовались этою болезнью. Это глупое время прошло. Теперь — реализм часто принимают за признак здоровья, но реализм, понимаемый ограниченно, в смысле практицизма, или неразвитости. Но Тургенев и Ко осуждены только желать и стремиться. Им никогда не создать ничего положительного; путем мышления не дойдешь до того, что требует цельности представления, искреннего и свободного творчества. Я люблю Тургенева, во-1-х, за то, что он умнее их всех, во-2-х, за то, что он искренен и отражается в повестях по мере своего внутреннего развития, не больше; в-3-х, за то, что он лучше всех понимает несостоятельность и болезненность нашего общества, в-4-х, — за его уважение к народу и смирение, хотя отвлеченно, умом понимаемое, перед народом. — Знаете, кого я ставлю выше их всех, и в ком вижу залог новой эры для искусства? В Кохановской. В ней народность не является чем-то искомым, ей непонятны будут и заботы об ней. Она относится к ней непосредственно, и посмотрите — что это за язык, за сила; это едва ли не первые, вполне русские произведения! Это такая сила, перед которой жалки становятся напряженные усилия таланта и ума Тургенева, Гончарова, Толстого и проч<их>.
Вы говорите, что Тургенев постиг первый после Пушкина тип русской женщины. Признаюсь, страстно любя Пушкина, я не вижу ничего типического в Татьяне, да и во всех произведениях Пушкина, за исключением разве повестей и драмы,42 вижу более поэтического, лирического элемента, чем художественного, в смысле Вашего определения. „Руслан и Людмила“, „Кавк<азский> плен<ник>“, „Полтава“, „Бахчисар<айский> фонтан“ — все это прелесть, как ряд картин, но глубины концепции я не вижу нигде, ни даже в „Евгении Онегине“. В Пушкине, по выражению одного моего знакомого, не достает басовой струны.43 — Тургеневские женщины — всегда силуэты: он это сам чувствует, он боится копнуть в них глубже, — не хватит мастерства и знания создать их вполне живыми, — развалятся! Но честь его благородной натуре: мы видим по крайней мере, где ищет он свои идеалы, не в героинях Жорж Занд! — Вообще повесть „Дв<орянское> гнездо“, которую я читал с наслаждением, особенно интересна и отрадна, как новый шаг Тургенева в его внутреннем духовном развитии. С этой точки зрения она подлежит разбору, хвалить ее можно и должно, да не с того боку, и не придавать повести Тургенева значения соотносительного,44 не считать его выражением русского искусства: он не из разряда тех мастеров, которые являются в искусстве хозяевами, свободно творящими, вечно оригинальными и создающими новую школу. Одна дама сказала Тургеневу (и это он, добродушнейший человек в мире, сам расскажет, если хотите), что il lui manqué l’épine dorsale morale.45 И это совершенно верно, а в наше время, при отсутствии твердых и крепких нравственных убеждений, управляющих хотя временно деятельностью человека,46 не может художник сотворить ничего великого.
„Обломов“ — роман очень замечательный по задаче, по концепции, гораздо больше, чем по исполнению. В нем гораздо больше ума, чем художественности и поэзии. Все эти произведения, имея значение, как моменты исторические нашего развития, в то же время в области русского искусства не составляют эпохи, не вносят ничего нового. Лет через 10 никто не станет перечитывать ни „Двор<янское> гнездо“, ни „Обломова“.
Вы, конечно, не согласны со мной, но мои убеждения, с какими-нибудь небольшими оттенками, принадлежат и другим сотрудникам „Беседы“. Я, может быть, не умел, а отчасти и не имею времени развить мои мысли полнее, подробнее и связнее, и многое может показаться более резким, чем оно есть на самом деле. Говоря об литературе, вы совершенно забываете об том исключительном положении, в котором находится русская жизнь, но от которого зависит все развитие литературы.47 Без исторической точки зрения нельзя понять русскую литературу, хоть напр<имер> тип байбака.48 Вопрос о положительном и отрицательном отношении русского искусства к жизни не понятен без истории русской жизни.
Во всяком случае Вы поблагодарите меня за мою откровенность. Как скоро же статьи Ваши не будут противоречить нам в главных основах, то мы дадим им место в „Беседе“ с радостью, как напр<имер> статье Вашей о Писемском.
Преданный Вам
Ив. Аксаков.
Июня 24
1859.
Москва» (л. 5а–8).
Несмотря на то, что это «программное» письмо по большей части посвящено Тургеневу, в нем не случайно упоминались Гончаров и «Обломов», другая литературная новинка 1859 года. По-видимому, Аксаков уже знал, что его воронежский корреспондент работает над статьей об этом романе. И действительно, она вскоре лежала на столе редактора. Письмо от 6 июля представляет собой подробный разбор не столько статьи, сколько проанализированного в ней произведения, причем опять дело не обходится без Тургенева, «почвы» и положительного направления:
«Я получил Вашу статью об Обломове. Хотя эта статья, по моему мнению, лучше статьи о Тургеневе, однако же и она мне кажется неудовлетворительною. Вы слишком легко, поверхностно касаетесь предмета — это не критические статьи, а коротенькие рецензии. Между тем вопросы, мимоходом возбуждаемые вами, таковы, что лучше их не касаться вовсе или же сделать их предметом внимательного исследования. Притом Ваша идея — извините меня — также страдает неясностью. Вы называете Обломова поэтической превосходной натурой, „поэтом — народным“. Разве дворянским? Вы не объясняете нигде — чтò именно поэтического в этой натуре? Чтò общего между Обломовым и народными песнями, напр<имер> — вниз по матушке по Волге? Звучит ли этот бодрый мотив в натуре Обломова? — Нисколько. Он возрос не на народной, а на искаженной дворянской почве. Вы говорите, что он потому так и упал, что был поэт… Этого я решительно не понимаю. Что же такое поэзия по-Вашему? Разве ее свойство — делать из человека тесто? Во всяком случае Вы не выяснили Вашу мысль. — Далее: по сходству фамилий, Вы отчислили знакомого Обломовского, Алексеева, к легиону и по нем определяете внутреннее значение этого легиона. Мне кажется — это совершенно ошибочно, Гончаров вовсе и не думал признавать этого Алексеева схожим с Обломовым. —
Но очень хорошо в Вашей статье именно то, что Вы следите в сочинениях Гончарова общую идею обломовщины, а также и то, что Вы обличаете незрелость его идеи и несостоятельность Обломова49 быть типом современного русского человека. И это как-то не вяжется с первою половиною Вашей статьи.
Роман Гончарова очень замечателен как по исполнению, так и по задаче, но Вы чувствуете, что ему, как и всем, дается только одно отрицательное отношение к действительности. В живое положительное отношение к жизни он стать еще менее может, чем Тургенев. Оно (положительное отношение)50 возможно только (чтоб быть действительным) на почве народной. А в Гончарове вы не слышите ни малейшей симпатии к русской народности; напротив того, слыша в себе присутствие некоторой ее струи,51 ее протест против петербургской лжедеятельности, он сам казнит ее в себе беспрерывно. Он чует — что-то, но когда хотел олицетворить эту отрицательную сторону в художественном образе, то по непониманию русской жизни и народности, или по одному внешнему знакомству с ней, сущность отрицания ускользнула из его рук, он не обхватил задачи, не обнял52 ее даже умом, и Обломов вышел олицетворением одной лени с притязаниями на53 тип54 более глубокого и серьезного смысла. В этом отношении Тургенев несравненно выше, и глубже всматривается в жизнь русскую. Не знаю — ясно ли я пишу; трудно на почтовом листе и сразу вдруг передать то, что требует подробного развития, но во всяком случае мое мнение о Вашей статье я Вам высказал с обычною откровенностью. Напишите мне адрес Берга, чтобы я мог ему отдать Вашу статью. — О Буслаеве пишет для V книги „Беседы“ статью брат мой К<онстантин> Сергеевич.55 Он довольно строго относится к Буслаеву.56 — Без исторического освещения, без глубокой симпатии к народу не уразуметь сознательно ни Гончарову, ни Тургеневу русской жизни.
Весь ваш
Ив. Аксаков
6 июля
- Москва» (л. 9–10 об.).
Таким образом, Аксаков вернул Де-Пуле подряд две статьи о будущих классиках отечественной словесности и заранее отверг работу о буслаевском «Опыте исторической грамматики русского языка». Критику ничего не оставалось делать, как обратить свои взоры на петербургские редакции. Разбор «Дворянского гнезда» найдет приют в «Русском слове»,57 а статья о грамматике Буслаева — и вовсе в «Современнике».58 Последнее обстоятельство, между прочим, ничуть не повредит автору во мнении Аксакова. После небольшой паузы в переписке он первым обратится к только что отвергнутому им же самим автору со словом ободрения: «Вы поступили крайне смело, воздвиглись против такого авторитета, в своей статье, помещенной в „Современнике“. Вы себе представить не можете, сколько холопства и подобострастия в российской образованной публике, как в отношении к Европе, так и в отношении к своим доморощенным авторитетам, творимым „Русскими вестниками“, „От<ечественными> записками“, „П<етер>б<ургскими> вед<омостями>“, „Моск<овскими> вед<омостями>“ и проч<ее> и проч<ее>. Буслаев холоп Бонна59 и западных ученых; журналы ни уха ни рыла не разумеющие, но движимые тем же духом холопства, твердят: „наш известный ученый г. Буслаев“, — „школа Буслаева, Соловьева“60 и пр<очее> и пр<очее>. Новичок, выступающий на литературную арену и желающий задобрить в свою пользу этих журнальных звонарей, непременно вклеит в первую свою статейку цитату из сих авторитетов, — la reputation est faite!61 — Вы отдаете по крайней мере более справедливую хвалу за ее62 серьезное отношение к делу: она представляет противувес, тот груз спасительный, без которого чорт знает куда умчало бы легковесную умственную ладью русского общества» (л. 11–11 об.).63
Сопоставление текста статьи о Тургеневе в «Русском слове» с письмом Аксакова показывает, что Де-Пуле, вероятно, ничего не стал менять в своем разборе (в пользу этого отчасти говорит и быстрота осуществленной публикации). Тургенев представал здесь как стоящий «во главе современных писателей» прозаик с «чисто-поэтическим» талантом,64 а вступительная часть по интенции была близка литературным манифестам «Русской беседы»,65 т. е. сохранялось смутившее Аксакова приложение категорий положительно прекрасного именно к этому автору. Имеется здесь и рассуждение на занимавшую Аксакова тему «байбачества», в связи с которой поднимался и вопрос об «искренности» Тургенева,66 а завершается статья разбором образа Лизы (о чем тоже упоминалось в письме Аксакова). Что касается не принятой в «Русскую беседу» рецензии на роман Гончарова, эта работа, вероятно, утрачена, но могла быть в той или иной форме использована в более поздней статье Де-Пуле «Нечто о подводных камнях и утесах в нашей литературе» (о романе М. В. Авдеева).67
Де-Пуле не держал обиды на Аксакова и его кружок. Пересылая в 1864 году одно из аксаковских писем своему приятелю Л. Н. Павленкову, он обмолвился о славянофилах: «Я их люблю, потому что в них много натуральной русской простоты» (л. 21 об.). Аксаков, со своей стороны, желал бы видеть в Де-Пуле не литературного критика (хотя жизнь показала, что тот, пожалуй, был во многом гораздо прозорливее именно в суждениях о словесности), а публициста-земца. Выше уже было сказано о том, что он пытался подвести собеседника к мысли заняться корреспонденциями о земском вопросе. Примечателен еще один, остававшийся неизвестным факт: начиная издавать газету «Москва», Аксаков приглашал Де-Пуле покинуть только что осваиваемый тем Вильно и разделить труды с ним: «Я приглашаю Вас себе в помощники по внутреннему отделу. Жалованья в год 2500 р. и, вероятно (даже несомненно), квартира при конторе с отоплением. Дела Вам будет много, но меня Вы знаете, знамя мое — и Ваше знамя; Вы будете жить в Москве в кругу Вам сочувственном. Газета эта, кажется, — прочное дело».68
Из других писем выясняется, что Иван Сергеевич рассчитывал поручить Де-Пуле и расположение статей в номере, и чтение последних корректур, и надзор за типографией (за «ходом печатанья») и вообще желал видеть в нем свое alter ego. В качестве другого варианта предлагал ему заняться просмотром французских и немецких газет для политического отдела и составление по им же подготовленной выборке раздела «Последняя почта».69 Но Аксаков уже в 1866 году предвидел будущие цензурные сложности, ожидающие газету, а значит — шаткость ее положения, а также откровенно предупреждал своего корреспондента, что тот, если не найдет в Москве необременительного места по учебному ведомству, окажется в положении, равносильном выходу в отставку. Взвесив все, Де-Пуле предпочел остаться в Вильно. «…Не могу не признать, что Вы поступили благоразумно», — напишет Аксаков 23 октября.70
Из литературных сюжетов, обсуждавшихся в рассматриваемой переписке, представляет интерес подробный предпринятый Аксаковым «редакторский» разбор стихотворений некоего Ильина,71 но наиболее важна кольцовская тема, особенно дорогая для Де-Пуле как воронежца, публикатора неизданных стихотворений поэта и автора монографии о нем.72 В письме от 20 апреля 1876 года, относящемся как раз ко времени работы Де-Пуле над книгой о Кольцове и вызванном его вопросом о «кольцовских бумагах»,73 Аксаков посвятил гениальному воронежскому прасолу целый большой мемуарный фрагмент, перерастающий в посмертную полемику с В. Г. Белинским и как бы возвращающий собеседников к их эпистолярной дискуссии 1859 года о подлинной и неподлинной народности и тем самым «закольцовывающий» (прошу прощения за рвущийся «из-под пера» каламбур) всю тему художественной словесности в этом многолетнем творческом диалоге,74 хотя к кольцовской теме будет еще одно обращение — в письме от 15 марта 1880 года, когда Аксаков сообщит свое мнение о биографии поэта, прочтенной еще в 1878-м, похвалит за желание «высвободить сущность кольцовской поэтической природы из-под всяческих хламид, в которые укутал его Белинский со всею компанией и в которые сам он, Кольцов, кутался», а также за то, что в книге сняты «тягость хулы и клевет с памяти его отца и семьи». При этом выскажет и замечания: «…Вы, мне кажется, несколько пересолили: Ваш труд носит на себе характер какого-то следственного процесса, и это производит местами неприятное впечатление. <…> Если б Ваша „биография“ была вдвое короче, она бы много выиграла. Слишком много в ней мелочных подробностей, слишком много обшариваете Вы его семейный быт. Само по себе все это не может очень интересовать, а для изобличения правды, как оправдательный документ, достаточна была бы и половина всего, что Вы сообщаете. — Его положение, независимо от лживо-придуманных страданий, все же было исполнено трагизма, — и именно от того, что он имел несчастие познакомиться с московскими и петербургскими литераторами, которые вздумали его развивать. На них и лежит ответственность за всю ложь, которой он стал жертвой. Он сам менее всего виноват. <…> Пользовался или не пользовался он чужими стихотворениями, — все же его собственный талант несомненен. Но Господи, сколько лжи, сколько вздору во всех этих фразах, идеализациях, восторгах, доктринерстве, которыми так искренно угощал Белинский Кольцова и сам услаждался. Правда была — в искренности влечения к какой-то высшей правде, а не в том, что именно выдавалось за правду».75
«Вопросы литературы» — конечно, лишь одна из составляющих переписки Аксакова и Де-Пуле, пусть и немаловажная. За разговорами о текстах и авторах непременно вставали насущные «вопросы жизни» (украйнофильство, польский вопрос, народное просвещение и многие другие). Это требовало уточнения позиций, своеобразной «сверки часов», которая обнаруживала, что с течением лет не нарушилось установившееся между собеседниками еще в 1850-е годы единство в основополагающих воззрениях при возникающих то и дело расхождениях в «частностях».
Ниже публикуется письмо И. С. Аксакова к М. Ф. Де-Пуле от 20 апреля 1876 года по автографу: ИРЛИ. Ф. 569. Ед. хр. 106. Л. 15–17. Орфография и пунктуация приводятся в соответствии с современными нормами.
1 См. об этой его деятельности: Греков В. Н. Иван Аксаков — сотрудник и редактор «Русской беседы» // «Русская беседа». История славянофильского журнала: Исследования. Материалы. Постатейная роспись / Под ред. Б. Ф. Егорова, А. М. Пентковского и О. Л. Фетисенко. СПб., 2011. С. 124–157. При подготовке данного коллективного труда переписка, о которой пойдет речь в этой статье, не привлекалась, она вообще осталась на периферии исследовательского внимания.
2 Воронежец по долговременному месту жительства, но уроженец Липецкого уезда Тамбовской губернии.
3 Де-Пуле М. Ф. Николай Иванович Второв // Русский архив. 1877. Вып. 7. С. 335. Об этом объединении воронежской «умственной аристократии» см.: Павлова В. А. Н. И. Второв и его кружок // Очерки литературной жизни Воронежского края. XIX — начало ХХ в. Воронеж, 1970. С. 180–190.
4 Важный этап литературной деятельности Де-Пуле на рубеже 1850–1860-х годов — участие в формировании и редактировании сборника «Воронежская беседа» (1861).
5 Е. Г. [Гаршин Е. М.]. Де-Пуле Михаил Федорович // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб., 1893. Т. 10. С. 422. См. также: Удодов Б. Т. Де-Пуле Михаил Федорович // Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. М., 1992. Т. 2. С. 107–108.
6 Отзываясь о журнале «Библиотека для чтения», Аксаков писал: «…журнал плохой, бесцветный, нравственно дряблый, и редактором — Писемский, которому лучшею рекомендацией служит создание Калиновича в романе „Тысяча душ“» (Семья Аксаковых и Н. С. Соханская (Кохановская): Переписка (1858–1884) / Сост., вступ. статья, подг. текста и комм. О. Л. Фетисенко. СПб., 2018. С. 43). В 1860 году и Де-Пуле вступил в переписку с Соханской. От их диалога сохранились лишь 15 писем «макаровской отшельницы». См.: «Все мы, благородно-простодушные провинциалы…»: Письма Кохановской (Н. С. Соханской) к М. Ф. Де-Пуле (1860–1866 гг.) / Вступ. статья, подг. текста и комм. О. Л. Фетисенко // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2020 год. СПб., 2020. С. 222–262.
7 ИРЛИ. Ф. 569. Ед. хр. 105. Л. 1. Далее ссылки на эту архивную единицу приводятся в тексте сокращенно, с указанием листа.
8 Де-Пуле М. Ф. [Рец. на:] Тысяча душ: Роман в четырех частях А. Писемского. Издание Д. Е. Кожанчкова. С.-Петербург. 1858 // Русская беседа. 1859. Кн. II. Отд. III. Критика. С. 1–16.
9 Там же. С. 17–20. Н. П. Колюпановым примечание было ошибочно атрибутировано К. С. Аксакову (см.: Колюпанов Н. П. Перечень лиц, участвовавших в издании «Русской беседы», с указанием сочинений, 1856–1860 // [Колюпанов Н. П.]. Биография Александра Ивановича Кошелева. М., 1892. Т. 2. Прил. 12. С. 143). Без изменений атрибуция осталась в указанном выше коллективном труде о журнале («Русская беседа». История славянофильского журнала. С. 502). Письмо И. С. Аксакова позволяет исправить эту погрешность, здесь говорится: «…прибавил к статье, в виде особого „Примечания от редакции“ — странички четыре моих замечаний о романе и о его критиках. Надеюсь, что удар сим последним будет чувствителен» (л. 2).
10 Будучи в те годы цензором, Гиляров печатался под псевдонимом.
11 Отсутствуют, например, письма за 1860–1863, 1867–1875, 1877–1879, 1881–1882 годы. С уверенностью можно утверждать, что переписка могла вестись в 1861–1862 годах, когда Де-Пуле печатался в газете Аксакова «День» (об этом см. ниже).
12 ИРЛИ. Ф. 569. Ед. хр. 105–107.
13 РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 189 (29 марта 1859 года); ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. Ед. хр. 498 (1864, 1876, 1885). Одно из них, от 29 июня 1864 года, уже издано мною в приложении к публикации: «Все мы, благородно-простодушные провинциалы…». С. 258–261.
14 ИРЛИ. Ф. 569. Ед. хр. 107. Л. 33–34.
15 За подписями «В. М–в», «Корреспондент», «S. S.».
16 Первая развернутая статья с полной подписью: Де-Пуле М. По поводу провинциального безмолвия (Письмо к редактору Дня) // День. 1864. 15 февр. № 7. С. 1–4. Авторская датировка: 11 января 1864 года. Из письма Аксакова от 12 мая 1864 года выясняется, что он предпосылал этой статье передовую, которая не была пропущена цензурой, но часть ее — о значении областной России — удалось поместить в № 15 от 11 апреля (л. 17 об.). За ней последовала статья Де-Пуле «Еще несколько слов о провинциальной журналистике» (День. 1864. 23 мая. № 21. С. 7–8). Другую статью, о Н. М. Костомарове, Аксаков не принял, хотя был готов позднее поместить ее в переделанном виде (л. 21; письмо от 22 августа 1864 года); отметим, что имя Костомарова впоследствии не раз будет упоминаться в корреспонденции. Без упоминаний в письмах остались статьи на педагогические темы (День. 1864. 5 сент. № 36. С. 6–7; 5 дек. № 49. С. 8–12). В следующем году издатель «Дня» напечатал статьи «Современные задачи нашего провинциализма» (Там же. 1865. 31 марта. № 14. С. 321–324), «об иллюзиях М<осковских> вед<омостей>» (л. 27; вышла в сокращении: Педагогические иллюзии и страхи // Там же. 1865. 1 мая. № 18. С. 420–422), о публичных библиотеках (Там же. 8 мая. № 19. С. 451–455; 18 сент. № 32. С. 762–764), но категорически отверг статьи о проповедях архиепископа Иннокентия Херсонского и какой-то полемический выпад о «Русском слове», по поводу которого писал: «Вам в Воронеже и́здали мудрено себе представить всю гражданскую невозможность для честного редактора в столице ставить вопрос так, чтоб противник Ваш не смел отвечать Вам печатно. Наконец я не Катков. Я не хочу, чтобы мои статьи подавали повод Валуеву (как катковские относительно Костомарова) призывать к себе моих противников, делать им выговоры, запрещать писать или издавать книги» (л. 23 об.; письмо от 31 марта 1865 года). Аксаков в том же письме дал понять, что ему были бы интереснее корреспонденции Де-Пуле о земском деле в Воронежской губернии. Выходные данные опубликованных Аксаковым статей Де-Пуле см.: «День» И. С. Аксакова: История славянофильской газеты / Под общ. ред. Н. Н. Вихровой, А. П. Дмитриева и Б. Ф. Егорова. СПб., 2017. Ч. 1. С. 782 и по указ.
17 Рассказ о жарких спорах на эту тему содержится в письме Аксакова к Ю. Ф. Самарину от 31 мая 1864 года: Переписка И. С. Аксакова и Ю. Ф. Самарина (1848–1876) / Изд. подг. Т. Ф. Пирожкова, О. Л. Фетисенко, В. Ю. Шведов. СПб., 2016. С. 183–185 (Славянофильский архив; кн. 3).
18 Там же. С. 185. Главное, полагал он, «чтоб не было нелепых попыток обрусить Польшу» (Там же).
19 «Все мы, благородно-простодушные провинциалы…». С. 258–259.
20 Об этом периоде его деятельности см.: Котов А. Э. «Великая идея всероссийзма»: Политическая публицистика М. Ф. Де-Пуле // Вестник Воронежского ун-та. Сер. История, политология, социология. 2016. № 1. С. 54–59. См. также посвященную Де-Пуле главу в монографии того же автора: Котов А. Э. «Царский путь» Михаила Каткова: Идеология бюрократического национализма в политической публицистике 1860–1890-х годов. СПб., 2016. С. 205–259. Обсуждая с Де-Пуле предложение М. Н. Муравьева и И. П. Корнилова о возглавлении виленского официоза, Аксаков с осторожными намеками писал 12 мая 1864 года: «Дело прекрасное, но… Газета все-таки официальная, орган Муравьева. Человек он полезный для края, но — может быть, Вы не захотите поставить литературное дело от него в зависимость» (цит. по: «Все мы, благородно-простодушные провинциалы…». С. 261). Совсем по-другому он рассуждает о том же 26 сентября 1865 года, когда переезд в Вильно Де-Пуле был уже, в сущности, решен: «От всей души радуюсь. Мне кажется, Михаил Федорович, отказывать и медлить нечего. Такие люди как Вы — сущее приобретение для Западного края, и слава Богу — теперь их там умеют ценить, и они там уже не затеряются. Не скрою от Вас, что о приглашении Вас в редакторы я хлопотал сильно, ради общей пользы. Вам откроется широкое поле деятельности, и Вы будете в кругу главных деятелей края. Ради Бога не отказывайтесь. Вы ни в каком отношении не потеряете — я Вам ручаюсь» (л. 31).
21 «Все мы, благородно-простодушные провинциалы…». С. 260.
22 По каким-то причинам Де-Пуле не сразу уведомил Аксакова о своем бытии на новом месте, и 7 апреля 1866 года тот осведомлялся у П. А. Бессонова, устроился ли его воронежский корреспондент: «Мне просто совестно перед этим человеком, потому что я содействовал к переселению его на Запад» (Люди русской правды: Переписка И. С. Аксакова с государственными и общественными деятелями (1865–1886) / Под общ. ред. А. П. Дмитриева и Б. Ф. Егорова. СПб., 2018. С. 78).
23 См.: Суворин А. С. Письма к М. Ф. Де-Пуле / Публ. М. Л. Семановой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1979 год. Л., 1981. С. 113–187.
24 Де-Пуле М. Ф. 1) Наше образовательное дело и учебная смута: Мысли и заметки // Русь. 1883. 1 сент. № 17. С. 23–32; 15 сент. № 18. С. 36–43; 1 окт. № 19. С. 19–28; 15 окт. № 20. С. 17–23; 2) По поводу заметки г-на А. Храповицкого о духовно-учебных заведениях // Там же. 1 дек. № 23. С. 49–51 (отклик на статью будущего главы Русской Зарубежной церкви); 3) Мысли и заметки по образовательным вопросам // Там же. 1884. 15 июня. № 12. С. 13–22; 1885. 2 февр. № 5. С. 14–16; 31 авг. № 9. С. 12–14. Несколько статей были Аксаковым отклонены.
25 Аксаков предупредил, что такую работу подверг бы рецензированию («предварительному рассмотрению») своего брата Константина, а также А. С. Хомякова и П. А. Бессонова (л. 3–3 об.).
26 О Тургеневе критик при этом высказался так: «…никто вернее не относится к русской жизни, как Ваш батюшка, Гоголь и Тургенев. Не правда ли, почти в каждой его повести читаешь свою собственную жизнь, жизнь надломанную, испорченную недостатком истинно общественной деятельности? Зато как хороша у него без всяких возгласов русская женщина!» (РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 189. Л. 1 об. — 2).
27 Ипатова С. А. Тургенев в Абрамцеве (1878): Забытые воспоминания С. С. Мамонтова // Тургеневский ежегодник 2015 года / Сост. и ред. Л. В. Дмитрюхина, Л. А. Балыкова. Орел, 2017. С. 195–196.
28 См. об этом: Балыкова Л. А. Тургенев и журнал «Русская беседа»: попытка сближения (https://turgenevmus.ru/turgenev-i-zhurnal-russkaya-beseda-popytka-sblizheniya/; дата обращения: 20.10.2023).
29 Об издании «Русской беседы» (Записка К. С. Аксакова (1856) с ответом А. И. Кошелева) / Публ. и комм. А. П. Дмитриева // «Русская беседа». История славянофильского журнала. С. 251.
30 Эту фразу он приведет и в публикуемом ниже письме к Де-Пуле от 6 апреля 1859 года, и в письме к Соханской от 6 мая 1862-го (Семья Аксаковых и Н. С. Соханская (Кохановская). С. 168–169); в последнем указан и автор острого словца: «…дочь известного поэта Тютчева» (Там же. С. 169). В семье Аксаковых сходным образом на Тургенева смотрела Вера Сергеевна. Ср. в ее дневниковой записи от 25 января 1855 года: «…человек, в котором нет даже языческой силы и возвышенности души, какая-то дряблость душевная, как и телесная, несмотря на его огромную фигуру» (Аксакова В. С. Дневники. Письма / Изд. подг. Т. Ф. Пирожкова. СПб., 2013. С. 121).
31 См.: Тургенев И. С. <Семейство Аксаковых и славянофилы> / Публ. Н. П. Генераловой, А. Я. Звигильского, В. А. Кошелева // Русская литература. 1995. № 4. С. 146–156.
32 Русь. 1883. 1 сент. № 12–13; 1 окт. № 19. С. 12–14.
33 Связанные с Гончаровым фрагменты писем Аксакова от 24 июня и 6 июля 1859 года хорошо известны специалистам по давней публикации (И. А. Гончаров в неизданных письмах, дневниках и воспоминаниях современников / Публ. Н. Г. Розенблюма // Русская литература. 1969. № 1. С. 165–166), но письма эти заслуживают того, чтобы быть опубликованными в полном виде.
34 Далее зачеркнуто: «уже».
35 Далее зачеркнуто: «мелочное».
36 Далее зачеркнуто: «всё».
37 Перед этим начато и зачеркнуто: «за<ключается>».
38 Вписано над зачеркнутым: «над ним».
39 На страницах «Русской беседы», в статьях Н. П. Гилярова-Платонова, свящ. А. М. Иванцова-Платонова и К. С. Аксакова, не раз поднимался вопрос о «положительном воззрении» на жизнь (или, в частном проявлении, на «русскую действительность») и о целом «положительном направлении». Образцы подобного направления славянофилы находили в творчестве С. Т. Аксакова, а с 1858 года и Кохановской. Не случайно она упоминается далее и в публикуемом письме. О «положительном направлении» см.: Кунильский Д. А. Достоевский и братья Аксаковы. Петрозаводск, 2013; Фетисенко О. Л. У истоков «положительного направления» в русской литературе: Кохановская (Н. С. Соханская) и С. Т. Аксаков // Традиции и современность. 2023. № 1. С. 21–29. О взаимоотношениях И. С. Аксакова и Кохановской, о ее сотрудничестве в аксаковских изданиях см.: Фетисенко О. Л. Кохановская: «степной цветок» русской словесности: Тексты и контексты Н. С. Соханской. СПб., 2021.
40 В автографе с опиской.
41 Было: «нашу больную душу».
42 Далее зачеркнуто: «не».
43 Это выражение принадлежало Хомякову. Ср. в его письме к И. С. Аксакову, в котором обсуждалась статья Кохановской «Степной цветок на могилу Пушкина» (1859): «…способности к басовым аккордам недоставало не в голове Пушкина и не в таланте его, а в душе, слишком непостоянной и слабой или слишком рано развращенной и уже никогда не находившей в себе сил для возрождения» (Хомяков А. С. Полн. собр. соч. М., 1904. Т. VIII. С. 366). См. также: Кошелев В. А. Пушкин и Хомяков // Временник Пушкинской комиссии. Л., 1987. Вып. 21. С. 24–40; Кунильский Д. А. О литературной холодности (Пушкин в восприятии А. Хомякова и И. Киреевского) // Учен. зап. Петрозаводского гос. ун-та. 2010. № 3 (108). С. 80–85. О понимании Аксаковым творчества Пушкина и изменениях, в нем происходивших, см.: Вихрова Н. Н. 1) Пушкин в дневнике молодого Ивана Аксакова // Русская литература. 1999. № 2. С. 169–181; 2) Пушкин в историософском споре Ивана Аксакова и Владимира Соловьева // Соловьевские исследования. 2023. № 3. С. 88–106; Кунильский А. Е., Кунильский Д. А. Пушкин в славянофильской критике: Учеб. пособие для студентов-филологов. Петрозаводск, 2014.
44 Далее зачеркнуто: «достоинства».
45 Ему недостает нравственного хребта (фр.). Об источнике этого выражения см. выше.
46 Далее зачеркнута вставка: «ни».
47 Было: «все ее развитие».
48 Интересно, что вопрос об этом типе еще долго занимал Аксакова, и в 1864 году у него даже возник спор с Кохановской по поводу, как ему казалось, превращения в «байбака» одного из дорогих для них обоих персонажей. См.: Семья Аксаковых и Н. С. Соханская (Кохановская). С. 222, 224–225.
49 Было: «и его несостоятельность».
50 «Положительное отношение» вписано над строкой.
51 Было: «слыша в себе ее присутствие».
52 Перед этим начато и зачеркнуто: «пости<г>».
53 Далее зачеркнуто: «какой».
54 Далее зачеркнуто: «чего-то более».
55 Имеется в виду статья: Аксаков К. С. [Рец. на:] Опыт исторической грамматики русского языка Ф. Буслаева. Москва, 1859 года. 2 части // Русская беседа. 1859. Кн. VI. Отд. III. Критика. С. 65–154. И. С. Аксаков давал понять, что присылка статьи Де-Пуле о Буслаеве, обсуждавшаяся ранее, будет теперь излишней. С Буслаевым К. С. Аксаков полемизировал уже в 1856 году (Там же. 1856. Кн. II. Отд. V. Смесь. С. 148).
56 О полемике с Буслаевым см.: Гаспаров Б. М. Лингвистика национального самосознания (Значение споров 1860–1870 гг. о природе русской грамматики в истории философской и филологической мысли) // Логос. 1999. № 4 (14). С. 48–67.
57 Де-Пуле М. [Рец. на:] Дворянское гнездо. И. С. Тургенева. Москва. Издание книгопродавца Глазунова… // Русское слово. 1859. № 11. Отд. II. С. 1–22 (временем создания статьи здесь указан май 1859 года). В предыдущей журнальной книжке напечатана созданная в августе того же года статья воронежского критика о переведенных Тургеневым «Украинских народных рассказах» Марко Вовчка (Там же. № 10. Отд. II. С. 1–15). Позднее Де-Пуле посвятит Тургеневу еще одну статью, в которой выразит опасение, что писатель может изменить «теплому и прямому отношению к русской жизни»: Нечто о литературных мошках и букашках. По поводу героев г. Тургенева // Время. 1861. № 2. Отд. III. С. 115–131 (без подписи; атрибутировано А. Г. Фоминым по письму М. М. Достоевского к Де-Пуле: Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. Пг., 1922. С. 507).
58 Де-Пуле М. Ф. Об историческом изучении русского языка // Современник. 1859. № 8. Отд. III. С. 237–254.
59 Имеется в виду немецкий лингвист Франц Бонн (1791–1867), профессор Берлинского университета, основоположник сравнительного изучения индоевропейских языков.
60 Речь идет об историке С. М. Соловьеве, с которым активно полемизировал К. С. Аксаков.
61 Репутация создана! (фр.).
62 Подразумевается: этой школы.
63 Письмо от 2 октября 1859 года. Далее Аксаков просил отозваться в печати на статью о Буслаеве своего брата — может быть, даже «разругать» ее, но дать ей оценку: «Не думайте, чтоб я ожидал похвального отзыва: нет, хоть разругайте, если по совести так думаете, — но возбудите спор, полемику, не дайте угаснуть голосу, возопившему в пустыне! Поэтому я для большего удобства посылаю Вам отдельный оттиск статьи: Вы можете даже не упоминать о „Беседе“, если почему-либо сочтете это неловким» (л. 12). Статья Де-Пуле о полемике К. С. Аксакова с Буслаевым к настоящему времени не выявлена.
64 Русское слово. 1859. № 11. Отд. II. С. 6, 9.
65 «Теперь <…> мы можем смотреть спокойнее и любовнее на жизнь. И это не оптимизм, а вытекает из самой жизни: где жизнь — там и прекрасное, там и поэзия» (Там же. С. 2).
66 Там же. С. 16–17.
67 Русская речь. 1861. 6 апр. № 28. С. 433–436; 9 апр. № 29. С. 449–452.
68 ИРЛИ. Ф. 569. Ед. хр. 106. Л. 1 об.
69 Там же. Л. 6, 7 об.
70 Там же. Л. 12.
71 Там же. Л. 18–20.
72 Де-Пуле М. Ф. А. В. Кольцов в его житейских и литературных делах и в семейной обстановке. СПб., 1878 (впервые: Древняя и новая Россия. 1878. № 3–6).
73 Вопрос этот прозвучал в письме от 5 апреля 1876 года (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. Ед. хр. 498. Л. 5–5 об.).
74 Пожалуй, последним аккордом в этой составляющей переписки стал интересный с филологической точки зрения отзыв о синодальном переводе Нового Завета: «Кстати сказать: русский перевод Евангелия и Апостолов — пресквернейший, антихудожественный, лишенный всякой красоты. Почему „который“ (одно из подлейших слов) непременная принадлежность русской речи? Разве не в 1000 раз лучше, да и вполне по-русски сказать: „Тот, Кто создал небо и землю“ — чем: «Тот, Который» и пр<очее>. Я бы не издавал иначе русского перевода как вместе с славянским, le texte en regard <тексты в две колонки (фр.). — О. Ф.>» (Там же. Ф. 569. Ед. хр. 107. Л. 28; письмо от 18 декабря 1884 года).
75 Там же. Ед. хр. 106. Л. 20–20 об.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Письмо И. С. Аксакова к М. Ф. Де-Пуле от 20 апреля 1876 года
Воистину воскресе, Милостивый Государь, Михаил Федорович, отвечаю я Вам, хотя и поздно, на Ваше приветствие и Ваше письмо1 Кончина Юрия Федоровича Самарина2 всколебала мой нормальный строй жизни, вызвала такую перемену, возбудила столько свиданий, разговоров и переговоров,3 так отвлекла мое внимание от всяких прочих дел, что я действительно провинился пред многими, в том числе и пред Вами, замедлив ответом на письма. Впрочем, сообщить мне Вам насчет Кольцова особенного чего-нибудь — нечего. В переписке с братом моим он не состоял. Сохранилась только одна записка, не представляющая ничего интересного по содержанию, любопытная только как автограф.4 Личных отношений, вне литературы, равно как и личной симпатии друг к другу у них не было, хотя не было и антипатии. Я был мальчиком лет 12,5 когда видел Кольцова, у нас в доме за большим обедом (у отца моего лет 10 сряду велись субботние обеды, за которыми сходились все его приятели литературного и артистического кружка6 и старые товарищи). Кольцов не произвел на меня приятного впечатления, напротив: его взгляд исподлобья мне не понравился, и мы, дети, о том толковали. Очень может быть, что по природной его застенчивости, по непривычке к большому обществу (тут были, кроме моих сестер, и другие дамы), ему было просто неловко и, как говорится, конфузно: он не знал, что делать с вилкою, ложкою и т. д. Эти мелочи — бывают источником истинных страданий у многих даровитейших людей, выдвинутых талантами из своей грубой сре7ды, где они что-то вроде изгоев, в среду, родственную им по духу, но чуждую им по внешним условиям быта и цивилизации. Не знаю, была ли ложь в самой натуре Кольцова, но несомненно, что было много лжи в положении, которое было создано для него обстоятельствами и создается для всякого, кто, отчалив от одного берега, не в силах пристать к другому. Его друзья или почитатели его таланта, вроде Белинского, конечно, поступили неразумно, искусственно влагая в него высшие запросы, раздражая его поверхностным прикосновением солнечных лучей — высшей 8мудрости (чуть ли не философией Гегеля!) и не позаботясь9 о том, чтобы изъять его совсем из прасольской среды и просто заставить его поучиться.
Смутно помнится мне, что Станкевич, который, впрочем, и издал на свой счет стихи Кольцова, — не одобрял такого форсированного развития или по крайней мере не увлекался им в той же мере, как и Белинский. Брат мой никогда особенно не восторгался Кольцовым,10 и мне случалось слышать, как, пожимая плечами, рассказывали, что Кольцов также изволит повторять целиком фразы или выражения, выработавшиеся в этом кружке, вроде «прекраснодушие» (Гегелевское schöne Seele11 — особый момент развития) и т. п., чтò уже начинает казаться смешным. Впрочем, весь язык Белинского был испещрен такими, переведенными ему с немецкого из книг, им не штудированных12 и даже не читанных, модными тогда терминами философского характера. Белинский вложил в душу Кольцова высшие стремления — но без содержания, внес в его ум — мысли высшего порядка, но неопределенные, как у него самого, и сам, по складу своего ума и характера, по объему13 своей натуры, не в силах был ни поставить14 его на твердую почву, ни дать в руки орудие или посох, чтобы выбраться на путь, ни внести15 в душу несчастного мир духовный и гармонию. Брат же мой, К<онстантин> С<ергеевич>, страстный поклонник16 народного поэтического творчества, не любил литературно-народной поэзии, — т. е. поэзии литературной с приемами и ухватками «маненько-мужицкими»; — народность,17 возведенная или вернее низведенная в genre,18 была ему противна. Признавая несомненный талант Кольцова в первых его произведениях, он не мог, конечно, не замечать в стихах Кольцова позднейшего периода уже отсутствие той простоты и искренности, той непосредственной внутренней правды, которая в поэзии есть существеннейшее достоинство. Едва ли было бы справедливо обрушивать вину на самого Кольцова. Сам он жалок и истинно несчастлив. Виноваты его развиватели. Беда еще в том, что он попал не просто в круг образованных людей, а в кружок, в котором под конец заводится всегда много условности и лжи. Брат мой в 40-м году разорвал формально и открыто связь с кружком, где находились Бакунин и Белинский, — Станкевич бежал от него19 за границу: становилось невыносимо душно и все изолгалось внутри человека. А Кольцов сюда-то и попал. Я говорю о кружке, каким он был в конце 30-х и в самом начале 40<-х> годов. Впрочем, из напечатанных Пыпиным писем Белинского20 видно, каково было то умственное и духовное колесо, под которое попал воронежский прасол.
Письмо это служит доказательством, что я сохранил к Вам мое всегдашнее искреннее уважение.
Ив. Аксаков.
20 апр<еля>
1876
Москва. Филиппов пер<еулок,> д. Скородумова.21
1 Аксаков отвечает на письмо Де-Пуле от 5 апреля 1876 года (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. Ед. хр. 498. Л. 5–5 об.), в котором тот просил поделиться воспоминаниями о Кольцове или письмами поэта к С. Т. и К. С. Аксаковым.
2 Ю. Ф. Самарин скончался 19 марта 1876 года. «Смерть Самарина — это не то что потеря, а целое опустошение, в том смысле, что образуется страшная пустота, и в личной нашей, и в общественной жизни, которую ничто никогда наполнить не может», — писал Аксаков своему другу кн. Д. А. Оболенскому 1 апреля (Переписка И. С. Аксакова и Ю. Ф. Самарина. С. 327).
3 Далее зачеркнуто: «что».
4 Местонахождение этой записки установить не удалось.
5 12 лет И. С. Аксакову было в 1835 году.
6 Перед этим зачеркнуто: «мира».
7 Далее зачеркнуто: «ни».
8 Имеются в виду изданные в 1835 году «Стихотворения Алексея Кольцова». В сборник вошло 18 произведений.
9 Было: «Также и брат мой никогда им особенно не увлекался».
10 прекрасная душа (нем.).
11 Было: «из книг им не читанных и не штудированных».
12 Вписано над зачеркнутым: «размеру».
13 Перед этим зачеркнуто: «дать».
14 Перед этим начато и зачеркнуто: «пр<инести?>».
15 «Страстный поклон<ник>» вписано над зачеркнутым: «не лю<бил> / очень любил».
16 Перед этим начато и зачеркнуто: «сост<авленная?>».
17 жанр (фр.).
18 Было: «в конце 39 и в 40-м».
19 Далее зачеркнуто: «в н<емецкие?>».
20 Имеется в виду книга А. Н. Пыпина «Белинский: его жизнь и переписка» (Т. 1–2. СПб., 1876; впервые опубликована в «Вестнике Европы» в 1873–1874 годах). О трудах историка Аксаков писал Самарину 14 апреля 1873 года: «Я не обвиняю Пыпина в сознательной недобросовестности или в умышленном искажении истины, но при односторонности и узкости его взгляда, при его известных симпатиях и антипатиях, — при его известной оптике — он вводит или способен вводить и читателей в оптический обман» (Переписка И. С. Аксакова и Ю. Ф. Самарина. С. 293). Именно поэтому Аксаков отказался предоставить петербуржцу письма Белинского к своему брату Константину.
21 Правильно: Филипповский переулок (близ Арбата); семья С. Т. Аксакова жила здесь в 1849–1851 годах, а в 1955–1993-м переулок носил имя автора «Аленького цветочка».
About the authors
Ol’ga L. Fetisenko
Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom), Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: betsy98@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-5670-2656
Leading Researcher
Russian Federation, St. PetersburgReferences
- Aksakova V. S. Dnevniki. Pis’ma / Izd. podg. T. F. Pirozhkova. SPb., 2013.
- Balykova L. A. Turgenev i zhurnal «Russkaia beseda»: popytka sblizheniia // https://turgenevmus.ru/turgenev-i-zhurnal-russkaya-beseda-popytka-sblizheniya/; data obrashcheniia: 20.10. 2023.
- «Den’» I. S. Aksakova: Istoriia slavianofil’skoi gazety / Pod obshch. red. N. N. Vikhrovoi, A. P. Dmitrieva i B. F. Egorova. SPb., 2017. Ch. 1.
- Fetisenko O. L. Kokhanovskaia: «stepnoi tsvetok» russkoi slovesnosti: Teksty i konteksty N. S. Sokhanskoi. SPb., 2021.
- Fetisenko O. L. U istokov «polozhitel’nogo napravleniia» v russkoi literature: Kokhanovskaia (N. S. Sokhanskaia) i S. T. Aksakov // Traditsii i sovremennost’. 2023. № 1.
- Gasparov B. M. Lingvistika natsional’nogo samosoznaniia (Znachenie sporov 1860–1870 gg. o prirode russkoi grammatiki v istorii filosofskoi i filologicheskoi mysli) // Logos. 1999. № 4 (14).
- Grekov V. N. Ivan Aksakov — sotrudnik i redaktor «Russkoi besedy» // «Russkaia beseda». Istoriia slavianofil’skogo zhurnala: Issledovaniia. Materialy. Postateinaia rospis’ / Pod red. B. F. Egorova, A. M. Pentkovskogo i O. L. Fetisenko. SPb., 2011.
- I. A. Goncharov v neizdannykh pis’makh, dnevnikakh i vospominaniiakh sovremennikov / Publ. N. G. Rozenbliuma // Russkaia literatura. 1969. № 1.
- Ipatova S. A. Turgenev v Abramtseve (1878): Zabytye vospominaniia S. S. Mamontova // Turgenevskii ezhegodnik 2015 goda / Sost. i red. L. V. Dmitriukhina, L. A. Balykova. Orel, 2017.
- Koshelev V. A. Pushkin i Khomiakov // Vremennik Pushkinskoi komissii. L., 1987. Vyp. 21.
- Kotov A. E. «Tsarskii put’» Mikhaila Katkova: Ideologiia biurokraticheskogo natsionalizma v politicheskoi publitsistike 1860–1890-kh godov. SPb., 2016.
- Kotov A. E. «Velikaia ideia vserossiizma»: Politicheskaia publitsistika M. F. De-Pule // Vestnik Voronezhskogo un-ta. Ser. Istoriia, politologiia, sotsiologiia. 2016. № 1.
- Kunil’skii A. E., Kunil’skii D. A. Pushkin v slavianofil’skoi kritike: Ucheb. posobie dlia studentov-filologov. Petrozavodsk, 2014.
- Kunil’skii D. A. Dostoevskii i brat’ia Aksakovy. Petrozavodsk, 2013.
- Kunil’skii D. A. O literaturnoi kholodnosti (Pushkin v vospriiatii A. Khomiakova i I. Kireevskogo) // Uchen. zap. Petrozavodskogo gos. un-ta. 2010. № 3 (108).
- Liudi russkoi pravdy: Perepiska I. S. Aksakova s gosudarstvennymi i obshchestvennymi deiateliami (1865–1886) / Pod obshch. red. A. P. Dmitrieva i B. F. Egorova. SPb., 2018.
- Ob izdanii «Russkoi besedy» (Zapiska K. S. Aksakova (1856) s otvetom A. I. Kosheleva) / Publ. i komm. A. P. Dmitrieva // «Russkaia beseda». Istoriia slavianofil’skogo zhurnala: Issledovaniia. Materialy. Postateinaia rospis’ / Pod red. B. F. Egorova, A. M. Pentkovskogo i O. L. Fetisenko. SPb., 2011.
- Pavlova V. A. N. I. Vtorov i ego kruzhok // Ocherki literaturnoi zhizni Voronezhskogo kraia. XIX — nachalo XX v. Voronezh, 1970.
- Perepiska I. S. Aksakova i Iu. F. Samarina (1848–1876) / Izd. podg. T. F. Pirozhkova, O. L. Fetisenko, V. Iu. Shvedov. SPb., 2016 (Slavianofil’skii arkhiv; kn. 3).
- Sem’ia Aksakovykh i N. S. Sokhanskaia (Kokhanovskaia): Perepiska (1858–1884) / Sost., vstup. stat’ia, podg. teksta i komm. O. L. Fetisenko. SPb., 2018.
- Suvorin A. S. Pis’ma k M. F. De-Pule / Publ. M. L. Semanovoi // Ezhegodnik Rukopisnogo otdela Pushkinskogo Doma na 1979 god. L., 1981.
- Turgenev I. S.
/ Publ. N. P. Generalovoi, A. Ia. Zvigil’skogo, V. A. Kosheleva // Russkaia literatura. 1995. № 4. - Udodov B. T. De-Pule Mikhail Fedorovich // Russkie pisateli. 1800–1917: Biograficheskii slovar’. M., 1992. T. 2.
- Vikhrova N. N. Pushkin v dnevnike molodogo Ivana Aksakova // Russkaia literatura. 1999. № 2.
- Vikhrova N. N. Pushkin v istoriosofskom spore Ivana Aksakova i Vladimira Solov’eva // Solov’evskie issledovaniia. 2023. № 3.
- «Vse my, blagorodno-prostodushnye provintsialy…»: Pis’ma Kokhanovskoi (N. S. Sokhanskoi) k M. F. De-Pule (1860–1866 gg.) / Vstup. stat’ia, podg. teksta i komm. O. L. Fetisenko // Ezhegodnik Rukopisnogo otdela Pushkinskogo Doma na 2020 god. SPb., 2020.