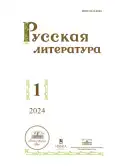Correspondence between I. S. Aksakov and R. A. Fadeev in 1874−1882
- Authors: Levshina E.S.1
-
Affiliations:
- Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom), Russian Academy of Sciences
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 89-102
- Section: К 200-летию со дня рождения И. С. Аксакова
- URL: https://journal-vniispk.ru/0131-6095/article/view/257529
- DOI: https://doi.org/10.31860/0131-6095-2024-1-89-102
- ID: 257529
Full Text
Abstract
The correspondence between the two prominent social and political figures of the 1860−1880s, I. S. Aksakov and R. A. Fadeev, is introduced into the academic circulation. The letters are most valuable both for understanding the obscure nuances of the social atmosphere of the post-reform period, and for the more in-depth studies of the ideological disputes among the political journalists who have contributed to the emergence of an arguably feasible program for the further development of Russia.
Keywords
Full Text
Ростислав Андреевич Фадеев (1824–1883) занимал видное место в общественно-политической жизни России в конце 60-х — начале 80-х годов XIX века. Боевой генерал, военный писатель, публицист, мыслитель, он с неиссякаемой энергией брался за разнообразные проекты и до последней возможности боролся за их продвижение и реализацию. Независимо от освещаемого предмета — будь то история покорения Кавказа, славянский вопрос или программа дальнейшего государственного строительства, — его книги и статьи не оставались незамеченными и вызывали большой резонанс, в том числе международный.
Фадеев был представителем «культурной семьи, полной научного и литературного интереса и исторических преданий».1 Большое влияние на личности Фадеева и его трех сестер оказала мать Елена Павловна (урожд. кн. Долгорукая) — разносторонне образованная женщина, обладавшая широкими познаниями, любившая и ценившая поэзию. Отец Андрей Михайлович — высокопоставленный чиновник в Закавказском крае — встречался в Кишиневе с А. С. Пушкиным и получил в подарок автографы поэм «Бахчисарайский фонтан» и «Кавказский пленник», которые были затем преподнесены супруге, пришедшей от них в восхищение. Родители Фадеева не были чужды и публицистической деятельности: отец известен своими экономическими статьями и воспоминаниями; мать, помимо воспитания подрастающего поколения, занималась изучением флоры Кавказа и приобрела имя в научном мире благодаря публикациям по ботанике.2 Из семьи Фадеевых вышли профессиональные литераторы: старшая сестра Р. А. Фадеева Елена Андреевна Ган, ее дочери — теософ Елена Петровна Блаватская и детская писательница Вера Петровна Желиховская. Племянник Фадеева Сергей Юльевич Витте в начале 1880-х годов также занимался литературно-издательской деятельностью, являясь инициатором создания и «тайным центром» конспиративной организации «Священная дружина», затем, что существенно для нас, сотрудничал в газете «Русь» (в конце 1884 — 1885 году).3 С И. С. Аксаковым он познакомился еще в начале 1870-х годов, когда, занимая пост управляющего Одесской железной дороги, активно участвовал в деятельности Одесского славянского благотворительного общества. Полагаем, что личные отношения самого Фадеева с Аксаковым завязались в это же время: такой вывод можно сделать и из хронологии перемещений Фадеева в указанный период, восстановленной исследователями биографии генерала, и из текста его послания к Аксакову от 6 ноября 1874 года — первого в числе публикуемых ниже писем.
Корреспонденция Фадеева и Аксакова 1874–1882 годов заслуживает внимания по многим причинам. Прежде всего, она содержит сведения о взаимоотношениях двух мыслителей, сравнимых по величине и внесших свой вклад в разработку приемлемой и исторически обусловленной, с их точек зрения, программы дальнейшего развития России. Аксаков и Фадеев были ровесниками, прекрасно образованными представителями одного поколения, интеллектуально подготовленными не только к анализу и критической оценке прошлого и настоящего своей страны, но и способными к выработке конструктивных предложений, основанных на жизненном опыте и знакомстве с российскими реалиями.
Отметим, что изложение собственной позиции не являлось самоцелью для обоих корреспондентов. Они в равной степени обладали умением выслушать точку зрения собеседника и затем вести аргументированную дискуссию — не только на страницах периодических изданий, но и в личной переписке. Примечательны части писем, в которых авторы указывают друг другу на конкретные расхождения во взглядах и слабость того или иного положения. Публикуемые в комплексе, послания позволяют «читать между строк» там, где отсутствуют ответные письма Аксакова, и частично реконструировать эпистолярный диалог.
В одном из писем 1874 года поражает открытость и гибкость ума Фадеева, его эмоциональное признание в неожиданном «знакомстве» с Аксаковым-мыслителем, давшим московским славянофилам «кодекс, трезвый, исправленный от многих прежних увлечений, в виде прелестно написанной биографии» — очерка о Ф. И. Тютчеве. Именно эта книга, с ее «особой группировкой идей», показала Фадееву «новые перспективы» в славянофильстве, доказала, «что оно способно к дальнейшему развитию».
Письма Фадеева к Аксакову свидетельствуют об искреннем уважении, даже пиетете, с которым автор относился к своему корреспонденту. Особенно показательно уже упоминавшееся послание, содержащее восторженный отзыв о написанной Аксаковым биографии Тютчева. С другой стороны, предположим, что эти возвышенные чувства соседствовали с меркантильными соображениями: Фадеев рассчитывал на поддержку своих программ, их широкую огласку и активную дискуссию в печати, «старт» которой могли дать публикации в авторитетных периодических изданиях. После прочтения писем Фадеева к И. С. Аксакову, Ю. Ф. Самарину, А. С. Суворину, сопровождавших присылку новой книги, складывается впечатление, что, когда дело касалось популяризации собственных идей, в правилах генерала было действовать нахрапом, — возможно, сказывался многолетний боевой опыт Кавказской войны. Как видно, образное выражение о «втискивании» идей в «тугую среду» — русское общество, — использованное в одном из публикуемых посланий, было на практике применимо и к выдающимся представителям русской мысли, во влиянии которых на умы Фадеев был заинтересован.
Представляется, что человеческие качества Фадеева, его манера добиваться своей цели были неприемлемыми, отталкивающими с точки зрения Аксакова. Известно письмо последнего к М. Г. Черняеву, в котором говорилось: «…Фадеев же мне антипатичен до омерзительности, хотя, бесспорно, писатель не без таланта. Мысль он может подать блестящую, но исполнителем быть не годится, что, впрочем, он и доказывает на деле».4 Совершенно оставить без внимания эту фразу нельзя, однако письмо написано в 1876 году, 7 сентября, в период борьбы между Аксаковым и Фадеевым за руководство сбором денег в пользу болгар, поэтому, возможно, она столь эмоционально окрашена под впечатлением от конкретных поступков и интриг генерала. В более позднем письме Аксакова к Фадееву, 1882 года, нет пренебрежения, нет ни следа тех сильных чувств, о которых было написано Черняеву. Подобное отношение — конечно, без сердечности, сдержанное, нашло отражение в некрологе Фадееву, который появился на страницах газеты «Русь»: в нем Аксаков воздал должное уму и таланту своего корреспондента и оппонента, не преминув, однако, подчеркнуть неспособность воплотить в жизнь разработанные им проекты.5
При всей сложности обсуждаемых Фадеевым и Аксаковым вопросов, их письма обладают несомненными достоинствами с литературной точки зрения: они являются примером богатой, выразительной письменной речи. Послания также добавляют штрихи к портретам неординарных личностей, демонстрируя их несхожую манеру изложения: витиеватый, «густой», но темпераментный стиль Фадеева против лишенного пафоса, лапидарного, меткого слога Аксакова. Наконец, письма отражают степень накала общественно-политической жизни 1870–1880-х годов и служат дополнительными источниками для изучения ее истории в указанный период.
Необходимо отметить, что отдельные цитаты из публикуемых писем уже были введены в научный оборот: в 1998 году вышла в свет первая «полномасштабная политическая биография» Фадеева, написанная волгоградским историком О. В. Кузнецовым.6 Однако весь комплекс посланий представлен впервые.
Добавим также, что за пределами настоящей публикации мы сознательно оставляем двустороннюю переписку Аксакова и Фадеева, хранящуюся в Отделе рукописей РНБ, в фонде И. С. Аксакова. Она датируется сентябрем 1876 года и касается сбора пожертвований в пользу болгар и распоряжения полученными средствами.7 Эта переписка носит сугубо деловой характер и, на наш взгляд, требует внимательного рассмотрения в контексте другой корреспонденции, так или иначе связанной с борьбой славянских народов за независимость в 1870-х годах. Таким образом, в научный оборот вводятся полные тексты только личных писем Аксакова и Фадеева.
Письма Фадеева и черновое письмо Аксакова публикуются по автографам, хранящимся в Рукописном отделе ИРЛИ, в фонде С. Т., К. С. и И. С. Аксаковых (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 639; Оп. 2. № 77); письмо Аксакова от 12 ноября 1874 года печатается по копии, сделанной рукой Фадеева, хранящейся в РГИА, в фонде А. М. и Р. А. Фадеевых (РГИА. Ф. 1100. Оп. 1. № 36).8 Пунктуация и орфография в документах, за редкими исключениями, приведены в соответствие с современными нормами; авторские сокращения раскрыты в угловых скобках; авторские подчеркивания даны курсивом; зачеркнутый автором текст приведен в квадратных скобках; сохранено авторское написание некоторых слов с прописной буквы, а также устаревшее написание некоторых слов; описки и иные погрешности текстов исправлены без пояснений.
1 Автографы известных и замечательных людей (Из архива С. Ю. Витте) / [Публ. А. П. Барсукова] // Старина и новизна: Исторический сб. 1905. Кн. 9. С. 275.
2 Подробнее см.: Там же. С. 274; Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ / Сост. С. В. Лебедев, Т. В. Линицкая; предисловие и комм. С. В. Лебедева. М., 2010. С. 6–8.
3 Об этом см.: Левшина Е. С. С. Ю. Витте и И. С. Аксаков в 1880-е гг. // Петербургский исторический журнал. 2016. № 3. С. 235–238.
4 Освобождение Болгарии от турецкого ига: Документы: В 3 т. М., 1961. Т. 1. Освободительная борьба южных славян и Россия. 1875–1877. С. 387.
5 «30 декабря, в Одессе, скончался умный человек и талантливый публицист, генерал-лейтенант Ростислав Андреевич Фадеев, автор, между прочим, известных „Писем о современном состоянии России“, выдержавших, если не ошибаемся, четыре издания. Едва ли не в десять раз более писал он не для печати — в виде докладных записок, заметок, проектов, рапортов и официальных писем, по разным военным и административным, особенно по управлению Кавказом, вопросам. Если эти рукописи не всегда содержали в себе удачные предположения в смысле преобразовательном, то можно наверное сказать, они всегда представляли меткую и бойкую критику настоящего, — всегда заслуживали, да и теперь заслуживают внимания» (Русь. 1884. 1 янв. № 1. С. 13).
6 См.: Кузнецов О. В. Р. А. Фадеев: генерал и публицист. Волгоград, 1998.
7 См.: 1) письмо Аксакова к Фадееву от 16 сентября (РНБ. Ф. 14. № 28. Л. 1–4 — автограф и писарская копия с приписками Аксакова; на бланке Славянского благотворительного комитета в Москве; Там же. № 440. Л. 11–12 об. — автограф, на бланке Славянского благотворительного комитета в Москве); 2) ответ Фадеева на письмо Аксакова от 16 сентября (Там же. № 371. Л. 1–2); 3) письмо Фадеева к Аксакову от 20 сентября (Там же. № 440. Л. 17–21 об.); 4) письмо Фадеева к Аксакову от 23 сентября, с приложением визитной карточки И. К. Кишельского (Там же. Л. 23–24).
8 Выражаем глубокую признательность за всестороннюю помощь в подготовке материалов коллегам из Пушкинского Дома — А. П. Дмитриеву и В. А. Лукиной.
1
Милостивый государь Иван Сергеевич.
Помимо даже личного знакомства с Вами, которым я имел честь пользоваться несколько лет тому назад, я считаю приятным долгом представить Вам вновь вышедшую мою книгу, под заглавием «Русское общество в настоящем и будущем».1 До сих пор я не посылал Вам своих сочинений, по их исключительной военной специяльности.2 Теперь же я написал сочинение чисто политическое, о краеугольном вопросе — жить нам или прозябать — и повергаю его на Ваш суд. Между нами есть, несомненно, несколько точек соприкосновения, хотя с других сторон, может быть, мы и расходимся.
Прошу Вас принять уверение в совершенном почтении и преданности
Ростислав Фадеев
Петербург
Гост<иница> «Париж»3
6 ноября 1874.4
В левом верхнем углу л. 1 рукой неустановленного лица карандашом приписано: «6». На л. 1 об. рукой Аксакова в столбик чернилами приписано: «Мундир. Черные брюки. Халат. Плед. Подушка. Три руб<ля>».
1 См.: Фадеев Р. А. Русское общество в настоящем и будущем (Чем нам быть?). СПб., 1874. В книгу вошли статьи, опубликованные в газете «Русский мир» с марта по июнь 1874 года; ее ведущим сотрудником Фадеев стал в 1872 году. Оппозиционная военному министерству и лично Д. А. Милютину, газета стала выходить в сентябре 1871 года; ее редактором-издателем был полковник в отставке В. В. Комаров. В 1873 году печатный орган был приобретен М. Г. Черняевым. См. также комм. 5 к п. 4.
2 См., например: Фадеев Р. А. 1) Шестьдесят лет Кавказской войны. Тифлис, 1860; 2) Письма с Кавказа к редактору Московских ведомостей. СПб., 1865; 3) Наш военный вопрос: военные и политические статьи. СПб., 1873.
3 Фадеев не имел собственного жилья в Петербурге; приезжая в столицу, он всегда останавливался в гостинице «Париж». Она была открыта в 1804 году в доме 18 по Малой Морской улице (ныне — Малая Морская ул., 23 / Вознесенский пр., 8), славилась демократичными ценами, а также удобством и роскошью. В 1847–1849 годах в «Париже» занимал комнаты Ф. М. Достоевский.
4 6 ноября 1874 года Фадеев отправил свою книгу и Ю. Ф. Самарину, также сопроводив ее письмом. См.: Письма Р. А. Фадеева Ю. Ф. Самарину / Публ. С. М. Сергеева // Фадеев Р. Кавказская война. М., 2005. С. 611–613.
2
От всей души благодарю Вас за присылку Вашей любопытной и замечательной книжки. Вы напрасно думаете, что я не знаком с Вашими специальными сочинениями, — они, — независимо от своей военной специальности, отличаются блистательным литературным изложением. Конечно, я со многим не согласен в Ваших статьях, собранных теперь под общим названием «Русское общество в настоящем и будущем» или «Чем нам быть?» — Но не могу не признать верности Ваших так называемых точек отправления, Вашей критики и многих, даже основных, положений.
Увы! ошибка заключается — не столько в Ваших предположениях, сколько в том, что приходится строить нашу жизнь a priori, сочинять ее… Плохо, когда дошло до того, что мы спрашиваем себя: «Чем нам быть?»… Жизнь должна бы сама твориться, es wird, как говорят немцы, а не wird gemacht.1 Вот и французы спрашивают себя — чем им быть? Не то республикой, не то империей, не то традиционной монархией. Признак гибели для Франции в самой постановке вопроса. Это значит, что творчество самой исторической жизни иссякло, и приходится заменять непосредственную силу творчества сочинительствами, теоретическими комбинациями.
Конечно, Россия не в таком положении, хотя со времен великого сочинителя Петра целая половина ее — весь культурный слой, как Вы называете, — живет в области абстракта. Тем не менее я верю еще в непосредственный творческий прогресс самой России вопреки теоретическим над нею мудрованиям. Самое то, что — что ни посеешь, все вырастает у нас чертополохом, — не есть ли своего рода выражение протеста со стороны безгласной нашей почвы, которая тем и протестует против непригодности влагаемых в нее семян? — Но нельзя не заметить, что подобные эксперименты способны истощить почву.
Процесс самосозидания, самослужения и самороста усложняется и затрудняется в своей свободе, вообще, и теперь у нас, от постоянного своего отражения в зеркале сознания, — от того, что называлось прежде «рефлексией». Но делать нечего, — от этого усложнения теперь уже не избавишься. Ваше «ценсовое дворянство», по моему мнению, отзывается сочинением, но таким же сочинением было и есть наше земское и сельское самоуправление. Будем прислушиваться к голосу самой жизни и не станем торопиться. Авось либо какие крупные события озарят нас внезапным светом.
Сообщите мне, прошу Вас, Ваше отчество, — мне совестно признаться, что я его не знаю. Мне хотелось бы послать Вам экземпляр недавно изданной мною биографии Тютчева.2
Ив. Аксаков
Кисловка, дом Азанчевского.3 12 ноября 1874. Москва
В верхнем поле л. 1 — заголовок рукой Фадеева: «От Ивана Сергеевича Аксакова, по поводу сочинения „Чем нам быть“». Впервые опубл. (с рядом упущений и неточностей): Автографы известных и замечательных людей. С. 369–370. Как следует из предисловия Барсукова к изданию документов, текст письма Аксакова входил в рукописный сборник, заведенный отцом Фадеева и продолженный сыном.
1 Es wird — это будет (нем.); wird gemacht — будет сделано (нем.). То есть делаться, а не быть сделанной.
2 См. п. 4. наст. публ.
3 Имеется в виду усадьба Матюшкиных — Азанчевского, современный адрес — ул. Воздвиженка, 12 / Большой Кисловский пер., 1. Была построена в XVIII веке родственниками Романовых Матюшкиными; в начале 1870-х годов куплена братьями Азанчевскими, перестроившими господский дом — в нем разместились меблированные комнаты, а также различные организации.
3
Петербург 15 ноября 1874.
Милостивый государь Иван Сергеевич.
Очень обязан Вам за любезный ответ и буду обязан в такой же степени за биографию человека, оставившего столько теплых и хороших слов в память о себе. Я знал, что не встречу полного согласия на свое мнение с Вашей стороны, и даже не мог ждать его, потому что не имею права сказать, чтобы вполне и безусловно питал в себе его, даже лично.1 Но в обстоятельствах подобного рода надо выбирать из худшего наименее худшее. Я нисколько не сомневался, что предлагаемое мною культурное сословие государственных избирателей есть сочинение, но притом все-таки, по-моему, сочинение, наиболее подходящее к нашим современным условиям. Я думаю, что для нас теперь нужнее всего: 1, общественная деятельность в руках культурных людей, — и 2, некоторая власть общества над своими членами. Прежде, чем думать о том, что делать, нам нужно приобрести возможность что-нибудь делать, а для этого следует связаться. Я выставил единственную осуществимую общественную связь, которую глаз мой видит в России.
В сущности, было время, когда я желал, как Вы теперь, ждать событий, возлагая на них всю надежду. Нынешняя разница в нашем взгляде заключается, главнейше, в оценке этих возможных событий; если б мы сошлись на этой точке, то, может быть, пришли бы во всем прочем к одинаковым заключениям. Без сомнения, события, которые вывели бы нас из будничных взглядов и мелких расчетов текущего дня к более широким идеалам, поддали бы нам жизненной силы. Но, сколько я понимаю, никакие внутренние события такого характера и неразрушительного свойства у нас надолго немыслимы, даже при перемене царствования. Остаются только события внешние — северная или южная половина славянского вопроса, как я назвал их в известной Вам, вероятно, брошюре о восточном вопросе.2 Прежде, действительно, я ждал нашего спасения от этого толчка. Но прежде было не то, что теперь. Поверьте мне, съевшему зубы на наших военных делах. Боевая сила России уничтожена до корня, уничтожена так радикально, что борьба с кем бы то ни было для нас немыслима надолго. Фельдмаршал князь Барятинский3 говорил Государю4 совершенную правду, что на нынешнюю армию, предводимую столоначальниками вместо генералов и командуемую писарями вместо офицеров, благоразумнее вовсе не полагаться, а готовить понемногу ополчение и выводить его, когда придет крайность, с церковными хоругвями вместо знамен. Но для этого ополчения у нас нет ни одного (sic) запального ружья и ни одного орудия. Стало быть, события, которые Вы вводите в свой расчет будущего как благоприятный фактор, представляются мне, естественно, как фактор гибельный, как начало конца. Прошу Вас обратить внимание на то, что разрушение армии есть у нас не случайный эпизод, а последствие систематического применения к войску ложной, действительно нигилистической системы, введенной в государственный строй; оно не может быть направлено отдельно, пока не устранен источник зла. Сказал бы Вам многое на словах, а тут не место.5
Зовут меня Ростислав Андреевич. Гост<иница> «Париж» на Малой Морской.
Прошу Вас принять уверение в совершенном моем почтении и преданности.
Р. Фадеев
В правом верхнем углу л. 2 рукой неустановленного лица карандашом приписано: «4)».
1 Здесь и далее в письме Фадеев ведет речь о своей программе государственных преобразований, изложенной в книге «Русское общество в настоящем и будущем (Чем нам быть?)». По мнению автора, современное ему российское общество находилось в состоянии «расслабленности», было лишено внутренней организации и связей; под «сочинением» он имеет в виду идею превращения обновленного дворянства в организующий центр земского движения, при условии что государство снова сделает это сословие привилегированным, в то же время служилым и открытым для вступления в него одаренных интеллектуалов из низших слоев общества. Обновленное дворянство, по мысли Фадеева, должно было заменить старую бюрократию и офицерство.
2 В ноябре 1869 года Фадеев поместил ряд статей по славянскому и восточному вопросам в «Биржевых ведомостях»; в начале 1870 года статьи были изданы отдельной книгой, принесшей автору мировую известность: она стала сенсацией, была переведена на английский, болгарский, чешский языки. См.: Фадеев Р. А. Мнение о восточном вопросе по поводу последних рецензий на «Вооруженные силы России». СПб., 1870. В конце 1860-х годов Фадеев являлся убежденным панславистом и выдвинул идею создания общеславянского союза во главе с русским царем, в котором русский язык стал бы политическим и связующим. Автор говорил о неизбежном столкновении славянского мира с германским, а также об окончательном решении славянского вопроса путем ликвидации Австро-Венгрии — главного препятствия на пути создания союза.
3 Барятинский Александр Иванович (1815–1879) — государственный и военный деятель; в 1856–1862 годах командовал Отдельным Кавказским корпусом, затем Кавказской армией и был наместником на Кавказе; генерал-адъютант, генерал-фельдмаршал; член Государственного совета. В 1858 году должность офицера по особым поручениям при главнокомандующем занял Фадеев. В течение трех лет Барятинский вел успешную военную кампанию на Восточном Кавказе, нанес решающий удар войскам противника, взял в плен имама Шамиля (1859); в 1861-м, по причине расстроенного здоровья, уехал в продолжительный отпуск за границу, фактически завершив военную и административную деятельность на Кавказе; в 1862-м вышел в отставку.
4 Имеется в виду император Александр II.
5 Проблема реорганизации и укрепления вооруженных сил России — одна из тем, к которой постоянно обращался Фадеев в своих трудах. Подробнее о его взглядах и о полемике с военным министерством см.: Кузнецов О. В. Р. А. Фадеев: генерал и публицист. С. 28–32, 47–58; Морозов Е., Сергеев С. Опоздавший Потемкин // Фадеев Р. Кавказская война. С. 8–9, 18–20.
4
Одесса, Греческий переулок, дом Криони1
Милостивый государь Иван Сергеевич.
Собираясь на днях в долгий путь на восток,2 я должен еще поблагодарить Вас перед отъездом за высокое удовольствие, доставленное мне Вашею книгою о Ф. И. Тютчеве.3 Я полагал, что книга эта — не более как биография покойного, о прозаических статьях которого я не имел понятия; Вы открыли теперь русскому обществу [и] Тютчева, и самого себя. Позвольте мне откровенную речь: я знал Вас по периодической печати как талантливого журналиста, но не знал как самостоятельного мыслителя; Вашей книгой Вы завоевали себе сразу первое место в своем лагере. Я давно знаком с так называемым славянским московским учением; несмотря на то, особая группировка идей в Вашей книге, с гораздо большею сдержанностию и критическою проверкою, чем то было при распространении учения в пятидесятых годах, открыла мне в нем новые перспективы, доказала, что оно способно к дальнейшему развитию. Понятно поэтому, какое впечатление оно должно производить на людей, вступающих впервые, посредством ее, в этот новый мир русской мысли, популяризованный уже отчасти в своих прикладных выводах, но до сих пор еще весьма мало известный в своей сущности и своих подлинных источниках. До Вашей книги славянско-московское учение не выставляло еще своего кодекса, необходимого для всех образованных людей, готовых отдать справедливость сериозной мысли, но которые, тем не менее, не станут отыскивать ее в разрозненных источниках. Вы дали им такой кодекс, трезвый, исправленный от многих прежних увлечений, в виде прелестно написанной биографии; понятно впечатление, произведенное ею на умных, но не знавших даже постановки этого вопроса людей, которым удалось до нее добраться. Вы обратили на путь, между прочими, двух братьев, моих приятелей, генерал-адъютантов князей Мирских4 — людей замечательно умных, также генерала Черняева.5 Должен высказать Вам мнение: по моему разумению, Вы показали чрезвычайный такт, обойдя все вопросы внутренней политики, о которых ныне уже невозможно говорить с успехом в прежнем славянофильском смысле. Но я не могу скрыть от Вас и упрек: издавая замечательную книгу, не должно поступать, как Вы поступили, назначая ее, кроме подписчиков «Р<усского> архива», для одних друзей и знакомых; мне удалось говорить об ней в Петербурге только с немногими, которым Вы ее прислали или которым я дал ее прочитать. Нельзя не видеть, что русское общество — среда до такой степени тугая, что в нее нельзя проводить идей, их надо втискивать в нее материальными средствами, заставляя читать. Для этой цели я разослал свое последнее сочинение в числе 1 ½ тыс<яч> экземпляров всем, кому нужно. Вашей же книги, с которой должно начаться распространение восточничества как учения, нет даже в продаже.
Упомянув о своем сочинении, я открыл себе переход к короткому ответу на Ваши замечания о нем. Я не полагал, чтоб она давала повод к возражению об es wird u<nd> wird gemacht, так как мне и в голову не приходила мысль выдавать механическую комбинацию, выставленную мною как совершенное лекарство, за нечто органическое в самом себе. Позвольте мне сравнение: когда сажают дерева, то при этом не предпринимают никакого творчества организмов, но совершают механическую работу, без которой, однако ж, организм не появится; ветер не занесет в целые веки семя туда, куда преднамеренно опущает его рука; затем как будет угодно природе, заменяющей провидение для деревьев. Я не признаю также неудобства, будто бы неразрывного с нашею ступенью развития — формироваться в век сознательности, потому что не признаю ни в какой мере сознательности нынешнего русского общества; оно только болтает заучоные <так!> фразы, в сущности же, не исключая даже умных русских людей, до сих пор самое инстинктивное, самое первобытное, бараньи повинующееся каждому крупному впечатлению. У нас еще можно управлять впечатлениями общества, было бы только кому их направлять. Разумеется, это дело правительства; но правительство наше, в нынешней его обстановке, совершенно неспособно к такому делу. Образовавшаяся вокруг него казенно-чиновничья корка, пропитанная всеми преданиями прожитого времени, способна к почину всякого рода лишь на счет других, но только не себя; она способна к либерализму всякого рода, но не иначе как с своего прямого разрешения. Корке этой отлично живется и добровольно она не уступит места никому. Один государственный чиновник говорил мне недавно: если б дойти до того, чтоб Россией управляли директоры, это было бы большим прогрессом; но нет, все дело в руках начальников отделений. Вот безвыходный круг, в котором мы замкнуты и в котором некоторые забавляются либерализмом с разрешения начальника отделения. Оттого, как только мы перешли из эпохи чисто материальных вопросов в эпоху других, сколько-нибудь нравственных, у нас начался — не застой, с которым можно бы еще было помириться, а полнейшее разложение, которому не видать конца. Я вижу в Одессе профессоров, которые, в качестве присяжных, говорят заранее в суде прокурорам: «Хлопочите как угодно об обвинении, для нас нет виноватых», — и доказывают слово делом. Безобразие материяльной и нравственной жизни в областях, при водевильной самодеятельности сброда людей, не связанных никаким общим интересом, с разрешения ближайшего чиновника, совершенно равнодушного к делу — начинает достигать у нас невиданных на свете размеров. Россия остается совершенно без хозяина, потому что верховная власть, как Вы знаете, есть только принцип, а не живая действительность; все дело в том, каким орудием она орудует, какой силой действует. Я считаю, что русской земле нельзя оставаться без хозяев и что этими хозяевами не может быть более казенное чиновничество, без попечного и неисправимого нашего растления. Русской власти необходимо заменить — постепенно, но без проволочки времени — свое служебное чиновничество каким-либо другим орудием действия [каким — конечно, тем, кото<рое>], имеющим связь с землею и с общим интересом. Такого орудия нельзя сочинять, можно взять только то, какое есть, как бы ни было оно несовершенно. О шутке всесословности говорить нечего, хотя бы потому, что правительство никогда не станет слушать такого разговора сериозно; но оно положительно расположено — если не делать покуда, то хоть слушать то, о чем я говорил. А Вы позволите мне присказку: когда люди задыхаются в жаркой комнате, то дело в том, чтобы высадить раму, не заботясь о последствиях сквозного ветра и других неудобствах. Я уже не говорю о нашем вопросе внешнем, который, по моему убеждению, висит на нитке и может оборваться, при нашей нынешней неспособности встретить его. Потому, признаюсь, вопреки Вашему мнению, я полагаю, что нам есть, куда торопиться.
Извините за это длинное, но все еще слишком короткое письмо, прошу Вас принять уверение в совершенном моем почтении и преданности
Р. Фадеев
В левом верхнем углу л. 10 рукой неустановленного лица фиолетовым карандашом приписано: «33». Датируется исходя из содержания: после 15 ноября — декабрь 1874 года.
1 Возможно, дом, принадлежавший греческой семье Криони, до недавнего времени располагавшийся по современному адресу Красный пер., 1. В Одессе жили сестры Фадеева — Екатерина (в замуж. Витте; 1821–1897) и Надежда (1829–1919). Они переехали в этот город в 1868 году, после смерти Ю. Ф. Витте (1814–1868). На момент переезда там уже учились племянники Фадеева — Борис и Сергей.
2 В начале 1875 года Фадеев принял предложение египетского хедива, отказавшегося подчиняться турецкому султану, возглавить реорганизацию местной армии и отправился в Африку; службу в Египте он оставил в апреле 1876 года. Подробнее об этом см.: Кузнецов О. В. Р. А. Фадеев: генерал и публицист. С. 88–93.
3 Аксаков И. С. Федор Иванович Тютчев (1804–1873) / С гравированным портретом Тютчева // Русский архив. 1874. № 10. Стб. 408.
4 Вероятно, Д. И. и Н. И. Святополк-Мирские, князья (с 1861 года). Дмитрий Иванович Святополк-Мирский (1824, или 1825, или 1826–1899), генерал-адъютант, генерал от инфантерии; член Государственного совета; с 1841 года воевал на Кавказе; в 1852-м состоял в непосредственном подчинении у князя Барятинского; участник Крымской войны и Русско-турецкой войны 1877–1878 годов; в 1875–1880-м — помощник кавказского наместника великого князя Михаила Николаевича. Выразил солидарность со взглядами Фадеева на устройство русской армии, изложенными в книге «Вооруженные силы России» (М., 1868). Николай Иванович Святополк-Мирский (1833–1898), генерал-адъютант, генерал от кавалерии; член Государственного совета; участник Крымской войны и Русско-турецкой войны 1877–1878 годов; в 1881–1898-м — войсковой наказной атаман Войска Донского.
5 Черняев Михаил Григорьевич (1828–1898) — генерал-лейтенант; военный губернатор Туркестанской области (1865–1866), главнокомандующий Сербской армией (1876), туркестанский генерал-губернатор (1882–1884). В 1873 году приобрел газету «Русский мир», был ее издателем и редактором до 1878 года. С Фадеевым был знаком еще по службе на Кавказе.
5
Представляю Вам, многоуважаемый Иван Сергеевич, напечатанные, наконец, за границею письма 1879–1880 гг. покойному Государю, которых начало Вы читали в Москве и выражали сожаление, что они не могут быть напечатаны.1 Тогда было так, и значит, что в этом отношении, по крайней мере, мы ушли вперед, когда невозможное полтора года назад стало возможным. Из-за напечатания этих писем за границею подымался несколько раз вопрос, покойный Государь еще в прошлом июле поручил заключение Милютину,2 Лорису3 и Гирсу,4 и они одобрили его, но в ту пору помешали Валуев5 и Маков6 особым докладом. К весне покойный Государь дал, наконец, согласие, новый подтвердил.7 И вот является в России изложение мнения о наших порядках, еще смелее, могу сказать, Вашего, хотя довольно однородное с ним. Вы увидите, что эти письма приведены к литературной форме и много дополнены (ввиду происшедшего у нас, я стал терять терпение, а потому стал смелее). Они покажутся Вам почти новой работой сравнительно с прежде прочитанной.
Надо сказать, что Х письмо принадлежит Воронцову-Дашкову,8 да кроме того, участие его было в большей части писем, потому в заголовке и сказано, что они писаны двумя лицами.9
Распространение книжки в России допущено только с разрешения Главного управления печатию. Не могу сказать Вам, можно ли говорить о ней печатно.10 На этот вопрос не отвечают категорически отрицательно, не выражают ясно согласия, его боятся.
Примите, Иван Сергеевич, выражение самых искренних моих чувств
Р. Фадеев
P. S. Я зачитываюсь Вашею «Русью».11 В первый раз, как стоит Россия, обсуждение наших русских вопросов поставлено на почве дела, а не условного и немощного мнения литературных кружков.
В левом верхнем углу л. 8 рукой неустановленного лица карандашом приписано: «61»; в правом верхнем углу л. 8 и л. 9 — карандашная пагинация рукой неустановленного лица: «[33] 115» и «116.» соответственно. Письмо было написано после 1 марта 1881 года, так как в нем упоминаются выход из печати заграничного издания «Писем…» Фадеева и покойный император Александр II.
1 См.: [Фадеев Р. А.]. Письма о современном состоянии России. 11го апреля 1879 — 6го апреля 1880. Лейпциг, 1881. Главным толчком к появлению первого письма стало покушение А. К. Соловьева на Александра II, состоявшееся 2 апреля 1879 года. В письмах автор пытался найти истоки зла, охватившего страну, и анализировал причины, по которым правительство не может его сокрушить.
2 Милютин Дмитрий Алексеевич (1816–1912) — граф; военный министр в 1861–1881 годах.
3 Лорис-Меликов Михаил Тириэлович (1824–1888) — граф (с 1878 года); генерал-адъютант, генерал кавалерии; министр внутренних дел в 1880–1881 годах.
4 Гирс Николай Карлович (1820–1895) — действительный тайный советник, статс-секретарь; товарищ министра иностранных дел в 1875–1882-м, министр иностранных дел в 1882–1895 годах.
5 Валуев Петр Александрович (1814–1890) — граф (с 1880 года); действительный тайный советник; министр внутренних дел в 1861–1868-м, министр государственных имуществ в 1872–1879-м, председатель Комитета министров, главноуправляющий Канцелярии Его Величества по принятию прошений в 1879–1881 годах.
6 Маков Лев Саввич (1830–1883) — действительный тайный советник; министр внутренних дел в 1878–1880 годах; член Государственного совета.
7 Имеется в виду император Александр III. Подробнее о борьбе Фадеева за издание см.: Кузнецов О. В. Р. А. Фадеев: генерал и публицист. С. 122–125.
8 Воронцов-Дашков Илларион Иванович (1837–1916) — граф; военный и государственный деятель; генерал-адъютант, генерал от кавалерии. Участник войны на Кавказе в 1859–1862 годах, Русско-турецкой войны 1877–1878 годов; помощник военного губернатора Туркестанской области (1866–1867), министр Императорского Двора и уделов (1881–1897), наместник на Кавказе (1905–1916). Стоял во главе конспиративной организации «Священная дружина», созданной для широкого противодействия революционному движению. Ее руководителями также являлись Фадеев, П. П. Шувалов, А. Г. Щербатов и др. «Священная дружина» существовала с марта 1881 по конец 1882 года; ее возникновение было также обусловлено борьбой в придворных кругах накануне убийства Александра II.
9 См.: [Фадеев Р. А.]. Письма о современном состоянии России. С. [III].
10 На страницах газеты «Русь» появились две статьи, посвященные первому изданию «Писем…». См.: 1) «Письма о современном состоянии России. 11 апреля 1879 г. — 6 апреля 1880 г.». Лейпциг, 1881 г. // Русь. 11 июля. № 35. С. 10–11; 2) Письма о современном состоянии России (изданные в Лейпциге 1881 года) // Там же. 18 июля. № 36. С. 5–6.
11 Первый номер газеты «Русь» вышел 15 ноября 1880 года.
6
Многоуважаемый Иван Сергеевич.
Вы можете видеть меру моего уважения и доверия к Вам из прилагаемого корректурного листка, который я вверяю Вам лично, с тем чтобы, до поры до времени, ни один глаз, кроме Вашего, его не видел. Слишком понятно, что министр Двора1 не может печатать программы государственного переустройства, не получившей окончательного соизволения свыше. Появление наших писем с этой припиской,2 чего мы надеемся вскоре, будет знаком, что программа принята. Из-за корректурного листа, посылаемого Вам, сыр-бор загорелся, что отозвалось в печати и в Вашей «Руси»,3 хотя действительное положение дела покуда не многим известно. Гр<аф> Игнатьев,4 разумеется, за приписку, но с своею оговоркою. Положение дел таково, что всякий министр внутренних дел, т. е. политический министр, Лорис5 или Игнатьев, или иной, через несколько месяцев приходит к убеждению, что он не может устоять на подмостках петровской эпохи и спасать Россию посредством чиновников.6 Но Игнатьев хотел видоизменить ход дела и вместо собора, венчающего здание самостоятельного земства, начать его венчанием на царство при соборе, которому были бы объявлены виды власти.7 Одно время существовал с ним компромисс, следы которого Вы увидите в нескольких строках, зачеркнутых красным карандашом. На прошлой неделе план Игнатьева отвергнут, а план, изложенный в приписке, стоит и, надо думать, пройдет, хотя и при ожесточенном сопротивлении.
Если Вы думаете, что в этой приписке следовало бы что-нибудь изменить или прибавить к ней, то напишите мне, не теряя времени, я буду рад сверить наши мысли с Вашими.
Преданный
Р. Фадеев
27 маия 1882.
В левом верхнем углу л. 6 рукой Аксакова чернилами приписано: «Отве<чено> 7 июня»; в центре верхнего поля л. 6 рукой неустановленного лица карандашом приписано: «40», «<18>82 г.».
1 Имеется в виду И. И. Воронцов-Дашков. См. комм. 8 к п. 5.
2 Речь идет о заключительном этапе предпринятых Фадеевым действий для напечатания четвертого издания «Писем о современном состоянии России». Второе и третье издание вышли в России анонимно и были, как и первое, стереотипны. Четвертое издание отличала от предыдущих приписка, о которой и говорит Фадеев; кроме того, анонимным оно не было. В приписке был изложен проект политической программы, разработанный Фадеевым и Воронцовым-Дашковым, в противовес проекту министра внутренних дел Н. П. Игнатьева. Она вошла в четвертое издание книги. См.: Фадеев Р. А. Письма о современном состоянии России: 11го апреля 1879 — 6го апреля 1880. СПб., [1882]. С. 149–167.
3 См. комм. 3 к п. 8.
4 Игнатьев Николай Павлович (1832–1908) — граф; генерал-адъютант, генерал от инфантерии; посол в Константинополе (1864–1877), министр внутренних дел (1881–1882); член Государственного совета.
5 Имеется в виду М. Т. Лорис-Меликов.
6 В «Приписке…» Фадеев неоднократно говорил о созданной верховной властью и содержащейся за счет казны либерально настроенной «опричнине», состоящей, главным образом, «из казенного слоя», появившегося при Петре I «для новых потребностей правительства, находившего очень удобным для себя еще недавно, до окончательного освобождения крепостных, существование административной армии, выделенной из страны в особую касту, взращенную в духе подражательного периода. Теперь в этом уже нет выгоды, но дело сделано» (Фадеев Р. А. Письма о современном состоянии России. С. 155–158).
7 Фадеев словесно обыгрывает предложение Игнатьева созвать земский собор в период коронации Александра III, чтобы продемонстрировать единение царя с народом.
7
Простите, что я до сих пор не отвечал Вам, многоуважаемый Ростислав Андреевич. Во-1х, Вы не сообщили Вашего адреса, и я теперь посылаю наугад, в г<остиницу> «Париж» на Морской; во-2х, о предмете Вашего письма желательно было бы переписаться не по почте, а оказий не было, да и до сих пор нет: теперь все бегут из Петербурга, и никто туда не стремится. В-3х, не успел я взяться за перо, чтоб отвечать Вам, или, лучше сказать, на первых же строках начатого письма как громом поразило меня известие о смене министров.1 Полагаю, оно и для Вас не безразлично. Я полагаю, впрочем, что сыр-бор загорелся не из-за корректурного листа, Вами мне присланного, а положение дела мне известно во всей точности. Теперь торжествует партия Победоносцева и Каткова.2 Образ мыслей нового министра по внутренним делам мне мало ведом, но не думаю, чтоб он сходился с Вашим, и по всему сдается, что на время должно сказать:
«Lasciate ogni speranza».3
Мысль об уездных нарочитых комитетах, проводимая Вами, верна, кажется мне, и с нее, без сомнения, следовало начать уже давно.4 Ее проводит, хотя с некот<орыми> изменениями,5 в своем журнале «Земство» и Кошелев,6 после того как он, сначала страстный поклонник земских учреждений в их настоящем виде, разочаровался в земских собраниях, оказавшихся хуже, чем несостоятельными, для решения вопроса об уезде. Во всяком случае, это будет лучше Кахановской комиссии.7 Но для того, чтобы Земский собор был авторитетом, нельзя его составлять из представителей земства. Попадет одна «интеллигенция». Нужны особые прямые выборы от сословий (крест<ьян> и пр<очих>) или групп, в том числе, пожалуй, и от земств.8 Впрочем, обо всем этом лучше поговорить, чем переписываться.
Преданный
Ив. Аксаков
Июня 7го / <18>82
Москва.
В центре верхнего поля л. 1 рукой неустановленного лица фиолетовым карандашом приписано: «6».
1 30 мая 1882 года граф Игнатьев был отправлен в отставку, новым министром внутренних дел назначен граф Дмитрий Андреевич Толстой (1823–1889).
2 Отклонение проекта Игнатьева стало результатом действий К. П. Победоносцева и М. Н. Каткова. Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) — действительный тайный советник; ученый-правовед, писатель, историк церкви. В 1880–1905 годах занимал пост обер-прокурора Святейшего синода. Катков Михаил Никифорович (1818–1887) — тайный советник; публицист, издатель, литературный критик; редактор газеты «Московские ведомости».
3 «Оставьте всякую надежду» (итал.) — заключительная часть надписи над воротами Ада в «Божественной комедии» Данте Алигьери.
4 См.: [Фадеев Р. А.]. Письма о современном состоянии России. СПб., [1882]. С. 162–163.
5 Фраза «хотя с некот<орыми> изменениями» вписана над строкой.
6 Кошелев Александр Иванович (1806–1883) — публицист, общественный деятель; славянофил. «Земство» — еженедельная газета; издатель-редактор — В. Ю. Скалон; издавалась в Москве с 1880 по 1882 год на деньги Кошелева, который принимал активное участие в редактировании газеты и поместил в ней немало статей.
7 Имеется в виду Особая комиссия для составления проектов местного управления, которую возглавил Михаил Семенович Каханов (1833–1900), действительный тайный советник, занимавший должность товарища министра внутренних дел Лорис-Меликова в 1880–1881 годах. Комиссия была создана в октябре 1881 года.
8 Об отношении Аксакова к проекту Земского собора см.: Переписка П. Д. Голохвастова с И. С. Аксаковым о «Земском соборе» // Русский архив. 1913. № 1–2.
8
Многоуважаемый Иван Сергеевич.
Долгие колебания разрешились, наконец, благополучно, четвертое издание писем выпущено.1 Я писал Шмицдорфу,2 чтоб он прислал Вам экземпляр, и полагаю, что он сделал еще ранее, не дожидаясь письма. При условиях, в которых состоялся выпуск этого издания, оно есть, конечно, крупное событие, далеко перевешивающее своим значением весь тот цикл больших и маленьких происшествий, сопровождавших появление статей Каткова (я говорю об этих статьях как о хронологической эре, так как собственного значения они не имели, разве только в предположениях публики).3 Теперь иное дело. Конечно, нельзя в журнале разъяснять обществу подкладочный смысл появления четвертого издания, но всякий рассудительный человек понимает, что если при нынешнем положении печати подобное издание разрешается, особенно ввиду исключительного положения предполагаемых его авторов (что в настоящую пору достаточно уже известно), то, следовательно, основная его идея не отвергается. Можно и должно придать этому обстоятельству его подлинный смысл и вообще распространиться о спорной книге (она стала спорной только в Москве, по причине Каткова) гораздо более, чем было в прошлом году, при первом ее появлении. Тогда и книга не имела заключения,4 достаточно для всех ясного, теперь оно есть, и для последующего чрезвычайно важно, чтобы сочувствие большинства к руководящей мысли книги выразилось с очевидностию, чтобы напряжение этого сочувствия соответствовало своим размером той важности, которую придавали выпуску ее в свет сверху, тем колебаниям в одну и другую сторону, которым<и> он сопровождался. Одним словом, издание это должно иметь большую огласку и открыть путь к разностороннему обсуждению предмета. Хотя некоторые заветные слова воспрещены ныне к печати, но положительные явления имеют свой обязательный смысл, независимо от толкований Главного управления по делам печати, и разрешение публиковать приписку к четвертому изданию не может никак сочетаться с возбранением разбора ее и обсуждения ее тэмы <так!> — необходимости покончить с бюрократической опекой воспитательного периода.5 Если б таково оказалось намерение ценсуры, то другие силы дадут ей отпор. Этого намерения, впрочем, я не предполагаю; можно было натянуть вожжи на час, но ведь от этой экзерциции немеют руки, и пальцы сами собой разжимаются. Настоящим случаем надо пользоваться, для чего я и пишу Вам. Отведите в «Руси» широкое место разбору книги с припиской.6 По возвращении в Петербург я сам открою печатный поход в виде комментарий на «Письма», предмет этот неистощимый, и если прибавить к книге только самое необходимое, то и того наберется много. Для меня лично было бы очень желательно, чтобы Катков возобновил полемику; тогда все политическое, всегда не совсем удобное у нас, когда высказываешь его без достаточного повода, освятилось бы законным правом под видом печатного спора; а на нашей стороне много сил, в том числе и литературных, даже главные силы на нашей стороне и прибывают с каждым днем.
Покуда я живу в Коджорах,7 летней даче тифлисцев (гора в 5 т<ысяч> ф<утов>), и переустраиваю Кавказ из наместничества в генерал-губернаторство вместе с целой комиссией. Это предмет также очень важный, так как нужно, наконец, восстановить правильное отношение государства к азиатским окраинам, которым так сильна была царская Россия и которое изуродовалось текущим столетием до того, что окраины эти приносят только одно — ежегодное возрастание дефицитов. Проездом через Москву я покажу Вам записку об этом предмете, писанную мною прошлою осенью и решившую посылку на место комиссии для рассортирования нагроможденного разными управлениями хаоса.8
Искренно преданный
Р. Фадеев
Коджоры близ Тифлиса.
26 июля <1882 года>.
В левом верхнем углу л. 4 рукой неустановленного лица карандашом приписано: «92 Фадеев»; в правом верхнем углу — «(п<исьмо> 1880)».
1 См. комм. 2 к п. 6.
2 Вероятно, речь идет о наследнике Генриха Шмицдорфа (?–1845), владельца торгово-издательской фирмы, основанной в Санкт-Петербурге в 1827 году; после его смерти до 1896 года существовала под его именем.
3 Речь идет, в частности, о передовых статьях Каткова в номерах «Московских ведомостей» от 12 и 22 мая 1882 года; в первой автор выступал против земского собора как такового, а во второй, задаваясь вопросом о сущности термина «земский собор», давал критический разбор основных положений анонимной брошюры «Письма о современном состоянии России». См.: Московские ведомости. 1882. 12 мая. № 130. С. 2; Собрание передовых статей «Московских ведомостей»: 1882 год / Изд. С. П. Катковой. М., 1898. С. 253–255. 22 мая последовал ответ Каткову на страницах газеты «Русь»: в передовой статье Аксаков делал экскурс в прошлое государства, желая «в мнении русских читателей, оправдать то историческое русское начало, которого „земские соборы“ в допетровской Руси <…> были только одним из самых выдающихся проявлений» (Русь. 1882. 22 мая. № 21. С. 1–4).
4 Имеется в виду «Приписка к четвертому изданию 1882».
5 Так в книге «Русское общество в настоящем и будущем» Фадеев именовал период, начавшийся при Петре I и закончившийся при Александре II; его отличительной чертой был «чисто-искусственный и подражательный характер». Царствование Александра II упразднило этот период, «вызвав общество к гражданской деятельности», и открыло эпоху зрелости в российской истории. См.: Фадеев Р. А. Русское общество в настоящем и будущем (Чем нам быть?). С. 5.
6 В этот же день, 26 июля 1882 года, с аналогичной просьбой Фадеев обратился в письме к Суворину. Тем не менее книга не получила того общественного резонанса, на который рассчитывал автор. Ни Суворин, ни Аксаков в своих изданиях Фадеева не поддержали. См.: Кузнецов О. В. Р. А. Фадеев: генерал и публицист. С. 145–146.
7 Имеется в виду современный Коджори — поселок городского типа в составе муниципалитета Тбилиси в Грузии, горноклиматический курорт; находится на высоте 1302–1400 метров над уровнем моря. Благодаря графу М. С. Воронцову с начала 1850-х годов являлся летней резиденцией наместника на Кавказе, куда переезжали его штаб и канцелярия, а также местом расположения летних дач представителей знати.
8 Речь идет о записке «Об управлении азиатскими окраинами», составленной Фадеевым по поручению министра внутренних дел Игнатьева в ноябре 1881 года. Подробнее о ней, а также о комиссии, начавшей работать 19 февраля 1882 года, см.: Кузнецов О. В. Р. А. Фадеев: генерал и публицист. С. 140–142, 147–152. См. также: Волхонский М. А. Упразднение Кавказского наместничества в 1881–1882 гг. // Российская история. 2018. № 3. С. 171–189.
About the authors
Ekaterina S. Levshina
Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom), Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: svoim4eredom@mail.ru
ORCID iD: 0009-0001-7031-0261
Junior Researcher
Russian Federation, St. PetersburgReferences
- Fadeev R. A. Gosudarstvennyi poriadok. Rossiia i Kavkaz / Sost. S. V. Lebedev, T. V. Linitskaia; predislovie i komm. S. V. Lebedeva. M., 2010.
- Kuznetsov O. V. R. A. Fadeev: general i publitsist. Volgograd, 1998.
- Levshina E. S. S. Iu. Vitte i I. S. Aksakov v 1880-e gg. // Peterburgskii istoricheskii zhurnal. 2016. № 3.
- Morozov E., Sergeev S. Opozdavshii Potemkin // Fadeev R. Kavkazskaia voina. M., 2005.
- Osvobozhdenie Bolgarii ot turetskogo iga: Dokumenty: V 3 t. M., 1961. T. 1. Osvoboditel’naia bor’ba iuzhnykh slavian i Rossiia. 1875–1877.
- Pis’ma R. A. Fadeeva Iu. F. Samarinu / Publ. S. M. Sergeeva // Fadeev R. Kavkazskaia voina. M., 2005.
- Volkhonskii M. A. Uprazdnenie Kavkazskogo namestnichestva v 1881–1882 gg. // Rossiiskaia istoriia. 2018. № 3.