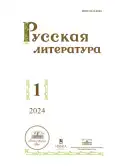Department of Russian literature of St. Petersburg / Petrograd / Leningrad University: the 20th century (to the 300th anniversary of St. Petersburg State University)
- Authors: Sukhikh I.N.1
-
Affiliations:
- St. Petersburg State University
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 103-130
- Section: Из истории отечественной науки
- URL: https://journal-vniispk.ru/0131-6095/article/view/257530
- DOI: https://doi.org/10.31860/0131-6095-2024-1-103-130
- ID: 257530
Full Text
Abstract
The article outlines the history of the Department of Russian Literature, St. Petersburg State University — one of the most prominent 20th-century departments in Russia/USSR. Three periods of its evolvement are described, life stories of many scholars are traced, and a detailed bibliography is offered.
Full Text
Ричард Пайпс, глядя издалека, замечал: «Интеллигенции были нужны учреждения, которые свели бы вместе единомышленников, позволили бы им делиться мыслями и завязать дружеские отношения на основе общих убеждений. В XIX в. в России было пять таких учреждений».1 Наряду с салоном, кружком, толстым журналом и земством, таковым оказывается университет.
Главной университетской структурной единицей была и остается кафедра. Описывая университетскую историю, как правило, обращают внимание прежде всего на научную деятельность преподавателей, сферу их интересов. Она наиболее доступна для следующих поколений. Но на самом деле жизнь университетского человека трехпланова, трехэтажна: лекционные курсы — студенческий семинар — публикации.
Университетская педагогика и наука находятся в сложных отношениях. Репутация преподавателя не обязательно включает все три вида деятельности, между ними могут возникать разнообразные противоречия: замечательный лектор может не быть большим ученым, блестящий руководитель семинара/семинария — редко публиковаться, а крупный ученый — совсем не иметь таланта и опыта в чтении лекций. Даже в приеме зачетов и экзаменов (важная часть университетского быта) есть свои полюса: для одних экзамен — важный способ проверки, они требовательны и педантичны, другие рассматривают экзамен как способ общения со студентами, они ставят оценки щедро и великодушно, стараясь быстрее избавиться от проверочной процедуры.
Настоящая кафедра — сложный сплав разнообразных талантов и умений, а не идущее в ногу подразделение.
Последние годы императорской филологии: семинарии Венгерова и Перетца
«Просеменил Семен в просеминарий» — студенческий каламбур, известный и Мандельштаму,2 и Эйхенбауму.3 Семенил профессор по бесконечному коридору нынешнего главного здания.
«Настоящий двадцатый век» в Петербургском университете, пожалуй, начинает Семен Афанасьевич Венгеров (1855–1920). Венгеров появлялся в Петербургском университете трижды. Окончив юридический факультет (1879), он затем экстерном сдал экзамен по историко-филологическому факультету в Дерптском университете (1880) и был приглашен на кафедру русской словесности Санкт-Петербургского университета, но из-за материальных трудностей оставил университет (1882). Затем были три года в должности приват-доцента (1897–1899) и отстранение от преподавания за слишком радикальные взгляды. Навсегда вернулся в коридор главного здания Венгеров в той же должности (1906) — уже «великим библиографом, создателем некомплектных гряд облаков».4
«Если бы он построил церковь, то иконами в этой церкви были бы библиографические карточки. Когда он начинал рассказывать, то он не мог кончить. Он все время начинал книгу за книгой. Они обрывались на первых буквах, потому что текли по алфавиту, а букв много».5 Любовная ирония бывшего нерадивого студента, писавшего этот мемуар в возрасте уже существенно превышающим венгеровский, не отменяет главного: неоконченные словари и картотека Венгерова и до сих пор служат филологам.6
Однако Венгеров стал создателем, пожалуй, первой кафедральной легенды: в 1908 году он создал Пушкинский семинарий.
В представленном в первом и втором сборниках «Пушкиниста» (1914, 1916) «Списке участников Пушкинского семинария при С.-Петербургском / Петроградском университете» были краткие справки о М. К. Азадовском, А. Л. Беме, С. Д. Балухатом, С. М. Бонди, В. В. Гиппиусе, В. М. Жирмунском, Н. В. Измайлове, А. С. Искозе (Долинине), М. К. Клемане, В. Л. Комаровиче, Ю. Г. Оксмане, В. Я. Проппе, Д. П. Святополк-Мирском, Ю. Н. Тынянове, К. И. Халабаеве, Б. М. Энгельгардте, Д. П. Якубовиче, библиографе А. Г. Фомине (позднее секретаре Венгерова и самом близком ему методологически ученом), поэтах С. М. Городецком, Н. С. Гумилеве, Г. В. Маслове, В. А. Рождественском, В. В. Хлебникове, переводчике М. Л. Лозинском. Членом семинария также был Б. М. Эйхенбаум, в нем эпизодически появлялись В. Б. Шкловский, О. Э. Мандельштам.
Таким образом, через семинарий Венгерова прошло целое поколение замечательных в будущем пушкинистов и просто историков литературы, текстологов, библиографов, поэтов, «деятелей культуры».
«В Пушкинском семинарии и университете за 1908–1915 гг. состоялось 113 заседаний, на которых было сделано 63 студенческих доклада, кроме докладов и сообщений Семена Афанасьевича, в работе семинария в той или иной степени принимало участие 268 студентов».7 Иногда студенты делали доклады несколько заседаний семинариев подряд, публикации их в сборниках «Пушкинист» превращались в микромонографии.
В семинарии занимались не только близкими профессору библиографией и историей культуры. Там родился метод, многое определивший в русской и мировой филологии 1920-х годов.
«Откуда пошел „формализм“? — спрашивал Б. В. Томашевский в статье, подзаголовок которой был явно полемическим: в середине 20-х годов формальный метод был в полном расцвете, и о его смерти говорили только непримиримые противники. — Из статей Белого, из семинария Венгерова, из Тенишевского зала, где футуристы шумели под председательством Бодуэна де Куртене? Это решит биограф покойного. Но несомненно, что крики младенца слышались везде».8
Восприемником «младенца» и оказался Венгеров. Через его семинарий, начатый в 1908 году и продолжавшийся до смерти руководителя, так или иначе прошли почти все будущие опоязовцы и «просто» формалисты. В предисловии ко второму сборнику «Пушкинист», представлявшему работы участников семинария, Венгеров писал: «Вот уже 2–3 года я замечаю в своем семинарии <…> что целый ряд способных юношей прямо страстно отдаются изучению стиля, ритма, рифмы, эпитетов, классификации мотивов, установлению аналогии приемов у различных поэтов и всяким иным наблюдениям над внешним воплощением поэзии. <…> Не скрою, что сначала меня интенсивнейший интерес отборной части молодых „пушкинистов“ именно к форме в ущерб вниманию к другим сторонам поэтического творчества как-то беспокоил. <…> Я все же, за исключением тех немногих случаев, когда форма как бы переходит в самое существо содержания, рисую себе отношение формы к содержанию, по преимуществу, как золотую оправу для лучезарного алмаза. Для меня литература всегда была и будет храмом, в котором поются священные каноны, священные только своим устремлением к Великой Правде бытия, а не совершенством своего выражения <…> По мере того, однако, как я ближе приглядывался к увлечению молодых пушкинистов вопросами формы, оно мне представилось под другим углом зрения. Мне показалось, что психологически корень этого интереса гораздо ближе к исканию истины, чем это может показаться с первого взгляда. Не следует ли его объяснить крайним злоупотреблением другими методами изучения литературы?»9
Формалисты будут смеяться над выражениями «золотая оправа», «лучезарный алмаз», «Великая Правда бытия» (обязательно с заглавной буквы!). Л. Я. Гинзбург в разговоре с Тыняновым (любопытно, что это не было опубликовано при ее жизни) пожаловалась, что в своей работе не может избавиться от его точек зрения на материал. Тынянов ответил: «Вот мы в университете страдали от другого. Мы страдали от того, что наши учителя ничего не понимали. Решительно ничего».10
Ученики всегда беспощаднее учителей. «Мы жестокие ученики»,11 — признавалась позднее та же Гинзбург. Старый профессор, конечно, не мог обратиться в новую формальную веру. Но он понял происходивший на его глазах смысл методологического сдвига. «С. А. Венгеров, услышавший крики младенца в недрах своего семинария, где неожиданно для него раздались звуки рефератов о цезуре „пятистопного ямба“ и кольцеобразном строении пушкинской „Осени“, сокрушенно поглядывал на новорожденного, но потом скрепя сердце благословил его».12 По свидетельству К. И. Чуковского, в 1920 году умиравший профессор просил навестивших его Томашевского и Тынянова: «Поговорите при мне о формальном методе».13
«…Почти все работающие в настоящее время молодые теоретики и историки русской литературы XIX в. и пушкиноведы — ученики Семена Афанасьевича»,14 — отмечал А. Г. Фомин.
Конечно, значительное число университетских преподавателей-филологов 1920–1930-х годов были «венгеровцами», хотя их предметные интересы и методологические позиции были далеки от учителя.
Вторым источником пополнения кафедры оказался семинарий Перетца. Владимир Николаевич Перетц (1870–1935) неоднократно менял научную прописку, но всю жизнь оставался верен избранной научной проблематике. Он окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (1889–1893), быстро стал в нем приват-доцентом (1896–1903), затем был избран профессором русского языка и словесности Киевского университета (1903–1914), после избрания академиком вернулся в Петербург и на кафедру (1914–1917), в революционные годы работал в Самаре, где стал одним из создателей Самарского университета, наконец, повторно вернулся уже в Ленинград и преподавал в университете еще десятилетие (1924–1933). Финал его жизни характерен для ленинградских 1930-х годов: арест по сфабрикованному «Делу славистов» (апрель 1934), ссылка на три года в Саратов, смерть и похороны в этом городе.
Специализацией Перетца была древнерусская литература в ее разнообразных периодах, связях и преломлениях. Трехтомные «Историко-литературные исследования и материалы» (1900–1902) посвящены русской песне, старинной русской повести и русской поэзии XVIII века. Он занимался историей театра («Памятники русской драмы эпохи Петра Великого», 1903; «К истории польского и русского народного театра», 1905; «Старинный театр в России XVII–XVIII вв.», 1923), опубликовал на украинском языке книгу о главном произведении древнерусской литературы («Слово о полку Ігоревім — пам’ятка феодальноі Украіни — Руси XII віку»; Київ, 1926), писал о связях литературы и фольклора, русской, украинской и польской литератур.
Но главным делом его преподавательской жизни стал, как и у Венгерова, семинарий. Созданный в Киеве даже на год раньше венгеровского (1907), он быстро стал популярным, члены семинара несколько раз приезжали на «экскурсии» в Петербург и Москву для выступлений и работы в библиотеках (Перетцу удалось получить от железнодорожного начальства специальный вагон), а потом и сам семинар вместе с руководителем переехал в Петербург и существовал до середины 1920-х годов, когда Перетца практически отстранили от преподавания.
Киевскими участниками семинара были специалист по древнерусской литературе В. П. Адрианова-Перетц (1887–1972), ставшая женой профессора; философ Я. Э. Голосовкер (1890–1967); профессор МГУ, автор первого советского учебника по древнерусской литературе (1938) Н. К. Гудзий (1887–1965); профессор Киевского университета, автор работ о Лермонтове, Тургеневе, зарубежной литературе С. И. Родзевич (1888–1942) и будущие сотрудники ЛГУ: профессор кафедры русского языка, создатель факультетского Словарного кабинета Б. А. Ларин (1893–1964) и профессор кафедры истории русской литературы (с 1946), автор работ о фольклоре и древнерусской литературе М. О. Скрипиль (1892–1957).
В ленинградскую эпоху семинар посещали фольклористы А. М. Астахова (1886–1971), Н. П. Колпакова (1902–1994), В. Я. Пропп (1895–1970); историки литературы С. Д. Балухатый (1893–1945), В. Л. Комарович (1894–1942), Ю. Г. Оксман (1895–1970), участвовавшие и в венгеровском семинарии; Г. А. Бялый (1905–1987); писатель В. А. Каверин (наст. фам. — Зильбер, 1902–1989). Любимым учеником Перетца, подхватившим основной кафедральный курс истории древнерусской литературы, был И. П. Еремин (1904–1963).
Семинарий Перетца был элитарным: в него не записывались, претенденту надо было получить поручительство от одного из членов семинара и пройти беседу с руководителем. Но в реальности университетский кружок отражал колоритную ситуацию 1920-х годов. В университет послуживший в Красной армии Еремин ходил в военной шинели, Бялый по бедности донашивал шинель гимназическую, а переехавшая за учителем из Киева в Петроград Адрианова (кажется, еще не Перетц) появлялась в каких-то нарядных платьях. Профессор различал студентов социально, обращаясь к ним: товарищ Еремин, господин Бялый и барышня.15
В предреволюционные годы (1914–1917) семинарии Венгерова и Перетца сосуществовали и конкурировали.
«Это была своеобразная ученая республика, где на равных правах со студентами работали профессора, учившиеся в свое время в семинаре Перетца и усвоившие методологические принципы своего учителя. Здесь царил дух равноправия людей разных возрастов и поколений, разных степеней знаний, объединенных общим делом науки…»,16 — вспоминал Г. А. Бялый.
Иным было впечатление Ю. Г. Оксмана: «С осени 1914 г. прист[упил] к чтению лекций и к ведению семинария по др[евней] рус[ской] лит[ературе] в С.-Петерб[ургском] унив[ерситете] акад. В. Н. Перетц, переехавш[ий] в Петерб[ург] из Киева после избрания акад[емиком]. (Большой соблазн объединиться вокруг Перетца). Вся наша группа пушкинистов присут[ствовала] на вст[упительной] лекции В. Н., но его грубые нападки на изуч[ение] рус[ской] лит[ературы] XIX в. вообще и на пушкиновед[ение] в частности оттолкнули большую часть студ[енческого] актива от участия в сем[инарии] Перетца. Перешли к Перетцу С. Д. Балухатый, С. А. Еремин, Никифоров сохранил „двойное подданство“ [нрзб.], а все прочие остались верны Пушк[инскому] сем[инарию]. <…> Дурные манеры провинциал[ьного] ученого сноба оттолкнули меня и моих ближ[айших] друзей (Тынян[ова], Масл[ова], Комаров[ича]) от приобщения к этому кладезю филол[огической] науки. Мы предпочитали его книгу личным отношен[иям], тому, что он читал».17
Оксман имеет в виду литографированную книгу Перетца «Из лекций по методологии истории литературы» (Киев, 1914), в сокращенном виде переизданную через восемь лет под заглавием «Краткий очерк методологии истории русской литературы» (Пг., 1922) со словами «Посвящаю эту книгу моим дорогим ученикам» и перечислением 33 фамилий профессоров и преподавателей — от Петрограда до Праги и от Киева до Каменец-Подольска (всего через семинар Перетца по примерным подсчетам прошло около 130 человек).18
Причины описанного конфликта можно увидеть в различии методологических установок руководителей семинариев. Оксман до конца жизни сохранил принципы и приемы культурно-исторической школы: главная задача филолога — работа с источником, факт важнее любых теорий. И в этом смысле он оказался верным продолжателем Венгерова.
В методологии же Перетца видят предвосхищение и даже «манифестацию» формального метода: «Изучая явления словесного творчества в их развитии, следует всегда помнить, что для историка литературы объектом изучения является не только то, что говорят авторы, но и в большей степени — то, как говорят они. Таким образом, предметом историко-литературного анализа является изучение истории развития сюжетов, их понимания и трактовки авторами разных эпох; изучение композиции и стиля как выразителя духа эпохи и индивидуальности поэта. Таким образом, история литературы не есть только история книг или только история идей самих по себе. Она есть история литературных форм, воплощающих идеи, и идей — поскольку они влияли на эволюцию форм».19
Однако, возможно, здесь вступают в силу какие-то индивидуальные предпочтения. Ведь будущий основоположник формализма Юрий Тынянов остался верен Венгерову, а вполне традиционный историк литературы, позднее исследователь Чехова и Горького, составитель библиографических пособий С. Д. Балухатый ушел к Перетцу.
На кафедре русской литературы первого советского века (1920–1930-е годы) эти линии/тенденции/методы сосуществовали.
Двадцатые–тридцатые: золотой век
Через два года после основной, Великой Октябрьской, революции начинаются революционные изменения в образовании.
В 1919 году в Петроградском университете был учрежден факультет общественных наук (ФОН), объединивший прежние историко-филологический, юридический и факультет восточных языков. Первым его деканом стал лингвист Н. Я. Марр.
В 1925 году ФОН реорганизуется в факультет языкознания и материальной культуры (Ямфак), в состав которого входило лингвистическое отделение.
В 1929 году Ямфак превращается в историко-лингвистический факультет, который в следующем году выводится из состава Университета и образует самостоятельный Историко-лингвистический институт (ЛГИЛИ), который из здания Двенадцати коллегий переводят — по соседству — в здание бывшего Императорского историко-филологического института. Так филологи получают современный адрес: Университетская набережная, 11.
В 1933 году к филологам и историкам добавляются философы, и институт приобретает новую аббревиатуру: ЛИФЛИ (Ленинградский институт философии, литературы, лингвистики и истории).
Наконец, на базе литературного и лингвистического факультетов ЛИФЛИ 6 августа 1937 года создается филологический факультет ЛГУ. Дальнейшие преобразования происходят уже внутри этой структуры.
Где-то в вакханалии этих преобразований появилась эпиграмма:
Наш ЛГУ не Бумом знаменит,
Он Мишкой Яковлевым славен.
Где стол был яств, там гроб стоит,
И на гробу сидит Державин.20
Первым заведующим кафедрой русской литературы обновленного филологического факультета становится профессор Николай Кирьякович Пиксанов (1878–1969), работавший в университете — с большими перерывами — около двадцати лет (1912–1917, 1934–1938, 1948–1955). Заведование кафедрой — второй период его университетской жизни.
В ЛГУ Пиксанов был пришельцем, человеком со стороны. Он окончил духовную семинарию, Юрьевский университет (1904), преподавал в Москве и Саратове. Его научный авторитет определялся несколькими новаторскими работами, сделанными в тех же рамках культурно-исторической школы, в которых работали Венгеров и Перетц. Занявшись Грибоедовым, он установил аутентичный текст «Горя от ума», который публикуется и сегодня. Итогом его работы в этой области стало трехтомное Собрание сочинений Грибоедова (1911–1913) и книга «Творческая история „Горя от ума“» (1928). После Пиксанова творческие истории стали особым жанром филологического исследования.
Второе важное направление, инициированное Пиксановым, связано с литературным краеведением. Книга «Областные „культурные гнезда“: историко-краеведческий семинар» (1928) тоже стала моделью многих работ. Продуктивный историк литературы (автор около 800 работ), Пиксанов, кажется, не был популярным преподавателем. Его немногочисленные ученики, работавшие на кафедре, тоже не пользовались популярностью у студентов. Пиксанов сыграл неоднозначную роль и в событиях 1949 года (о чем чуть позже).
Еще одним профессором с дореволюционным стажем был на кафедре Василий Алексеевич Десницкий (1878–1958). Старый большевик, собеседник Ленина, друг и биограф Горького, после революции он покинул партию ВКП(б) и стал «просто» культурным администратором и историком литературы. Как и Пиксанов, Десницкий работал на кафедре с большими перерывами, побывав и преподавателем истории России ФОН (1921–1923), и профессором Ямфака (1927–1929), историко-лингвистического (1929–1930), наконец, филологического факультета (1937–1946). Много больше он трудился в ЛГПИ им. А. И. Герцена, будучи его организатором (1918), проректором, деканом и заведующим кафедрой литературы. Десницкий был редактором нескольких академических собраний, коллективных сборников и монографий. Его работы посвящены широкому кругу имен и вопросов (история русской журналистики, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, В. Г. Белинский, М. Е. Салтыков-Щедрин). Однако, по свидетельствам современников, Десницкий представлял один из эксцентричных типов, кратко упомянутых в начале нашего очерка: он любил преподавать, но не любил писать. У него не было любимого автора, темы, периода. При жизни вышли два его сборника с характерными заглавиями «На литературные темы» (1933, 1936) и книга «А. М. Горький: Очерки жизни и творчества» (1935). Разбросанные по разным изданиям другие его работы собраны только после его ухода: «Избранные статьи по русской литературе ХVIII и ХIХ вв.» (1958), «Статьи и исследования» (1979).
Аркадий Семенович Долинин (1880–1968) три года проучился на химическом факультете Венского университета, потом окончил историко-филологический факультет Петербургского университета (1909–1913), был венгеровцем (первый его семинарский доклад — о «Цыганах»), много занимался журнальной критикой и эссеистикой, но позднее сосредоточился на изучении Достоевского. В годы, когда изучение реакционного Достоевского не приветствовалось, Долинин стал инициатором издания «Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы» (1922, 1924, 1935), выпустил четыре тома писем Достоевского (1928, 1930, 1934, 1959) и двухтомник «Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников» (1964). Его главные работы — «В творческой лаборатории Достоевского» (1947), «Последние романы Достоевского» (1963) и посмертно подготовленный сборник «Достоевский и другие» (1989). Он преподавал на кафедре в два приема (1933–1936, 1944–1956).
Таким же старым профессором, верным одной теме, был Владислав Евгеньевич Евгеньев-Максимов (1883–1955). Он окончил историко-филологический факультет (1902–1906), работал на кафедре больше тридцати лет (1920 (по другим сведениям 1924) — 1955), заведовал кафедрой журналистики (1945–1951) — и всю жизнь занимался творчеством Некрасова, критикой и журналистикой его времени. Его основные работы: «Николай Алексеевич Некрасов. Сборник статей и материалов» (1914), «Некрасов как человек, журналист и поэт» (1928), «Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова» (Т. 1–3, 1947–1952).
Однако ядром кафедры в 20–30-е годы стали не императорские варяги, а первое советское поколение, ученые, которые могли начать учебу и до революции, но профессиональное становление которых пришлось уже на советское время. В эпоху сломов, переименований, конфликтов и методологических покаяний они определили круг своих интересов и практически выстроили систему теоретических и исторических дисциплин, в которой кафедра в известной степени работает и сегодня.
Теория и история фольклора стали предметом занятий двух замечательных, но во многом противоположных ученых.
Владимир Яковлевич Пропп (1895–1970) начал учебу на романо-германском (с 1913 года), но с третьего курса перевелся на славяно-русское отделение, которое и окончил (1918). После многолетнего преподавания русского и немецкого языков в школе и вузах он появился на кафедре только в 1932 году — уже сложившимся ученым, автором книги «Морфология <волшебной> сказки» (1928). Мало кем понятая среди современников, обвиненная в формализме, эта маленькая и сложно написанная книга оказала огромное влияние на гуманитарную мысль ХХ века — от гуру мировой семиотики К. Леви-Строса до сказочника Дж. Родари. Дальнейшая жизнь Проппа была связана с университетом, где он стал доцентом (1932), кандидатом филологических наук (без защиты) и сразу профессором (1938), доктором филологических наук (1939). Научная работа Проппа продолжилась книгами «Исторические корни волшебной сказки» (1946), «Русский героический эпос» (1958) и «Русские аграрные праздники» (1963). Позднее были изданы неоконченная книга «Проблемы комизма и смеха» (1976) и сборник статей «Фольклор и действительность» (1975).
В ХХI веке работы Проппа ожидала странная судьба. Высокий авторитет одного из крупнейших фольклористов мира вдруг дополнился успехом у массового читателя. Две первые книги Проппа выпускаются разными издательствами довольно большими тиражами, в интернет-магазине «Лабиринт» они уже несколько лет занимают первые места в рейтинге самых покупаемых.21
Соперником-соратником Проппа был Марк Константинович Азадовский (1888–1954). Он окончил славянское отделение историко-филологического факультета (1907–1913), работал в Томске, Чите, Иркутске, много раз ездил в фольклорные экспедиции, в начале 1930-х годов вернулся в Ленинград и начал работать в ЛГИЛИ/ЛИФЛИ, вместе с которыми оказался на филологическом факультете. Ему принадлежит инициатива организации кафедры фольклора (1934–1949), позднее ставшей частью кафедры истории русской литературы. В отличие от теоретика Проппа, который изучал фольклор как форму эстетического мышления и, кажется, ни разу не был в фольклорной экспедиции, Азадовский был исследователем-полевиком, собирателем фольклора. В исследованиях он двигался в противоположном направлении: рассматривая фольклор по аналогии с литературой, как тип индивидуального творчества. В предисловии к антологии «Русская сказка: Избранные мастера» (Т. 1–2, 1932) Азадовский писал: «Мы разрываем с безличной этнографией и входим в круг мастеров-художников, в круг деятелей искусств, где общая коллективная работа отмечена печатью создающих и ведущих ее ярких художественных индивидуальностей». По аналогичному принципу было построено еще несколько сказительских сборников Азадовского.
Вторая область научных интересов Азадовского связана с изучением наследия декабристов. Он подготовил к изданию в серии «Литературные памятники» образцовый том «Воспоминания Бестужевых» (1951), сделал для «Литературного наследства» историко-библиографический обзор «Затерянные и утраченные произведения декабристов» (1956). Неоконченная «История русской фольклористики» (Т. 1–2, 1958–1963) опубликована уже после смерти ученого.
В 1920–1930-е годы кафедра является общепризнанным центром в изучении русской литературы XVIII века. Ее лидерство обеспечила, прежде всего, деятельность Г. А. Гуковского и его учеников.
Григорий Александрович Гуковский (1902–1950) окончил этнолого-лингвистическое отделение ФОН (1918–1923), преподавал в разных школах и вузах города, на факультет пришел уже известным специалистом, сотрудником ИРЛИ и оставил глубокий след в истории факультета. За время работы на кафедре (1935–1949) он трижды побывал ее заведующим (и. о. 1938–1939, 1939–1944, 1947–1949), исполнял также обязанности проректора по научной работе.
Первые работы Гуковского были посвящены литературе XVIII века и методологически близки формализму (его обычно относят к младоформалистам). Цикл исследований — «Русская поэзия XVIII века» (1927), «Очерки по истории русской литературы XVIII века: Дворянская фронда в литературе 1750–1760-х годов» (1936), «Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века» (1938) — завершился созданием первого вузовского учебника «Русская литература XVIII века» (1939), переизданного через шестьдесят лет после первой публикации (1999). «У Гуковского в ранней молодости (мы тогда как раз познакомились) был особый комплекс противостояния. Туда входила разная архаика, вкус к дворянскому укладу русской жизни. Эта наивная, задиристая позиция принесла, как ни странно, отличные плоды — открытие русской литературы XVIII века»,22 — вспоминала Л. Я. Гинзбург.
Позднее Гуковский, как и многие литературоведы той поры, делает попытку совместить марксизм с привычными методами анализа произведения. Он разрабатывает стадиальную теорию развития русского реализма, предполагая отразить ее в десяти томах. При жизни он успевает опубликовать только один, в саратовской эвакуации, где ЛГУ находился в 1942–1944 годах: «Пушкин и русские романтики» (1946). Еще две книги вышли уже посмертно: «Пушкин и проблемы реалистического стиля» (1957) и «Реализм Гоголя» (1959). Последняя (глава, посвященная «Мертвым душам») обрывается на полуфразе: «Чей суд возьмет…». Кажется, Гуковского арестовали прямо у рабочего стола.
Гуковский был и замечательным методистом. Уже более полувека сохраняет значение тоже посмертно изданная книга «Изучение литературного произведения в школе. Методологические очерки о методике» (1965).
Однако главная известность профессора Гуковского была связана с другой его ипостасью. Гуковский — блестящий лектор, не только лучший среди коллег-современников. Те, кто слышал его, вспоминали Грановского и Ключевского, привлекали театральные ассоциации. Он строил лекцию как представление: со сквозными метафорами, чтением наизусть огромных фрагментов, сменой интонаций, продуманными концовками. Он не просто анализировал, но создавал образы писателей: великого Ломоносова, загнанного Тредиаковского, самолюбивого Сумарокова, сибарита Державина. Часто эти лекции-концерты, на которые собирались не только студенты, оканчивались аплодисментами.
Очень популярен и продуктивен был семинар Гуковского. В четвертом томе академической «Истории русской литературы» (1939), посвященном литературе второй половины XVIII века, из 32 глав 18 написали ученики Г. А. Гуковского.
Однако манера Гуковского очаровывала не всех. Когда одному из студентов послевоенного поколения (сложись судьба по-иному, русская семиотика могла бы прописаться не в Тарту, а в ЛГУ) пришла пора выбирать семинар, он пошел не к сверхпопулярному Гуковскому, а к скромному историку критики, исследователю Белинского Н. И. Мордовченко, объяснив это так: «Общим кумиром студентов был Г. А. Гуковский. Я продемонстрировал самостоятельность и не пошел к Гуковскому, а записался к тогда еще числившемуся среди молодых профессоров и не пользовавшемуся такой популярностью Н. И. Мордовченко. Но у Мордовченко, который занимался Белинским, я взял тему по Карамзину — то есть по теме Гуковского, не думая, что это кого-либо заденет. Но Гуковский, видимо, обиделся».23
Обижался не только Гуковский, обижались и на него. В других воспоминаниях Лотман говорит о Гуковском-пушкинисте: «Согласно неписаным, но отчетливо ощущаемым правилам, Гуковский не был посвящен в рыцари ордена пушкинистов. То, что он вошел туда и сразу нарушил никем не сформулированное, но строгое табу на проблемные вопросы, вызвало у одних иронию, а у других даже раздражение. Гуковский обладал особым дарованием ни у кого не вызывать равнодушного отношения: ему или поклонялись, или его ненавидели. В кругу таких признанных авторитетов в научных сферах ЛГУ, как, например, Эйхенбаум, к нему относились с не очень добродушной сдержанностью».24
Кратковременным соратником Гуковского по изучению/открытию XVIII века стал Лев Васильевич Пумпянский (1891–1940), увы, проработавший на кафедре всего четыре года (1936–1940). Он был совсем человеком со стороны. Принадлежащий к «невельскому кружку» Бахтина, своеобразный философ литературы, он обладал невероятной эрудицией и столь же огромным тематическим диапазоном. Он писал не только о Ломоносове и Малербе, «Медном всаднике» и поэтической традиции XVIII века, но о Достоевском и античности, Тютчеве и шеллингианстве, поэзии Блока и даже свежем романе Ю. Олеши «Зависть».
В середине 1920-х годов он вдруг открыто объявил друзьям, что переходит от философского идеализма к марксизму. «Таков был Пумпянский до осени 1925 года. Осенью, в течение одного месяца, с ним произошел крутой поворот — он стал марксистом. Произошло это не без некоторого шума: целому ряду своих старых друзей написал он письма, в которых рассказывал о случившейся с ним перемене и просил с ним больше не знаться, потому что они идеалисты, фидеисты и мракобесы».25 С этим новым периодом связан цикл статей-послесловий Пумпянского к Собранию сочинений Тургенева (Т. 6–10, 1929–1930), в которых выдвинута и обоснована концепция жанра тургеневского романа («Романы Тургенева и роман „Накануне“», «Тургенев-новеллист» и др.).
Как и Гуковский, Пумпянский был блестящим лектором. Он стал прототипом одного из главных героев романа К. Вагинова «Козлиная песнь» (1928). Большой корпус работ Пумпянского, в том числе архивных, был опубликован только через много лет после его смерти.26
В круг историков русской литературы XVIII века входил и Павел Наумович Берков (1896–1969). Он учился на историко-филологическом факультете Новороссийского университета (1917–1918), окончил Венский университет (1923), преподавал в школах и вузах Петрограда/Ленинграда, проработал на кафедре — с перерывом на эвакуации (1941–1944) — тридцать пять лет (1934–1969), а также заведовал ею (1937–1941).
Кажется, в изучении литературы XVIII века позиции Гуковского и Беркова воспроизводили «фольклорную» оппозицию Пропп — Азадовский. По складу, типу научного мышления Берков был эмпириком, венгеровцем. Его XVIII век складывался не как теоретический конструкт, а как система разнообразных «историй» и «медальонов», наполненных множеством фактов, библиографических разысканий и справок: «Ломоносов и литературная полемика его времени» (1936, книга по материалам докторской диссертации), «История русской комедии XVIII в.» (1949, издана в 1977), «История русской журналистики XVIII века» (1952), «Русская народная драма XVIII–XX веков. Текст пьес и описание представлений» (1953), «Очерк литературной историографии XVIII века» (1964).
Огромное внимание Берков уделял библиографии, книговедению и методике литературоведческого труда: «Библиографическое описание изданий Вольной русской типографии в Лондоне» (1935), «Введение в технику литературоведческого исследования: Источниковедение. Библиография. Разыскание» (1955), «Библиографическая эвристика: к теории и методике библиографических разысканий» (1960), «История советского библиофильства (1917–1967)» (1971). Под его редакцией также вышел указатель «История русской литературы XVIII века» (1968), хронологически предваряющий муратовские. В круг его интересов входила и литература нового времени: «Козьма Прутков — директор Пробирной палатки и поэт: К истории русской пародии» (1933), «А. И. Куприн» (1956, первая монография о писателе).
Берков был (вместе с А. С. Орловым и Г. А. Гуковским) инициатором созданной в ИРЛИ Группы (позднее Сектора) по изучению русской литературы XVIII века и сборника «XVIII век», который и сегодня является самым авторитетным изданием по этой эпохе. В 1935–2020 годах издано 30 сборников; один из них, 7-й (1966) вышел к семидесятилетию ученого, два — 10-й (1975) и 21-й (1999) посвящены его памяти.
Сын Беркова, тоже много лет проработавший в ЛГУ скандинавист В. П. Берков, вспоминал: «На своем 70-летнем юбилее он (П. Н. Берков. — И. С.), в частности, с гордостью сказал: „За все годы работы в университете я ни разу не опоздал ни на минуту на лекцию“». Статью к этому юбилею написал Г. П. Макогоненко.27 Десятилетием раньше замечательную заметку о юбиляре представил Б. М. Эйхенбаум: «Научная разносторонность и работоспособность Павла Наумовича настолько поразительны, что в отдаленном потомстве может, пожалуй, возникнуть гипотеза о нескольких Берковых: один — удивительный знаток русской литературы XVIII в., другой — автор книг и статей о русских писателях конца XIX в., третий — исследователь Козьмы Пруткова, четвертый — крупнейший библиограф и историк книги; а еще П. Н. Берков — специалист по литературе народов СССР, а еще П. Н. Берков — автор, например, статьи „Гюи де Мопассан и французский реалистический роман“, написанной с большим знанием дела и с большими историко-литературными обобщениями. Если раньше принято было говорить: „Nulla dies sine lіnеа“ (т. е. «ни дня без строчки»), то в отношении Павла Наумовича придется сказать иначе: „Nulla dies sine folio — minimum!“».28 Однако — не могу объяснить этот парадокс — в мемуарном издании,29 собирание которого началось вскоре после ухода ученого, есть очерки сотрудников Пушкинского Дома, библиографов, бывших студентов, даже сотрудников других кафедр, но ни одного — от коллег по кафедре русской литературы.
Еще одной ключевой фигурой кафедры был Борис Викторович Томашевский (1890–1957). Естественник по первоначальному образованию (окончил технологический факультет Льежского университета по специальности инженер-электрик и в первой половине 1930-х годов, отлученный от второй профессии, вернулся к первой: преподавал высшую математику в ЛИИЖТе), он увлекся филологией и быстро приобрел научный авторитет. В его работе соединились две главные тенденции 1920-х годов, традиционная история литературы и авангардный формализм, условные Венгеров и Перетц.
С одной стороны, Томашевский стал крупнейшим историком литературы, пушкинистом, причем и текстологом (круг которых ограничивался немногими именами). Первая его книга — «Пушкин. Современные проблемы историко-литературного изучения» (1925). Второй том итогового труда «Пушкин. Кн. II. Материалы к монографии (1824–1837)» (1961) вышел уже после его смерти. Как и у Гуковского, он обрывается на полуфразе (анализ пушкинского «Жениха»): «Один разбойник…».
Однако в 1920-е годы Томашевский был тесно связан с формалистами. Параллельно с книгой о Пушкине появилась «Теория литературы (Поэтика)» (1925) — систематическое изложение формальной теории литературы. Томашевский также много занимался стиховедением («О стихе», 1929), написал одно из первых пособий по текстологии («Писатель и книга. Очерк текстологии», 1928).
Двуплановой была и деятельность Томашевского-лектора. «На филфаке Томашевский, кроме курсов по теории литературы и стилистике, вел спецкурс по Пушкину, — вспоминал Ю. М. Лотман. — Спецкурс, длившийся долгие годы, читался так: первый семестр посвящен был краткому резюме всего, что было прочитано до этого. <…> Затем следовало чтение нового материала. Здесь Томашевский успевал продвинуться в творчестве Пушкина приблизительно на год (иногда несколько больше, иногда несколько меньше). Так длилось это шествие по биографии и творчеству Пушкина, которое оборвала смерть лектора».30
Одновременно с пушкинским спецкурсом Томашевский — наряду с обычным «Введением в литературоведение» — прочел спецкурс «Стилистика и стихосложение» (судя по ссылкам, в 1956 или 1957 году). После его смерти на основе стенограммы и сохранившихся материалов курс был издан (1959), а его чтение продолжил — уже как общий курс для студентов-русистов стиховед В. Е. Холшевников (1910–2000; см. о нем далее). В перестроечные годы на этой основе был разработан уникальный четырехсеместровый курс теории литературы и поэтики, кажется, отсутствующий во всех университетах России.
На посвященном Томашевскому памятном заседании ИРЛИ (3 октября 1957 года) Б. М. Эйхенбаум сказал: «Теоретические работы Томашевского представляют собой неосуществленную мечту о создании единого труда по поэтике, в который вошли бы три раздела, кот<орые> входили в учебник: стилистика, метрика, тематика <…> Эта мечта не была достигнута, и это составляло научную трагедию последних лет жизни Бориса Викторовича (не боюсь этого слова), когда он производил впечатление человека мятущегося, рвущегося, ищущего, идущего к тому, чтобы доработать, доделать то, что было задумано в двадцатые годы».31 Кажется, в данном случае коллега Томашевского по кафедре говорил и о себе.
Борис Михайлович Эйхенбаум (1886–1959) тщательно документировал свой научный путь: написал ранние мемуары о юности и университетской жизни («Мой временник», 1929), вел дневник (до сих пор опубликованный фрагментарно), четко фиксировал переходы от одной эпохи научной деятельности к другой. Он учился на романо-германском и славяно-русском отделениях университета (1907–1912), захаживал в семинар Венгерова, был секретарем историка М. К. Лемке и адептом философско-эстетической критики, приват-доцентом кафедры русского языка и словесности Петроградского университета он стал в 1918 году и был уволен со службы в 1949-м. Его акмэ, однако, было связано с эпохой формализма («Как сделана „Шинель“ Гоголя», 1919), лекциями и семинарами в ГИИИ (Государственном институте истории искусств), где его учениками были Л. Я. Гинзбург, Б. Я. Бухштаб и др.
Л. Я. Гинзбург (1902–1990), не только историк литературы, но, как выяснилось лишь в последние годы ее жизни, когда она рискнула опубликовать цикл «Из старых записей», блестящий эссеист, заметила одну важную особенность работ Эйхенбаума: «Для Эйхенбаума на одном полюсе историзма — поведение героев его научных книг. <…> На другом полюсе — поступки самого ученого, литератора, личности.
Историко-литературным работам особую динамичность придает их подспудное личное значение, скрытое отношение к жизненным задачам писавшего. У больших научных трудов Бориса Михайловича Эйхенбаума был свой интимный смысл — проблема исторического поведения личности».32
Основная университетская жизнь Эйхенбаума протекала уже под знаком «литературного быта»: конкретно-историческими работами и изданиями Лермонтова («Статьи о Лермонтове», 1961) и Льва Толстого. Научная эпопея Эйхенбаума («Молодой Толстой», 1919; «Лев Толстой. 50-е годы», 1928; «Лев Толстой. 60-е годы», 1931; «Лев Толстой. Семидесятые годы», 1960) создавалась сорок лет, но так и не была завершена.33
Драма научной судьбы наложилась у Эйхенбаума на социальную трагедию. «Я чувствую себя престарелым Гамлетом, которому не удалось „вправить“ не только чужой век, но и собственную жизнь»,34 — вздохнул он в позднем письме.
Послереволюционное двадцатилетие, первый советский век был золотым веком кафедры русской литературы, наверное, лучшей кафедры в СССР, богатой индивидуальностями, концепциями и фактами, возможностями и перспективами.
Его еще застали студенты первого послевоенного поколения. «Я и мои сверстники имели счастье учиться в 40-е годы в Ленинградском университете, филологический факультет которого был одним из самых блистательных в мире. Там одновременно трудились М. П. Алексеев, В. М. Жирмунский, В. В. Виноградов, А. А. Смирнов, Б. М. Эйхенбаум, Г. А. Гуковский, А. С. Орлов, М. К. Азадовский, И. П. Еремин, В. Я. Пропп, Н. И. Мордовченко, Г. А. Бялый, И. Г. Ямпольский, П. Н. Берков — и это еще далеко не все».35
Однако — кажется, был такой старый советский анекдот — за тридцать седьмым годом сразу наступил сорок шестой (или сорок девятый).
1949-й: разгром
Великая Отечественная война и блокада, конечно, не обошли стороной ЛГУ. Почти всю первую блокадную зиму преподаватели и студенты провели в городе. В марте 1942 года университет был эвакуирован в Саратов, а вернулся в родные стены лишь в июне 1944-го. Во время войны на фронт ушли многие студенты и некоторые преподаватели. И кто-то, конечно, не вернулся. На Колпинских высотах погиб аспирант кафедры А. М. Кукулевич (1913–1942), успевший опубликовать всего несколько статей (в том числе две — о творческой истории баллады Пушкина «Жених» в соавторстве с Л. М. Лотман). В блокадном городе умерли автор книги о Гоголе (1924), до сих пор не устаревших работ о Салтыкове-Щедрине («Люди и куклы в сатире Салтыкова», 1927) В. В. Гиппиус (1890–1942) и исследователь Достоевского, постоянный оппонент А. С. Долинина, автор книги «Китежская легенда» (1936) В. Л. Комарович (1894–1942). Уже в эвакуации в Оренбурге, не пережив последствий блокады, скончался тургеневед и специалист по французской литературе М. К. Клеман (1897–1942).
Как оказалось, военные испытания были не единственным трагическим эпизодом в истории университета и страны. Замечательный свидетель-летописец советской эпохи точно сформулировал:
Конец сороковых годов —
сорок восьмой, сорок девятый —
был весь какой-то смутный, смятый.
Его я вспомнить не готов.
<…>
В том веке я не помню вех,
но вся эпоха в слове «плохо».36
Идеологические кампании, начатые «Постановлением о журналах „Звезда“ и „Ленинград“» (14 августа 1946 года), продолжились борьбой с космополитизмом, эпицентром которой в филологии был избран филфак ЛГУ. После предварительной критики в журналах и газетах 4 и 5 апреля 1949 года были организованы публичные собрания (открытые заседания ученого совета филфака ЛГУ) с разоблачением космополитов, засевших на университетском филфаке. Мишенями кампании были избраны заведующий кафедрой зарубежных литератур В. М. Жирмунский и профессора, тоже заведовавшие кафедрами литературы и фольклора Г. А. Гуковский, М. К. Азадовский и Б. М. Эйхенбаум. На собрании присутствовали только первые двое, Азадовский и Эйхенбаум серьезно болели (у Б. М. был уже второй инфаркт).
Главными разоблачителями космополитов оказались не только некоторые коллеги (Н. К. Пиксанов), но и недавние аспиранты, теперь — партийные деятели (ученик Гуковского Г. П. Бердников, А. Г. Дементьев, Ф. А. Абрамов).37 Попытки некоторых ученых (Н. И. Мордовченко, Г. П. Макогоненко) защитить коллег оказались отчаянно безрезультатными. Через несколько дней, в том же апреле, появились университетские приказы (отдельный — на каждого космополита): «считать отчисленными» Азадовского и Гуковского. Жирмунский был отстранен от должности заведующего кафедрой, но остался профессором (из университета он сам уйдет в конце года). Эйхенбаум в связи с болезнью был уволен чуть позже, через три месяца.
«…Дома он не был полгода, лечился и в конце концов встал на ноги, но не знал, что во время болезни его отовсюду уволили. Когда уже кончался срок его пребывания в Доме творчества, он спрашивал всех друзей, что ему выбрать, потому что две службы ему уже не осилить, — вспоминала дочь ученого. — В город мы его перевозили вместе с Г. А. Бялым. Когда дома сели пообедать, папа опять обратился к нему: „Гриша, вы мой друг, что вы мне посоветуете?“ И Григорий Абрамович сказал: „Борис Михайлович, не беспокойтесь вы, ради Бога, вы совершенно свободный человек, вы нигде не работаете. Ни в Пушкинском Доме, ни в университете. Можете спокойно отдыхать дома“».38
Эйхенбаум умер последним из кафедральных «космополитов», но больше никогда не появлялся на кафедре, хотя после нескольких лет остракизма был восстановлен в Пушкинском Доме. Азадовский умер раньше. Трагичнее всего сложилась судьба самого молодого, Гуковского: он был арестован в июле того же сорок девятого и (по официальной версии) умер в Лефортовской тюрьме во время следствия.39
«…Двухдневное заседание Ученого совета стало для ленинградской науки о литературе наиболее памятным и трагическим событием, квинтэссенцией травли научной мысли всех послевоенных лет. Этому способствовал, прежде всего, сам характер заседания — оно было нарочито публичным. Это был театр, напоминавший по своему жанру Колизей».40
Память об этих двух днях была замурована, непубликуема даже для тех участников «театра сталинской эпохи», которые вели себя достойно. Некоторые студенты и аспиранты начала 1950-х годов признаются, что во время учебы они даже не слышали имен опальных профессоров, Л. А. Иезуитова случайно познакомилась с Эйхенбаумом в театре.41
В эпоху оттепели кафедра медленно оттаивала вместе со страной.
Пятидесятые–шестидесятые: серебряный век
В сообществе филологов (не только у нас) можно увидеть два основных типа: пришедшие в науку сразу после аспирантуры и всю жизнь проведшие в кругу коллег и студентов, и — люди со стороны, появившиеся в филологической среде с прежней колоритной биографией (она часто узнается постфактум и никак не проявляется в их филологической деятельности). Они воевали, торговали, скрывались от полиции (царской), сидели в лагерях (советских), слушали лекции эмигрантов (будущих), учили школьников и красноармейцев, служили в газете, зимовали на льдине.
Кафедра медленно приходила в себя, оживала, отходила от разгрома. В ее жизни в это время стали видны существенные изменения. Но не забудем: долгие десятилетия, те самые библейские сорок лет (1948–1989) университет носил имя организатора идеологических кампаний 1940-х годов А. А. Жданова.
Мы диалектику учили не по Гегелю
А по учебнику со штампом ЛГУ
— иронически признается выпускник вечернего отделения филфака 1970 года, поэт и переводчик М. Яснов.
На кафедре еще работали литературоведы первого советского призыва, но атмосферу начали определять люди, пришедшие с войны или поступившие в университет сразу после войны и окончившие его в начале 1950-х годов.
Ученые 1920-х годов (в том числе и перешедшие в новую эпоху), как правило, были многостаночниками: они занимались разными авторами и периодами, преподавали в нескольких вузах и даже школах, читали лекции в городских аудиториях, активно сотрудничали с Пушкинским Домом, были членами Союза писателей и много публиковались в литературных газетах и журналах.
Сферы интересов и общения университетских людей в 1950–1970-е годы сузились. Кафедра окуклилась. И публикации в литературной прессе (где часто работали наши выпускники), и членство в Союзе писателей и параллельная работа в ИРЛИ стали, скорее, не нормой, а редкостью, исключением, личным делом каждого.
На кафедре стало больше, чем раньше, узких -ведов, которые со студенческих лет занимались одним автором: писали о нем дипломную работу, потом кандидатскую и (случалось) докторскую диссертацию, выпускали монографию и вели семинар. Причем, с одной стороны, возникали своеобразные межпоколенческие династии (традиционно у нас было несколько специалистов по Пушкину, Тургеневу, Чехову), с другой — очевидные пробелы (так же традиционно на кафедре никто специально не занимался Островским, после Эйхенбаума и Долинина появлялись лишь редкие публикации о Толстом или Достоевском). В это время кафедральный коллектив и филология вообще становились все более женскими.
Роль лучшего лектора кафедры (а возможно, и университета) в эти годы унаследовал от Гуковского Григорий Абрамович Бялый (1905–1987). Он занимался в семинарии Перетца, окончил историко-филологический факультет ФОН (1925), сменил несколько мест работы, с 1936 года начал преподавать в ЛГУ, но кафедральной легендой стал только в 1950-е.
Кажется, Бялый в юности мечтал стать актером, во всяком случае, брал уроки актерского мастерства. Но в его лекторской манере не было ничего актерского. По средам в семь вечера (традиционное время спецкурсов) огромная тридцать первая аудитория (актовый зал факультета) полтора часа слушала невысокого человека (без микрофона), который будто бы рассказывал о Толстом или Чехове каждому отдельно. Лекции Бялого — не актерское представление, а обаяние личной беседы. На них без преувеличения собирался весь (культурный) город. И не только.
В кафедральном фольклоре сохранилась (не раз припоминаемая самими участниками) история о совместном чтении лекций профессорами Макогоненко и Бялым во Владивостоке. Встреча в коридоре гостиницы, первый только что окончил лекцию, второй идет на нее. «— Прочитал? — Прочитал. — Смеялись? — Смеялись. — А у меня сейчас плакать будут!»42
В центре внимания Бялого была литература второй половины XIX века. Он написал книги о Гаршине («В. М. Гаршин и литературная борьба 80-х гг.», 1937; «Всеволод Михайлович Гаршин», 1969), Короленко («В. Г. Короленко», 1949, 1983), Тургеневе («Тургенев и русский реализм, 1962; «Роман Тургенева „Отцы и дети“», 1963), Чехове («Чехов и русский реализм», 1981), публиковал статьи о Достоевском и Глебе Успенском, Н. Михайловском и Надсоне, много лет писал главы о подопечных классиках для коллективных историй литературы. Эти исследования (особенно о писателях, которыми филологи занимались мало) сохраняют значение. Однако по ним, как и по конспектам лекций Бялого, опубликованным в последние годы, трудно судить о том, что происходило в аудиториях филфака почти три десятилетия.
Парадокс, упомянутый в начале нашего очерка, замечательно сформулировал Чехов: «Вышли лекции Захарьина. Я купил и прочел. Увы! Есть либретто, но нет оперы. Нет той музыки, какую я слышал, когда был студентом. Из сего я заключаю, что талантливые педагоги и ораторы не всегда могут быть сносными писателями» (письмо А. С. Суворину от 27 ноября 1889 года).43
Исаак Григорьевич Ямпольский (1903–1993) начинал учебу в Киеве, но окончил ее на пятом курсе литературно-лингвистического отделения факультета языкознания и материальной культуры Ямфака (1926). В ЛГУ он преподавал сорок пять лет (1936–1981) с перерывом на войну (1941–1943). Ямпольский занимался литературой (преимущественно демократической) середины ХIХ века. Ему принадлежат монографии «Н. Г. Помяловский: Личность и творчество» (1968), «Сатирические и юмористические журналы 1860-х годов» (1973), «Середина века: очерки русской поэзии 1840–70-х гг.» (1974), «Поэты и прозаики: Статьи о русских писателях XIX — начала XX в.» (1986) и несколько важных изданий в «Библиотеке поэта» (И. Г. много лет был заместителем главного редактора серии): «Полное собрание стихотворений» (1937) и «Драматическая трилогия» (1939) А. К. Толстого, «Поэты „Искры“» (1933, 2-е изд. 1955), «Поэты 1860-х гг.» (1968), «Стихотворения и поэмы» И. С. Тургенева (1970).
Много лет И. Г. Ямпольский руководил кафедральным аспирантским семинаром. Навсегда запомнились его точные и язвительные поправки и комментарии к представленным для обсуждения текстам. Ямпольский был фанатиком филологической точности. В последние годы «Старик Ямпол» (его прозвище у аспирантов) выискивал (часто с помощью коллег) и ехидно поправлял историко-литературные ляпы в цикле публикаций «Эти упрямые, упрямые факты», «Заметки на полях», «Горестные заметы» и т. п.
В одно из посещений И. Г. (когда он уже покинул кафедру) я увидел на столе недавно купленный двухтомник Т. Манна «Иосиф и его братья». «Мне уже не прочесть», — сказал И. Г.
Игорь Петрович Еремин (1904–1963) окончил отделение русского языка и литературы Петроградского университета (1921–1924, семинар В. Н. Перетца). Многолетний сотрудник Отдела древнерусской литературы ИРЛИ (1937–1960, с перерывом на войну). В ЛГУ (1938–1960) читал основной курс древнерусской литературы и спецкурсы, вел семинар. Его учениками были не только древники (Н. С. Демкова, Л. А. Дмитриев, Е. К. Ромодановская), но и театровед С. В. Владимиров и историк новой русской литературы Е. А. Маймин. И. П. заведовал кафедрой русской литературы (1957–1963), был деканом филфака (1958–1960). Основные его работы представлены в сборниках «Литература Древней Руси: этюды и характеристики» (1966), «Лекции по древней русской литературе» (1968), «Лекции и статьи по истории древней русской литературы» (1987), «Исследования по древнерусской литературе» (2013–2014. Т. 1–2).
Дмитрий Евгеньевич Максимов (1904–1987) окончил литературоведческое отделение факультета языкознания и материальной культуры (Ямфак) ЛГУ (1926). Своими учителями считал старшего брата В. Е. Евгеньева-Максимова, Б. М. Эйхенбаума и Б. В. Томашевского. На кафедре с перерывами работал около тридцати лет (1938–1942, 1945–1950, 1957–1975). С юности (дипломное сочинение «„Северный вестник“ и символисты») обратился к полузапрещенной и неодобряемой эпохе модернизма. До войны занимался В. Брюсовым, о котором одновременно защитил кандидатскую диссертацию и выпустил монографию («Поэзия Валерия Брюсова», 1940; новый вариант: «Брюсов: Поэзия и позиция», 1969). В послевоенные годы обратился к Лермонтову (монография «Поэзия Лермонтова», 1959, 2-е изд. — 1964; докторская диссертация, 1965). Однако главным предметом его научных изысканий стал А. Блок, о нем Д. Е. написал несколько основополагающих работ (например, «Поэзия и проза Блока», 1975; 2-е изд. — 1981) и почти двадцать лет вел семинар, из которого вышли многие исследователи Серебряного века (К. М. Азадовский, И. Л. Альми, С. С. Гречишкин, А. В. Лавров, З. Г. Минц, А. Пайман) и поэты (В. Кривулин, С. Стратановский). В последние десятилетия к прежним темам добавились творчество Андрея Белого («О романе-поэме Андрея Белого „Петербург“: К вопросу о катарсисе», 1985) и мемуаристика («Русские поэты начала века: В. Брюсов, А. Блок, А. Ахматова», 1986).
Максимов был инициатором установки мемориальной доски к юбилею А. Блока (1980) на здании ректорского флигеля, где поэт родился (и тогда, и сегодня это — сложная бюрократическая процедура). Однако репутация Блока была еще невысока: доску повесили не на стене, выходящей на Университетскую набережную, а во дворе, у входа в здание. Сегодня, при пропускном режиме, она свободно доступна лишь сотрудникам университета.
Сборник стихотворений Максимова сначала был издан за рубежом под псевдонимом Игнатий Карамов (Лозанна, 1982), а позднее уже под собственным именем на филологическом факультете (1994).
«По сути дела, общаясь с Максимовым, мы имели отношение с каким-то уникальным феноменом, потому что Дмитрий Евгеньевич (его не случайно не очень «любили» на кафедре, как бы не очень «долюбливали») был все-таки человеком немного другой породы — он не был советским интеллигентом»,44 — вспоминал один из его учеников.
Мне (слушавшему последний университетский спецкурс Д. Е.) представляется, что дело не только в породе, но и в его научной позиции. Максимов осознавал и культивировал свою отдельность, одинокость, не только личную, онтологическую (в реальности вокруг него и после ухода из университета было много друзей и бывших учеников), но — методологическую.
Много занимаясь историей журналистики, он все же был далек от привычного историко-культурного подхода (источники, биография, ближний контекст). Но в то же время с опасением относился и к методологическим новациям 1960-х годов (несмотря на многолетние дружеские связи с Тарту, Ю. М. Лотманом и З. Г. Минц45), которые если не привились на кафедре, то вызывали несомненный интерес. «Вся новая, „прогрессивная“ история литературы, все мы устремлены к изучению метода, структуры писателя, и эта линия, конечно, должна развиваться. Но не ведет ли эта гипертрофия метода, исключительность внимания к методу — к дегуманизации литературы? Все же в литературе самое важное — духовная энергия определенного направления, а структурный анализ лишь отчасти ее выражает. Личность писателя — душа произведения, и она лишь отчасти сводима к методу писателя»,46 — пишет он молодой коллеге. С этим личностным, духовно-философским подходом к литературе Д. Е., скорее, нашел бы понимание у раннего Эйхенбаума, автора статей о Карамзине и рецензий на символистские сборники, чем у создателя «Как сделана „Шинель“ Гоголя» и монографий о Толстом, с которым он много лет встречался на кафедре.47
Владислав Евгеньевич Холшевников (1910–2000), кафедральный Мафусаил, окончил литфак ЛГПИ им. А. И. Герцена (1928–1931), работал на рабфаке и экскурсоводом, воевал, получил тяжелое ранение, был награжден орденом Отечественной войны и несколькими медалями. По приглашению тогдашнего заведующего Г. А. Гуковского он пришел на кафедру, где проработал сорок семь лет (1948–1995). Специальностью В. Е. стало стиховедение, он быстро завоевал уважение и признание в этом узком кругу, воспитал многих учеников (Е. В. Хворостьянова, Л. Е. Ляпина, С. А. Матяш, Т. С. Царькова). В течение десятилетий читал придуманный Б. В. Томашевским курс «Поэтика и стилистика». Слушавшие его студенты русского отделения до сих пор помнят какие-то тексты русской классики с его голоса. Главными работами В. Е. стали учебное пособие «Основы стиховедения: Русское стихосложение» (1962, 4-е изд. — 2002) и уникальная «поэтическая антология по истории русского стиха» «Мысль, вооруженная рифмами» (1983, 3-е изд. — 2005).48
Виктор Андроникович Мануйлов (1903–1987) был как раз одним из профессоров, имевших колоритную предшествующую биографию (возможно, мифологизированную). Он служил в Красной армии, заведовал библиотекой Пехотно-пулеметных Армавирских курсов, учился на историко-филологическом факультете Азербайджанского университета в Баку (1922–1926), где слушал лекции Вяч. Иванова, после приезда в Ленинград (1927) работал в различных библиотеках.
По рекомендации Ахматовой Мануйлов стал помощником известного историка П. Е. Щеголева (1877–1931; имеются труднопроверяемые сведения о его службе в университете в 1917 году). Подготовленная им в популярном в 1920-е годы жанре литературного монтажа «Книга о Лермонтове» (1929) вышла под фамилией патрона.
Плодотворнее и честнее оказалось сотрудничество с Б. М. Эйхенбаумом. Под его руководством для пятитомного издания Лермонтова (1935–1937) Мануйлов писал примечания и составил «Летопись жизни и творчества», много позднее вышедшую отдельным изданием (1964). Лермонтов стал главным предметом его научных занятий.
В самом начале войны (26 июня 1941 года) Мануйлов был принят в ИРЛИ и всю блокаду (1942–1944) был ответственным хранителем неэвакуированной части фондов Института.
На университетской кафедре он появился поздно (1951–1977) и был известен крайне либеральным отношением к академическим занятиям студентов (плохую оценку у него получить было тяжело) и даже материальной помощью им. Книга «Лермонтов. Семинарий» (1960, 2-е изд. — 1964) начинается с замечания: «Обобщением опыта и результатов работы семинара по Лермонтову при филологическом факультете Ленинградского университета за последние годы и является настоящий Семинарий». Соавторами Мануйлова стали М. И. Гиллельсон и недавний участник семинария В. Э. Вацуро.
Делом жизни В. А. стала «Лермонтовская энциклопедия» (1981). Он был и ее главным редактором, и автором многих статей, и составителем (совместно с С. Б. Латышевым) новой версии «Летописи жизни и творчества» и — главное — организатором и вдохновителем большого авторского коллектива. Энциклопедия уже пятое десятилетие остается не только образцовым академическим, но — уникальным изданием. Повторить этот опыт пока никому не удалось.
Еще в юности Мануйлов писал стихи. В конце жизни он выпустил сборник «Стихи разных лет: 1921–1983» (1983). После его ухода появилась книга «Записки счастливого человека. Воспоминания. Автобиографическая проза. Из неопубликованных стихов» (1991, 2-е изд. — 1999).
Автор этого очерка впервые увидел В. А. на консультации для абитуриентов в начале августа 1971 года в актовом зале филфака (аудитория 31/191) и навсегда запомнил его эффектную реплику в разговоре о «Медном всаднике»: «Это единственная аудитория в мире, где, взглянув в окно, можно увидеть оригинал».
Людмила Александровна Иезуитова (1931–2008) окончила филологический факультет (1949–1954), работала на кафедре (1954–2008). Специализировалась на творчестве Л. Андреева, которому посвящена ее кандидатская диссертация (1967), написанная под руководством Д. Е. Максимова, монография «Творчество Леонида Андреева: 1892–1906» (1976) и множество статей. Популярностью пользовался семинар Л. А. по литературе ХХ века, продолживший традицию максимовского. Говорят, что настоящие актеры умирают на сцене. Л. А. Иезуитова скончалась 5 декабря 2008 года на кафедре сразу после прочитанной лекции.49
Геннадий Владимирович Иванов (1931–2002) окончил филологический факультет ЛГУ (1949–1954), занимался в семинаре М. О. Скрипиля, после окончания аспирантуры работал на кафедре до конца жизни (1957–2002).
Вузовского педагога (как и школьного учителя) обычно сопровождает переходящая по наследству от поколения к поколению легенда. Точнее даже так: настоящего преподавателя и отличает способность порождать легенды. Легенд у Г. В., кажется, было две: «зверь», который режет на экзаменах; настоящий учитель, который «бьет, но выучивает» в своем семинаре. Г. В., действительно, замечательно учил основам филологической работы, после чего думающий студент/аспирант мог идти куда угодно, не обязательно разделяя пристрастия и взгляды научного руководителя. Под руководством Г. В. автор этого очерка защитил диплом и написал кандидатскую диссертацию.
Долгое время Г. В. был руководителем кафедрального СНО, где делали первые доклады многие филологические светила следующих поколений. В качестве основного лектора на русском отделении он сменил Г. А. Бялого. После И. Г. Ямпольского стал руководителем аспирантского семинара. Лекции, обсуждения, семинары, заседания были для Г. В. личными событиями, театром, почти священнодействием. И он остро переживал, если другие думали иначе.
Для кого-то студенческий диплом был лишь поводом для собственного выступления, «отлично» или «хорошо» на аспирантском экзамене — элементом тактической борьбы, а опоздание на заседание кафедры — совершенно несущественным фактом. Г. В. воспринимал подобные вещи как нарушение не нами установленного порядка, «разруху в головах», неполадки в мироздании. Он мог бы повторить приведенную выше реплику П. Н. Беркова.
В последние годы, став самым старшим преподавателем кафедры, Г. В. (по крайней мере — для меня) оказался хранителем предания. Многие черты домашней истории ЛГУ, филологические анекдоты о Б. М. Эйхенбауме, В. Я. Проппе, Г. П. Макогоненко, В. А. Мануйлове, в том числе использованные здесь, я знаю и помню с голоса Г. В.
Г. В. исследовал преимущественно творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. Помимо кандидатской диссертации («„История одного города“ М. Е. Салтыкова-Щедрина», 1964), ему посвящены несколько десятков статей («История и современность в „Истории одного города“», 1968; «Тема „бескровного преуспеяния“ в творчестве Толстого и Щедрина 80-х годов», 1979) и образцовые комментарии к «Истории одного города» (1969) и «Пошехонским рассказам» (1973) в наиболее полном и авторитетном Собрании сочинений в 20 томах.50
Наталья Сергеевна Демкова (1932–2018) окончила русское отделение филфака (1950–1955), занималась в семинаре И. П. Еремина. После его внезапной смерти перешла из ИРЛИ на постоянную работу в университет (1963–2018), унаследовав и его курс истории древнерусской литературы. Главным предметом занятий Н. С. было творчество протопопа Аввакума, которому посвящены кандидатская диссертация (1969) и, соответственно, монография «Житие протопопа Аввакума: Творческая история произведения» (1974), докторская диссертация «Русская проза XVII века в контексте традиций» (1997) и монография «Средневековая русская литература: поэтика, интерпретации, источники» (СПб., 1997). Н. С. принимала участие в подготовке и комментировании многих произведений древнерусской литературы, а также сборников И. П. Еремина.51
Ирина Владимировна Столярова (1932–2017) в ЛГУ (1950–1955) занималась в семинаре А. С. Долинина, после окончания аспирантуры (1955–1958) работала в Омске, в 1967 году вернулась на кафедру, где работала до конца жизни. Предметом ее научного интереса был Н. С. Лесков, творчеству которого посвящены ее кандидатская (1963) и докторская (1992) диссертации, а также монографии «В поисках идеала: Творчество Н. С. Лескова» (1978) и «На пути к преображению: Человек в прозе Н. С. Лескова» (2012) и множество статей. В 1996 году стала членом редколлегии Полного собрания сочинений Лескова в 30 томах, с 2012 года — его главным редактором. В течение многих лет вела просеминар, через который проходили все студенты-русисты, специализирующиеся по кафедре русской литературы. Так что практически все сотрудники кафедры нескольких поколений писали первые научные работы под руководством И. В. Столяровой.
Борис Федорович Егоров (1926–2020) учился на филфаке (1945–1948), прежде всего, по его воспоминаниям мы знаем о событиях 1949 года. Недолгое возвращение на родную кафедру (1962–1968) было одним из этапов его огромного жизненного пути (кафедры русской литературы в Тарту и в ЛГПИ, редакции серий «Библиотека поэта» и «Литературные памятники», институты истории и социологии). Работы по истории русской литературы и критики Б. Ф. Егорова составляют библиотеку (более 20 книг и 700 статей, множество публикаций текстов, две книги «Воспоминаний», 2004, 2013). «Как-то, в 1990-е годы, он озадачил студенческую аудиторию, увлекавшуюся новыми методологиями и знавшую о его сотрудничестве с тартуской школой, когда в ответ на заданный после доклада вопрос, к какому литературоведческому направлению он себя относит, — произнес не без гордости: „Я имею честь принадлежать к отечественной культурно-исторической школе“».52
Нина Михайловна Рюмшина (1926–2017) всю жизнь проработала на кафедре в должности лаборанта и старшего преподавателя, не имея научной степени (хотя, по рассказу М. В. Отрадина, старожилы кафедры предлагали ей, конечно, в шутку, написать, каждый по главе, диссертацию за лето). Она читала курсы литературы первой половины ХIХ века (обычно заочникам), вела пушкинский семинар и руководила дипломами. Но ее авторитет, ее кафедральная роль определялись не этим.
Один из самых симпатичных персонажей чеховской «Скучной истории» — швейцар Николай, которому «известно все, что происходит на четырех факультетах, в канцелярии, в кабинете ректора, в библиотеке», который «сообщит также подробности, которыми сопровождалось то или другое обстоятельство». «Так помнить может только тот, кто любит», — заключает характеристику герой (и автор).
Н. М. кажется мне стоящей в этом ряду. На своем незаметном посту Н. М. пережила пять (или шесть) заведующих кафедрой (она появилась на кафедре в 1958 году). Жизнь кафедры, помимо официальной и парадной стороны, состоит из множества мелочей, микроконфликтов: распределение учебных курсов и семинаров, внезапные замены и командировки, справедливые и несправедливые оценки на защитах. Н. М. была всеобщим примирителем, стабилизатором, информатором.
Таким же (в пределах кафедры), как известная любому филфаковцу золотого и серебряного веков диспетчер факультета Мария Сергеевна Лев (1902–1990), которая начала работать еще в ЛИФЛИ (1932) и, как сказано в официальной истории факультета, «в 1959 г. ушла на пенсию, но работала ежегодно по два месяца в деканате почти до самой смерти».
Но безусловно, главной фигурой кафедры в 1960–1970-е годы был Георгий Пантелеймонович Макогоненко (1912–1986). В начале этой главки шла речь о двух типах филологов. Г. П. принадлежал ко второму. За стенами филфака он прожил другую жизнь: работал на заводе, в редакциях и на киностудии, прошел через блокаду и мучительные отношения с О. Ф. Берггольц, женился на студентке, был знаком с множеством людей: писателей, киношников, литераторов — от Анны Ахматовой до Виктора Некрасова (написавшего о Г. П. трогательные воспоминания).53
Он с отличием окончил русское отделение (1934–1939), восстановился в аспирантуре (1944) и быстро окончил ее, был сотрудником кафедры тридцать семь лет (1946–1983). Траектория его научной жизни похожа на аналогичную его учителя Г. А. Гуковского. Он тоже начал с изучения XVIII века («Николай Новиков и русское просвещение XVIII в.», 1951; «Радищев и его время», 1956; «Денис Фонвизин: Творческий путь», 1961), подготовил необходимое для студентов дополнение к учебнику Гуковского, огромную антологию «Русская литература XVIII века» (1970), потом занялся литературой Золотого века («Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы», кн. 1–2, 1974, 1982; «Гоголь и Пушкин», 1985; «Лермонтов и Пушкин: Проблемы преемственного развития литературы», 1987).
Наряду с Г. А. Бялым он был популярным лектором, отчасти наследовавшим театральную манеру учителя Г. А. Гуковского (студенты нескольких поколений запомнили сигару профессора). По воспоминаниям Е. Н. Петуховой, в октябре 1967 года Г. П. читал лекцию о «Медном всаднике» во время очередного наводнения и эффектно включал в рассказ пейзаж за окном. А потом студенты спасали от подступавшей воды книги.
Через семинар Г. П. прошли многие известные в будущем историки литературы. Но, кажется, главным его делом и любовью была кафедра, которой он, беспартийный (редкость по советским временам), заведовал 17 лет (1965–1982). Заведование Г. П. пришлось на смену поколений. Ежегодно Г. П. выбивал целевое место в аспирантуре и через три года на кафедре появлялся новый молодой преподаватель, несколько человек были приглашены со стороны. В итоге за семь–восемь лет кафедра обновилась почти наполовину.
Любая рутинная академическая работа — ежемесячные заседания, научные доклады (он придумал ежегодные апрельские чтения; на первых в переполненной аудитории студенты и даже некоторые преподаватели впервые услышали о набоковском «Даре»), чаепития с первым курсом — была для Г. П. поводом напомнить коллегам о прекрасном настоящем и сияющих перспективах («Приду на кафедру, а там восемь докторов наук!» — это о задержавшихся с защитами и недавних аспирантах. И почти все оправдали надежды, но уже без него).
Оттепель шестидесятых докатилась до самых дальних углов социума. Поэтическая революция у памятника Маяковскому и на московских стадионах обернулась на факультете расцветом ЛИТО, которое за стеной, на кафедре советской литературы, сначала вел ортодоксальный Е. И. Наумов, а потом — Г. В. Филиппов (в него захаживал и Бродский).
Раньше (как выяснилось потом благодаря Л. Лосеву (Лифшицу)) возникла филологическая школа, еще одна (после венгеровского семинария и лекций Бялого) легенда филфака. Люди театра в это же время вспомнили о театре-доме, демократическом, без разделения на звезд и массовку, даже с одинаковой зарплатой. Беспартийный Г. П. (с переменным успехом, потому что на кафедре существовала партгруппа, не дающая забыть о прежних временах, да и не все коллеги-соратники с энтузиазмом воспринимали идею) мечтал и культивировал кафедру-дом.
Почти двадцать лет кафедра истории русской литературы ЛГУ была кафедрой Макогоненко. В этом качестве она просуществовала и еще почти два десятилетия после его ухода.54
Семидесятые–девяностые: бронзовый век
Следующим заведующим кафедрой истории русской литературы стал Аскольд Борисович Муратов (1937–2005). Он филолог во втором поколении, племянник К. Д. Муратовой (1904–1998) — известного историка литературы и библиографа, многолетней сотрудницы Пушкинского Дома; библиографические «указатели <под редакцией> Муратовой» знакомы каждому филологу-русисту.
Сборник памяти А. Б. Муратова называется «Homo universitatis».55 Действительно, А. Б. был до мозга костей университетским человеком: русское отделение филфака (1955–1960) — аспирантура (1960–1963) — кандидатская диссертация «Роман И. С. Тургенева „Дым“» под руководством Г. А. Бялого и начало работы на кафедре (1964) — докторская диссертация «Проблемы реализма в позднем творчестве И. С. Тургенева: Повести и рассказы 1860– 80-х гг.» (1984) — наконец, заведование кафедрой (1983–2005), по длительности превышающее все предшествующие.
А. Б. был странным заведующим. С одной стороны, экспансивным, вспыльчивым, часто переходящим на личности. С другой — часто не передающим, спихивающим, а лично выполняющим большую часть внеплановой кафедральной нагрузки (такие ситуации возникают в кафедральной жизни часто).
Любопытен взгляд на А. Б. уже кафедрального «внука»: «У Аскольда Борисовича Муратова было как бы две ипостаси. Первая — традиционалист, хранитель большой традиции, каковым и должен быть заведующий такой кафедрой. Все, кто бывал в 188 аудитории, помнят знаменитый „иконостас“, занимающий целую стену, — портреты предшественников. Для Аскольда Борисовича, воздвигшего эту галерею, это были не просто портреты: он знал и работы, и биографию каждого, и по праву чувствовал себя звеном в цепи, продолжателем их дела. Так же глубоко он знал и литературу, в том числе совершенно забытую: рассказать ему что-то для него неизвестное о XIX веке было невозможно. Но был и другой Муратов, который проявлялся в кулуарных разговорах о литературе и жизни: человек резких, совершенно нетрадиционных, иногда эпатирующих суждений, парадоксалист, спорщик. Эта его ипостась, к сожалению, совершенно не видна в его опубликованных трудах» (А. Д. Степанов).56
Главным героем научной деятельности А. Б. был Тургенев. Ему посвящены обе диссертации и опубликованные на их основе книги «Тургенев в Петербурге» (1970, в соавторстве с Г. А. Бялым), «Тургенев после „Отцов и детей“ (1860-е гг.)» (1972), «Повести и рассказы И. С. Тургенева 1867–1971 гг.» (1980), «Тургенев-новеллист (1870–1880-е гг.)» (1985). Однако он занимался и другими авторами второй половины XIX века (М. Альбов, Островский, Чехов), участвовал в изданиях филологической классики (А. А. Потебня, Б. М. Энгельгардт, А. С. Долинин). Ему принадлежит не только идея «иконостаса», но и большой обзор истории кафедры, упомянутый в первой ссылке.
На долю А. Б. Муратова пришлись не столько персональные, сколько организационные изменения: поглощение кафедры истории советской литературы (1991), после чего наша кафедра стала универсальной, монструозной, охватившей все эпохи русской словесности, плюс теорию литературы, историю критики и фольклор (в МГУ это пространство обслуживают пять кафедр); создание внутри кафедры кабинета фольклора и теории литературы (1998), принципиальное обновление учебных программ, в том числе создание на основе курса «Поэтики и стилистики» уникального многосоставного курса теории литературы, поэтики и герменевтики.
Нынешний состав кафедры — около 30 преподавателей. Упомяну только о тех, чей путь уже завершен.
Университетская жизнь Владимира Марковича Марковича (1936–2016) начинается с (авторской) легенды. Номенклатурный национальный кадр (отец — физик и декан Казахского пединститута им. Абая, мать — фольклорист и член-корр. АН Казахской ССР), выпускник того же института (1959) приезжает в ЛГУ с готовой диссертацией, но, впервые (!) прочитав то ли Эйхенбаума, то ли Тынянова, уничтожает (рвет, топит) ее и начинает новую филологическую жизнь. Защита кандидатской диссертации Марковича «Два типа классического русского романа в первой половине ХIХ в.» по инициативе Г. А. Бялого и Г. П. Макогоненко состоялась уже в ЛГУ (1966). Только через пять лет, с краткой остановкой в ЛГПИ, Макогоненко удалось провести В. М. на кафедру, где он проработал 43 года (1972–2015).
Начав с Тургенева («Человек в романах Тургенева», 1975; «И. С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века (30–50-е годы)», 1982), В. М. в исследованиях двигался назад («Петербургские повести Гоголя», 1989; «Пушкин и Лермонтов в истории русской литературы», 1997) и далеко вперед (статьи «Автор и герой в романах Лермонтова и Пастернака», 1996; «Реанимация петербургского текста в поэзии ленинградского андеграунда», 2005). Он был редактором многих научных сборников, организатором и участником бесчисленных конференций и — главное — одним из самых популярных лекторов филфака, продолживших традицию Бялого и Макогоненко.57
Борис Валентинович Аверин (1941–2019) был еще одной находкой Макогоненко. Окончив Арктическое училище в Стрельне (1962), он зимовал на Земле Франца-Иосифа (о чем много позднее рассказал в мемуаре «Мой Север», 2018), поступил на заочное отделение филфака (1963), затем перевелся на вечернее, перешел в аспирантуру (1970–1973) и сразу после защиты написанной под руководством Г. А. Бялого диссертации «„История моего современника“ В. Г. Короленко: социально-философское содержание и художественный метод» стал членом кафедры (1974–2019). Интересы Б. В. менялись вместе со временем. От Короленко он перешел к Блоку, а затем — к Набокову, о творчестве которого он с большим опозданием защитил докторскую диссертацию (1999) и опубликовал на ее основе монографию («Дар Мнемозины: Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции», 2003).
Однако писать Б. В. не любил. Вторая (и последняя) его книга вышла только через одиннадцать лет («От Толстого до Набокова. Из истории русской литературы», 2014). В сборнике воспоминаний о Г. А. Бялом он рассказал историю-анекдот о визите к научному руководителю после двух лет (?) аспирантуры с шестью страничками диссертационного текста. «Компактно написано», — прокомментировал работу Г. А.
История правдива, я был свидетелем похожего разговора в редакции, вступительную статью к тому «Библиотеки поэта» потом написал другой человек.
Б. В. был идеальным университетским преподавателем, «человеком говорящим», который «издалека заводит речь» и далеко ее заводит. Из университетских аудиторий его лекции переносились в пространства городских и зарубежных залов, на телевидение, в кино (он стал героем фильма 4-го в документальной серии А. Сокурова «Интонация»), оформлялись в программы («Дневник профессионального читателя», «Филфак на дому», «Мистика судьбы», «Неизвестный Петергоф»), превращались в свободные размышления о жизни. Один из последних циклов Б. В. — «Атлас облаков: облака в книгах и в жизни» (2017) — совмещал юношескую геофизику и филологию.
В последние десятилетия на кафедре стал заметен десант из Тарту (Ю. М. Лотман возвращался на кафедру своими учениками). Однако отношения этих выпускников с alma mater оказались своеобразными. Нашествия семиотиков-структуралистов не произошло.
Наталья Михайловна Герасимова (1952–2006) родилась в Чите, начала учебу в Тартуском университете (1969), но оканчивала ее уже в ЛГУ (1971–1974) в семинаре по древнерусской литературе Н. С. Демковой. Н. М. была среди аспирантов макогоненковского призыва (1974–1976), работала над диссертацией «Традиционные формулы русской волшебной сказки» под руководством К. В. Чистова. Но эта работа затянулась. Кандидатскую диссертацию (кафедральный рекорд) Н. М. защитила только через десять лет, причем на тему студенческого диплома «Художественное своеобразие „Жития“ протопопа Аввакума» (1986), чуть позднее выпустив учебное пособие (1993).
Главным делом Герасимовой во время работы на кафедре (1977–2005) стали фольклорные и археографические экспедиции. Как их руководитель, Герасимова объездила весь Север России. Благодаря этим поездкам на кафедре появились Пинежские, Вологодские, Онежские, Белозерские и др. собрания, которые используются фольклористами следующих поколений. По ее инициативе был создан Пропповский центр (начал работу в середине 1990-х годов, зарегистрирован в 2000 году), не только как часть кафедры, но культурная организация, ведущая большую работу по исследованию и пропаганде традиционного и современного фольклора.
Н. М. была важным для кафедры человеком, внося в ее размеренную жизнь ноту легкого безумия и абсурда. Ее любили студенты. Ежегодно проводятся посвященные ее памяти Декабрьские чтения. Главные работы Н. М. о фольклоре и литературе собраны в книге «Прагматика текста: фольклор, литература, культура» (2012).58
Елена Владимировна Душечкина (1941–2020) появилась на кафедре благодаря распаду СССР. Она окончила историко-филологический факультет Тартуского университета (1962–1966), там же, в аспирантуре, под руководством Д. С. Лихачева защитила кандидатскую диссертацию «Художественная функция чужой речи в Киевском летописании» (1972) и почти двадцать лет проработала в Тарту и Таллине. После переезда семьи в Ленинград и недолгой работы в Институте культуры им. Н. К. Крупской она проходит по конкурсу и начинает службу уже не в ЛГУ им. А. А. Жданова, а в Санкт-Петербургском университете.
В работах Е. В. Душечкиной не было ничего от методов тартуской школы. Методологически они располагаются даже не в окрестностях Венгерова, а где-то глубже, по соседству с Пыпиным и Зелениным. Ее культурно-этнографическая трилогия («Русский святочный рассказ: становление жанра», 1995, защищена как докторская диссертация; «Русская ёлка: История, мифология, литература», 2002; «Светлана. Культурная история имени», 2007), уже не раз переизданная, отличается тщательной проработкой материала и рассчитана не только на специалистов.59
Михаил Яковлевич Билинкис (1945–2007), сын известного историка литературы Я. С. Билинкиса, тоже начинал учиться в Тарту, но в итоге окончил заочное отделение филфака ЛГУ (1969), защитил кандидатскую диссертацию «Взаимоотношения документальных жанров и беллетристики в русской литературе 60-х годов XVIII в.» под руководством Ю. М. Лотмана (1979), но на кафедре русской литературы оказался еще через несколько лет (1986–2007). В круг его научных интересов входили не только XVIII век («Русская проза XVIII в. Документальные жанры. Повесть. Роман», 1996), но и авторы нового времени от Пушкина до Бродского («Пушкин и наследие XVIII столетия», 1999; «„Часть речи“ в „непрерывном“ тексте: „20 сонетов к Марии Стюарт“ И. Бродского», 2009).
Екатерина Ильинична Ляпушкина (1963–2018) окончила русское отделение филфака (1981–1986), некоторое время работала лаборантом, под руководством М. В. Отрадина защитила кандидатскую диссертацию «Русская идиллия ХIХ в. и роман И. А. Гончарова „Обломов“» (1993) и перешла на преподавательскую работу (1994–2018). Круг ее научных интересов был связан с преподаваемым теоретическим курсом герменевтики («Введение в литературную герменевтику», «Герменевтические практики (Островский. Тургенев. Достоевский)», обе 2009).60
В последние десятилетия кафедра-учреждение (к счастью, пока не департамент) сильно изменилась — вместе с университетом и страной. Кафедра-аудитория часто закрыта или пуста. По легенде, там стоит та же самая деревянная кафедра-мебель, с которой обличали и каялись в конце 1940-х годов. Но про это мало кто знает.
Иными стали правила поступления, система занятий, оценки деятельности преподавателей, отношения со студентами. Еженедельные преподавательские вечерние собеседования по средам, до и после спецкурсов, сменились случайными встречами по пути на лекции в Школе или Катакомбах (студенческие прозвища причудливых частей, пристроек и надстроек факультета стали официальными пометками в расписании). И сами спецкурсы теперь не объединяют студентов разных поколений, они превратились в обычные локальные «элективы» для одного курса или даже группы. Кажется, на смену навязанному коллективизму пришел вынужденный индивидуализм.
Призванное Г. П. Макогоненко поколение из младшего стало старшим, почти уходящим. Описывать и оценивать эти изменения будут уже другие люди. Видимо, к очередному юбилею.
Кафедра — не стены, а люди и память о них.
Поэтому окончим стихотворением-воспоминанием.
Академичка! Кладбищем надежд
Мальчишеских осталось для кого-то
Местечко, расположенное меж
«Кунсткамерой» и клиникою Отта,
но не для нас! Пусть полный смысла звук —
залп пушечный — оповестит округу
о том, что время завершило круг
(очередной) и вновь пошло по кругу.
Поэт Геннадий Григорьев (1950–2007) учился на филфаке, но был отчислен (по разным сведениям) то ли после первого семестра, то ли с третьего курса. В стихотворении «Академическое. Столовой Академии наук — с любовью» (1974) есть и прямые упоминания преподавателей филфака: «Я снова наблюдаю спозаранку / Холшевникова высохшую стать / И Выходцева правую <sic!> осанку».
Столовая и кафетерий в Биржевом проезде, д. 2 были клубом всех работающих и преподающих на Стрелке Васильевского острова. В 1990-е годы на этом месте появилась пригожинская «Старая таможня».
«Залп пушечный» (на самом деле, выстрел) из Петропавловской крепости в двенадцать часов слышен на филфаке и обычно обозначал начало третьей пары. Потом расписание (как и номера аудиторий) поменялось.
«Тяжелые времена, <…> тяжелые. Уж и время-то стало в умаление приходить», — помнится, жаловалась одна странница.
* См. предшествующие обзоры: Пиксанов Н. К. 1) История русской литературы в Ленинградском университете за 120 лет // Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Материалы к истории факультета. 4-е изд. (юбилейное), испр. и доп. СПб., 2008. С. 73–82; 2) Русское литературоведение в Петербургском — Ленинградском университете // Там же. С. 83–94; Пиксанов Н. К., Соколов Н. И. Изучение русской литературы в Петербургском — Ленинградском университете (1819–1969) // Там же. С. 95–102; Муратов А. Б. Изучение русской литературы в Санкт-Петербургском — Петроградском — Ленинградском университете // Там же. С. 103–118 (обзоры написаны и / или опубликованы в 1939–1940, 1946, 1969 и 2000 годах); Карпов А. А. Кафедра истории русской литературы Санкт-Петербургского государственного университета: эпохи и имена (1819–1919) // Актуальные проблемы изучения и преподавания русской литературы. Взгляд из России — взгляд из зарубежья. СПб., 2011. С. 11–41; Иванов М. В. Университетские филологи. СПб., 2009. Биографии многих членов кафедры также см.: Литературный Санкт-Петербург. XX век. Энциклопедический словарь: В 3 т. СПб., 2015.
1 Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. С. 343.
2 Мандельштам О. Э. Египетская марка // Мандельштам О. Э. Собр. соч.: В 3 т. 3-е изд., испр. и доп. СПб., 2020. Т. 2. С. 249.
3 Эйхенбаум Б. М. Мой временник. Художественная проза и избранные статьи 20–30-х годов. СПб., 2001. С. 52.
4 Шкловский В. Тетива. О несходстве сходного. М., 1970. С. 165.
5 Там же. С. 163.
6 См.: Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. СПб., 1889–1904. Т. 1–6 (первые четыре тома доведены до фамилии «Введенский», два последних представляют сводку материалов «в порядке накопления их и по мере того, как они будут готовы к печати»); Источники словаря русских писателей. СПб., 1900–1917. Т. 1–4 (Аарон — Некрасов). Картотека Венгерова, на основе которой составлялись словари, хранится в Пушкинском Доме.
7 Фомин А. Г. С. А. Венгеров как профессор и руководитель Пушкинского семинария // Пушкинский сборник памяти проф. С. А. Венгерова (Пушкинист. IV). М.; Пг., 1922. С. ХIII.
8 Томашевский Б. В. Формальный метод (Вместо некролога) // Хрестоматия по теоретическому литературоведению. Вып. 1 / Изд. подг. И. Чернов. Тарту, 1976. С. 27 (статья написана в 1925 году).
9 Пушкинист. СПб., 1916. Сб. 2. С. IХ–Х.
10 Гинзбург Л. Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2002. С. 374.
11 Там же. С. 27.
12 Томашевский Б. В. Формальный метод. С. 28.
13 Чуковский К. И. Собр. соч.: В 15 т. М., 2013. Т. 12. С. 245 (дневниковая запись от 24 августа 1925 года).
14 Фомин А. Г. С. А. Венгеров как профессор и руководитель Пушкинского семинария. С. XXXII.
15 Воспоминание Г. А. Бялого (в передаче его ученицы А. Г. Головачевой).
16 Цит. по: Маркович В. Бялый Григорий (Гирш) Абрамович // Литераторы Санкт-Петербурга. XX век. Энциклопедический словарь (см.: https://lavkapisateley.spb.ru/enciklopediya/b/byalyj-; дата обращения: 31.10.2023). Ср. также несколько иное прочтение рукописи: Маркович В. М. Наследник высоких традиций. Г. А. Бялый // Деятели русской науки XIX–XX веков. СПб., 2008. Вып. 4. С. 687.
17 Цит. по: Робинсон М. А. Методологическое новаторство В. Н. Перетца в изучении истории литературы: К 150-летию со дня рождения ученого // Славянский альманах. 2020. М., 2020. Вып. 3– 4. С. 453–454. Несколько иное прочтение черновика этих воспоминаний см.: Тыняновский сборник. Первые Тыняновские чтения. Рига, 1984. С. 93–94 (публикация М. О. Чудаковой и Е. А. Тоддеса). См. также: Робинсон М. А. Академик В. Н. Перетц — ученик и учитель // Славянский альманах. 2002. М., 2003. С. 178–236.
18 См.: Росовецкий С. К. Памятник истории литературоведения — или университетское пособие на все времена? // Перетц В. Н. Краткий очерк методологии истории русской литературы. Пособие и справочник для студентов, преподавателей и для самообразования. М., 2010. С. 3–24.
19 Перетц В. Н. Краткий очерк методологии истории русской литературы. Пг., 1922. С. 102.
20 Бум (а также Маркиз) — прозвища Б. М. Эйхенбаума. Н. С. Державин — ректор Ленинградского университета (1922–1925), М. А. Яковлев — доцент кафедры истории русской литературы (1925–1930), позднее — в ЛГПИ им. А. И. Герцена.
21 https://www.labirint.ru/rating/?ysclid=lnqg57uhtm812095325&id_genre=2316&nrd=1& period=0 (дата обращения: 31.10.2023).
22 Гинзбург Л. Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. С. 303.
23 Лотман Ю. М. Воспитание души. СПб., 2005. С. 38.
24 Там же. С. 61.
25 Чуковский Н. К. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 190.
26 См.: Пумпянский Л. В. Классическая традиция: Собр. трудов по истории русской литературы. М., 2000.
27 См.: Макогоненко Г. П. Павел Наумович Берков: К семидесятилетию со дня рождения // Русская литература. 1966. № 4. С. 248–253.
28 Эйхенбаум Б. М. О П. Н. Беркове // XVIII век. М.; Л., 1966. Сб. 7. С. 3 (заметка написана в 1956 году). Пер.: «Ни дня без листа — минимум!»
29 См.: Воспоминания о Павле Наумовиче Беркове. 1896–1969 / Отв. ред. Н. Д. Кочеткова, Е. Д. Кукушкина. М., 2005.
30 Лотман Ю. М. Воспитание души. С. 55.
31 См.: Левкович Я. Борис Викторович Томашевский // Вопросы литературы. 1979. № 11. С. 208–209.
32 Гинзбург Л. Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. С. 445. Этому наблюдению можно придать типологический характер: есть литературоведы — труженики науки и филологи, для которых их работа имеет личный/интимный смысл, «скрытое отношение к жизненным задачам писавшего».
33 См. подробнее: Сухих И. Н. Толстой Эйхенбаума: энергия постижения (1919–1959) // Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Исследования. Статьи. СПб., 2009. С. 3–28.
34 Звезда. 1999. № 10. С. 164 (письмо Ю. А. Бережной от 6 июня 1956 года).
35 Канунова Ф. З. Представитель петербургской научной школы // Воспоминания о Павле Наумовиче Беркове. 1896–1969. С. 64. Сама Ф. З. Канунова (1922–2009) после окончания аспирантуры в ЛГУ (1945–1948) была направлена в Томский госуниверситет и считается основательницей томской филологической школы.
36 Слуцкий Б. А. Собр. соч.: В 3 т. М., 1991. Т. 2. С. 322.
37 В эпоху оттепели они успешно продолжат карьеру, резко сменив кожу: Бердников станет известным чеховедом, членом-корреспондентом АН СССР, директором ИМЛИ (1977–1987), Дементьев — либеральным критиком, заместителем Твардовского в журнале «Новый мир», Абрамов — публицистом, автором деревенской прозы. Еще один активный обличитель, доцент кафедры С. С. Деркач (1906–1986), вскоре сам будет арестован и осужден как троцкист (1949–1956), вернется на кафедру после освобождения и проработает на ней еще три десятилетия (1955–1985).
38 Из воспоминаний О. Б. Эйхенбаум // Эйхенбаум Б. М. Мой временник. С. 638.
39 См. подробнее: Азадовский К. М., Егоров Б. Ф. 1) О низкопоклонстве и космополитизме: 1948–1949 // Звезда. 1989. № 6. С. 157–176; 2) Космополиты // Новое литературное обозрение. 1999. № 36. С. 83–135; Дружинин П. А. Идеология и филология. Ленинград, 1940-е годы: Документальное исследование. М., 2012. Т. 1–2.
40 Дружинин П. А. Идеология и филология. Т. 2. С. 398.
41 См. попытку взгляда издалека, уже из иной эпохи: «Это до сих пор болит». Разгрому ленинградской филологии 70 лет (см.: https://philologist.livejournal.com/10845655.html?ysclid= lm68wijeae486723236; дата обращения: 31.10.2023).
42 Однако, как и в случае Лотман–Гуковский, все не так однозначно. Мнение одного из студентов следующего поколения: «И в лекционных курсах мы отдавали предпочтение не артистичным, по-своему замечательным, талантливейшим ораторам Г. П. Макогоненко и Г. А. Бялому, собиравшим огромные аудитории, а гораздо менее эффектным И. Г. Ямпольскому и Б. Ф. Егорову, от которых узнавали то, чего тогда нельзя было прочесть ни в каких историко-литературных пособиях» (Лавров А. В. Д. Е. Максимов в штрихах благодарной памяти // Дмитрий Евгеньевич Максимов в памяти друзей, коллег, учеников: к 100-летию со дня рождения. М., 2007. С. 146–147). Важно, что у студентов была возможность выбора.
43 Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 1976. Письма. Т. 3. С. 295.
44 Кривулин В. Выступление на вечере, посвященном 90-летию Д. Е. Максимова // Дмитрий Евгеньевич Максимов в памяти друзей, коллег, учеников. С. 156.
45 См.: Из переписки Д. Е. Максимова с Ю. М. Лотманом и З. Г. Минц / Публ., подг. текста, вступ. заметка и прим. Б. Ф. Егорова // Звезда. 2004. № 12. С. 110–144.
46 Зыкова Г. В., Пенская Е. Н. Д. Е. Максимов в переписке с А. И. Журавлевой: документы к истории лермонтоведения второй половины ХХ века // Вестник Московского ун-та. Сер. 9. Филология. 2014. № 6. С. 40 (письмо от 28 октября 1964 года).
47 О феномене ученого без метода (или ученом-методе) см.: Сухих И. Н. Чеховед Скафтымов: размышления о методе (Несколько положений) // Сухих И. Н. От… и до… СПб., 2015. С. 560–566.
48 См.: Онтология стиха: памяти Владислава Евгеньевича Холшевникова. СПб., 2000.
49 См.: Иезуитова Л. А. Леонид Андреев и литература Серебряного века: Избр. труды. СПб., 2010; Судьбы литературы Серебряного века и русского зарубежья. Сб. статей и материалов (Памяти Л. А. Иезуитовой: К 80-летию со дня рождения). СПб., 2010.
50 См.: Доцент Геннадий Владимирович Иванов: памяти филолога. СПб., 2004.
51 См.: О древней и новой русской литературе. Сборник статей в честь проф. Н. С. Демковой. СПб., 2005.
52 Ляпина Л. Е. Борис Федорович Егоров // Культура и текст. 2016. № 2 (25). С. 217. См. также: Острова любви БорФеда: Сборник к 90-летию Бориса Федоровича Егорова. СПб., 2016.
53 См.: Некрасов В. Памяти Г. П. Макогоненко. Некролог для радио. 20 октября 1986 г. (см.: https://nekrassov-viktor.com/books/nekrasov-pamiati-makogonenko; дата обращения: 31.10.2023).
54 См.: Памяти Георгия Пантелеймоновича Макогоненко: Сборник статей, воспоминаний и документов. СПб., 2000.
55 См.: Homo universitatis: Памяти Аскольда Борисовича Муратова (1937–2005). СПб., 2005.
56 См.: Вспоминая Аскольда Борисовича Муратова // Санкт-Петербургский университет. 2006. № 14/15 (см.: http://old.journal.spbu.ru/2006/14/25.shtml; дата обращения: 31.10.2023).
57 См. итоговые сборники, опубликованные самим автором: Маркович В. М. 1) Мифы и биографии. Из истории критики и литературоведения в России. СПб., 2007; 2) Избр. работы. СПб., 2008; а также любовно подготовленные ученицей Марковича Е. Н. Григорьевой фактически тома Собрания сочинений: Маркович В. М. 1) О Тургеневе. Работы разных лет. СПб., 2018; 2) Русская литература Золотого века. Лекции. СПб., 2019; 3) О Пушкине. Работы разных лет. СПб., 2023.
58 См.: Традиционные модели в фольклоре, литературе, искусстве: В честь Н. М. Герасимовой. СПб., 2002.
59 См.: Прекраснейшей: сборник памяти Елены Душечкиной. СПб., 2022.
60 См. также: Ляпушкина Е. И. Литературная герменевтика. Теория и практика. СПб., 2020.
About the authors
Igor N. Sukhikh
St. Petersburg State University
Author for correspondence.
Email: igorlit50@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-5146-8733
Professor
Russian Federation, St. PetersburgReferences
- Azadovskii K. M., Egorov B. F. Kosmopolity // Novoe literaturnoe obozrenie. 1999. № 36.
- Azadovskii K., Egorov B. O nizkopoklonstve i kosmopolitizme: 1948–1949 // Zvezda. 1989. № 6.
- Chekhov A. P. Poln. sobr. soch. i pisem: V 30 t. M., 1976. Pis’ma. T. 3.
- Chukovskii K. I. Sobr. soch.: V 15 t. M., 2013. T. 12.
- Chukovskii N. K. Literaturnye vospominaniia. M., 1989.
- Dotsent Gennadii Vladimirovich Ivanov: pamiati filologa. SPb., 2004.
- Druzhinin P. A. Ideologiia i filologiia. Leningrad, 1940-e gody: Dokumental’noe issledovanie. M., 2012. T. 1–2.
- Eikhenbaum B. M. Moi vremennik. Khudozhestvennaia proza i izbrannye stat’i 20–30-kh godov. SPb., 2001.
- Eikhenbaum B. M. O P. N. Berkove // XVIII vek. M.; L., 1966. Sb. 7.
- Ginzburg L. Ia. Zapisnye knizhki. Vospominaniia. Esse. SPb., 2002.
- Homo universitatis: Pamiati Askol’da Borisovicha Muratova (1937–2005). SPb., 2005.
- Iezuitova L. A. Leonid Andreev i literatura Serebrianogo veka: Izbr. trudy. SPb., 2010.
- Ivanov M. V. Universitetskie filologi. SPb., 2009.
- Iz perepiski D. E. Maksimova s Iu. M. Lotmanom i Z. G. Mints / Publ., podg. teksta, vstup. zametka i prim. B. F. Egorova // Zvezda. 2004. № 12.
- Karpov A. A. Kafedra istorii russkoi literatury Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta: epokhi i imena (1819–1919) // Aktual’nye problemy izucheniia i prepodavaniia russkoi literatury. Vzgliad iz Rossii — vzgliad iz zarubezh’ia. SPb., 2011.
- Krivulin V. Vystuplenie na vechere, posviashchennom 90-letiiu D. E. Maksimova // Dmitrii Evgen’evich Maksimov v pamiati druzei, kolleg, uchenikov: k 100-letiiu so dnia rozhdeniia. M., 2007.
- Lavrov A. V. D. E. Maksimov v shtrikhakh blagodarnoi pamiati // Dmitrii Evgen’evich Maksimov v pamiati druzei, kolleg, uchenikov: k 100-letiiu so dnia rozhdeniia. M., 2007.
- Levkovich Ia. Boris Viktorovich Tomashevskii // Voprosy literatury. 1979. № 11.
- Liapina L. E. Boris Fedorovich Egorov // Kul’tura i tekst. 2016. № 2 (25).
- Liapushkina E. I. Literaturnaia germenevtika. Teoriia i praktika. SPb., 2020.
- Literaturnyi Sankt-Peterburg. XX vek. Entsiklopedicheskii slovar’: V 3 t. SPb., 2015.
- Lotman Iu. M. Vospitanie dushi. SPb., 2005.
- Makogonenko G. P. Pavel Naumovich Berkov: K semidesiatiletiiu so dnia rozhdeniia // Russkaia literatura. 1966. № 4.
- Mandel’shtam O. E. Egipetskaia marka // Mandel’shtam O. E. Sobr. soch.: V 3 t. 3-e izd., ispr. i dop. SPb., 2020. T. 2.
- Markovich V. Bialyi Grigorii (Girsh) Abramovich // Literatory Sankt-Peterburga. XX vek. Entsiklopedicheskii slovar’ (https://lavkapisateley.spb.ru/enciklopediya/b/byalyj-; data obrashcheniia: 31.10.2023).
- Markovich V. M. Izbr. raboty. SPb., 2008.
- Markovich V. M. Mify i biografii. Iz istorii kritiki i literaturovedeniia v Rossii. SPb., 2007.
- Markovich V. M. Naslednik vysokikh traditsii. G. A. Bialyi // Deiateli russkoi nauki XIX–XX vekov. SPb., 2008. Vyp. 4.
- Markovich V. M. O Pushkine. Raboty raznykh let. SPb., 2023.
- Markovich V. M. O Turgeneve. Raboty raznykh let. SPb., 2018.
- Markovich V. M. Russkaia literatura Zolotogo veka. Lektsii. SPb., 2019.
- Muratov A. B. Izuchenie russkoi literatury v Sankt-Peterburgskom — Petrogradskom — Leningradskom universitete // Filologicheskii fakul’tet Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta. Materialy k istorii fakul’teta. 4-e izd. (iubileinoe), ispr. i dop. SPb., 2008.
- Nekrasov V. Pamiati G. P. Makogonenko. Nekrolog dlia radio. 20 oktiabria 1986 g. (https://nekrassov-viktor.com/books/nekrasov-pamiati-makogonenko; data obrashcheniia: 31.10.2023).
- O drevnei i novoi russkoi literature. Sbornik statei v chest’ prof. N. S. Demkovoi. SPb., 2005.
- Ontologiia stikha: pamiati Vladislava Evgen’evicha Kholshevnikova. SPb., 2000.
- Ostrova liubvi BorFeda: Sbornik k 90-letiiu Borisa Fedorovicha Egorova. SPb., 2016.
- Paips R. Rossiia pri starom rezhime. M., 1993.
- Pamiati Georgiia Panteleimonovicha Makogonenko: Sbornik statei, vospominanii i dokumentov. SPb., 2000.
- Piksanov N. K. Istoriia russkoi literatury v Leningradskom universitete za 120 let // Filologicheskii fakul’tet Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta. Materialy k istorii fakul’teta. 4-e izd. (iubileinoe), ispr. i dop. SPb., 2008.
- Piksanov N. K. Russkoe literaturovedenie v Peterburgskom — Leningradskom universitete // Filologicheskii fakul’tet Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta. Materialy k istorii fakul’teta. 4-e izd. (iubileinoe), ispr. i dop. SPb., 2008.
- Piksanov N. K., Sokolov N. I. Izuchenie russkoi literatury v Peterburgskom — Leningradskom universitete (1819–1969) // Filologicheskii fakul’tet Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta. Materialy k istorii fakul’teta. 4-e izd. (iubileinoe), ispr. i dop. SPb., 2008.
- Prekrasneishei: sbornik pamiati Eleny Dushechkinoi. SPb., 2022.
- Pumpianskii L. V. Klassicheskaia traditsiia: Sobr. trudov po istorii russkoi literatury. M., 2000.
- Robinson M. A. Akademik V. N. Peretts — uchenik i uchitel’ // Slavianskii al’manakh. 2002. M., 2003.
- Robinson M. A. Metodologicheskoe novatorstvo V. N. Perettsa v izuchenii istorii literatury: K 150-letiiu so dnia rozhdeniia uchenogo // Slavianskii al’manakh. 2020. M., 2020. Vyp. 3–4.
- Rosovetskii S. K. Pamiatnik istorii literaturovedeniia — ili universitetskoe posobie na vse vremena? // Peretts V. N. Kratkii ocherk metodologii istorii russkoi literatury. Posobie i spravochnik dlia studentov, prepodavatelei i dlia samoobrazovaniia. M., 2010.
- Shklovskii V. Tetiva. O neskhodstve skhodnogo. M., 1970.
- Slutskii B. A. Sobr. soch.: V 3 t. M., 1991. T. 2.
- Sud’by literatury Serebrianogo veka i russkogo zarubezh’ia: Sb. statei i materialov (Pamiati L. A. Iezuitovoi: K 80-letiiu so dnia rozhdeniia). SPb., 2010.
- Sukhikh I. N. Chekhoved Skaftymov: razmyshleniia o metode (Neskol’ko polozhenii) // Sukhikh I. N. Ot… i do… SPb., 2015.
- Sukhikh I. N. Tolstoi Eikhenbauma: energiia postizheniia (1919–1959) // Eikhenbaum B. M. Lev Tolstoi. Issledovaniia. Stat’i. SPb., 2009.
- Tomashevskii B. V. Formal’nyi metod (Vmesto nekrologa) // Khrestomatiia po teoreticheskomu literaturovedeniiu. Tartu, 1976. Vyp. 1 / Izd. podg. I. Chernov.
- Traditsionnye modeli v fol’klore, literature, iskusstve: V chest’ N. M. Gerasimovoi. SPb., 2002.
- Tynianovskii sbornik. Pervye Tynianovskie chteniia. Riga, 1984.
- Vospominaniia o Pavle Naumoviche Berkove. 1896–1969 / Otv. red. N. D. Kochetkova, E. D. Kukushkina. M., 2005.
- Vspominaia Askol’da Borisovicha Muratova // Sankt-Peterburgskii universitet. 2006. № 14/15.
- Zykova G. V., Penskaia E. N. D. E. Maksimov v perepiske s A. I. Zhuravlevoi: dokumenty k istorii lermontovedeniia vtoroi poloviny XX veka // Vestnik Moskovskogo un-ta. Ser. 9. Filologiia. 2014. № 6.