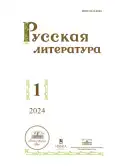Simeon Bekbulatovich and the question of the «literary game» played by Ivan the Terrible
- Authors: Bulanin D.M.1
-
Affiliations:
- Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom), Russian Academy of Sciences
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 131-138
- Section: Полемика
- URL: https://journal-vniispk.ru/0131-6095/article/view/257531
- DOI: https://doi.org/10.31860/0131-6095-2024-1-131-138
- ID: 257531
Full Text
Abstract
Contesting the latest biography (compiled by A. V. Belyakov) of the Tatar Prince Simeon Bekbulatovich, who, at the request of Ivan the Terrible, had occupied the Moscow throne for a whole year, the author of the article discusses the famous petition addressed by the Tsar to his «substitute». The petition is generally considered to be a sample of the Tsar’s «buffoonish» manner of verbal manipulations, that are also traceable in quite a number of his epistles. The author of the article suggests that Ivan the Terrible’s game technique should be understood as a sequence of actions and statements stimulated by his religious experience. This is in better agreement with the cultural context of the 16th century than the standard references to the sophisticated cruelty of the tyrant, who pretended to be a holy fool.
Full Text
Царствование Ивана Грозного, как никакое другое, богато достоверными, а еще больше легендарными эпизодами, вокруг которых разворачиваются настоящие баталии историков. Одним из таких эпизодов, выплеснувшим целый каскад научных и околонаучных мнений, стал своеобразный маскарад, разыгранный при московском дворе в 1575 году. «Того же году в осень», извещает Разрядная книга, Иван Грозный, учредив себе удельное княжество в Москве, посадил на великокняжеский престол потомка Чингисхана, Касимовского царя, крещеного татарина Симеона Бекбулатовича. «И сидел год один». Множество высказанных историками предположений о мотивах Грозного, устроившего такую рокировку, можно объединить в две условные группы: одни видят за его поступком серьезные политические маневры, другие заносят произведенную подмену в счет личной склонности царя к эпатажу и недобрым шуткам. Споры о татарском «заменителе» царя, пожалуй, можно было бы отдать на откуп историкам, если бы не хрестоматийная челобитная Грозного, признаваемая образцом его «скоморошьей» манеры манипулировать словом.1 Там, обращаясь к «государю великому князю Семиону Бекбулатовичю всеа Русии» и притворно уничижаясь, «Иванец Васильев с своими детишками», как называет себя вчерашний царь, смиренно просит разрешения «людишок перебрать».2 Стиль поведения Грозного и воплощенную в челобитной литературную позицию принято считать «игрой». Но если это так, кому она предназначалась? И нужна ли она была для того лишь, чтобы кто-то (хотя бы и сам сочинитель) посмеялся над «временным» царем или всеми подданными сразу? Но может быть, это символическое и религиозно маркированное деяние, а потому «юмор» в писании Иванца Васильева нисколько не заразительный? Поиски ответа велись в разных направлениях, но до недавнего времени никто не пытался оценить ситуацию, взяв за точку отсчета Симеона Бекбулатовича — второго участника разыгранного царем спектакля. Это тем более удивительно, что татарского царевича нельзя назвать персонажем, обделенным вниманием в историографии, и в фокусе писавших о нем находилась его «великокняжеская карьера».
Пробел восполнил А. В. Беляков, один из ведущих специалистов по политике, дипломатии и культурным связям средневековой Москвы с мусульманскими народами, в частности, по процессу интеграции в православное общество восточной знати, переселившейся или переселенной в Московское государство.3 Опираясь на солидную базу печатных и рукописных источников, ученый опубликовал капитальный труд о жизни и карьере Симеона Бекбулатовича, первое посвященное ему монографическое исследование после старой книги Н. В. Лилеева.4 Отдавая себе отчет в том, что скудость свидетельств не позволяет написать полноценную биографию его героя, автор использует сравнительный метод. Пробелы в наших знаниях о небедной взлетами и падениями судьбе татарского царевича заполняются более или менее убедительными предположениями о том, как могли бы разворачиваться события при заданной, но не обеспеченной фактами мизансцене. Предположения делаются по аналогии, на основе имеющихся сведений о типовой карьере, о специфике жизни и деятельности других представителей мусульманской аристократии, которые тоже вынуждены были адаптироваться в инородной среде. Возникает собирательный образ Чингисида в двух его возможных ипостасях — как верного исламу, так и принявшего крещение. На такую умозрительную модель предлагается проецировать героя монографии. Насколько удачным оказался исследовательский эксперимент в целом, предоставим судить историкам, свободно ориентирующимся в тех экзотических для слависта реалиях, которые касаются быта и нравов мусульманской диаспоры. Что касается непосвященных, познакомившись с исследованием А. В. Белякова, они будут, скорее всего, несколько разочарованы конечным результатом. Такое впечатление обусловлено не оплошностью историка, а спецификой источников, на которые ему пришлось полагаться. Источники эти двух типов, каждый из типов полезен для конкретных целей обсуждаемой работы, но полезен лишь до определенных пределов. Наиболее информативны, естественно, тексты повествовательных жанров, но сообщения их о членах высших татарских сословий, оставивших след в истории, ограниченны и, в массе своей, давно приведены в известность. Главное — подобные тексты обычно не допускают прямолинейного толкования, а потому их интерпретация представляет для современного человека немалые трудности. Ибо древнерусское литературное повествование, как и само поведение средневековых людей, подчинялось строгому этикету, не всегда нам понятному. Другой тип источников — широко привлекаемые в книге о царевиче памятники документальной письменности, эвристическую ценность которых для биографии не стоит преувеличивать. Деловая письменность, в большинстве своих разновидностей, содержа описи, перечни, расчеты, расписки, доклады и др., молчит о мыслях и движущих мотивах людей, которые стоят за сухим набором имен, слов, чисел. При всей важности сообщаемых в книге подробностей о социальной структуре и бытовом укладе мусульманской диаспоры (иерархия, собственность, хозяйство, расходы и проч.), собирательный образ Чингисида остается ущербным. Как следствие, по тому неординарному жизненному пути, который выпал на долю одного из потомков монгольского завоевателя, успевшего побывать Астраханским царевичем, Касимовским царем, великим князем всея Руси, великим князем Тверским, помещиком села Кушалина, наконец, иноком Стефаном, — по этому пути он проходит, больше похожий на тень, нежели на человека из плоти и крови. Таким он рисуется по данным современных источников, но таким он предстает перед нами и после выхода новейшей биографии.
Сказанное не умаляет значения фундаментальной биографии Симеона Бекбулатовича, суммирующей все, что прямо или косвенно относится к его трудам и дням, а через то проясняющей действия и других исторических персонажей. Прежде всего, царя Ивана. Чтобы увидеть плоды разысканий биографа, позволим себе вернуться к кульминации сюжета — тому моменту, когда татарский царевич взошел на московский престол. Честно признавая, что доступные нам источники не позволяют вполне раскрыть намерения Грозного, соглашаясь, что, сверх прагматических целей, в устроенном им маскараде просматривается своеобразный «юмор», А. В. Беляков примыкает к мнению тех, кто видит в действиях царя «рецидив опричнины» или просто продолжение ее политики. Ученый справедливо полагает, что Грозный тщательно продумывал свои действия, хотя (добавим от себя) необходимость импровизировать в амплуа первого русского царя не всегда ему позволяла это делать. В пользу серьезных мотивов, стоящих за эпизодом с царевичем, говорят любопытные нюансы, отчасти уже отмеченные в научной литературе,5 но впервые собранные вместе А. В. Беляковым. Они показывают, что поступок Грозного не столь резко порывал с московскими порядками, как иногда думают. Так, известно, что московские Чингисиды по чину превосходили местную знать, и это закономерно: к татарским царям Иван Грозный обращался как к равным, на той же презумпции строился этикет взаимодействия с ними при дворе. Далее, прецеденты, когда татары царского рода выполняли функции московского самодержца, зафиксированы уже в годы правления Василия III. При отлучках великого князя в 1513–1514 годах (осада Смоленска) и в 1521 году (набег крымского хана) временным правителем Москвы оставался казанский царевич Петр Ибрагимович. Когда в 1523 году Василий III находился в казанском походе, прием польского посольства был возложен на другого казанского царевича — Федора Меликдаировича. Еще в XVII веке находившиеся на московской службе крещеные Чингисиды во время придворных церемоний, случалось, замещали отсутствовавшего царя. Московиты, современники Грозного, включая его ближайшее окружение, были в 1575 году потрясены «заменой» главы государства меньше, чем можно было ожидать, потому еще, что царь удержал за собой немаловажную долю своих державных прерогатив. В отличие от царя Ивана, новоявленный великий князь не появлялся на театре военных действий, сопровождавших Ливонскую войну. Как следует из современных документов, иностранных послов тоже принимал Грозный, что показывает беспочвенность других известий иностранцев (Д. Горсей), как в большинстве случаев, скорее занятых занимательностью своих записок, нежели их достоверностью. Вопреки тому же Горсею, не существует ни монет, ни печатей с именем Симеона Бекбулатовича. Челобитные по местническим спорам по-прежнему писались на имя Ивана Грозного. Современные источники молчат о венчании на царство «заменителя» Грозного и о передаче ему каких-то инсигний царской власти. Даже пресловутая «скоморошья» челобитная не воспринималась ассистентами Грозного как явление, выходящее из ряда вон: она оформлена в столбцах по принятому в приказном делопроизводстве шаблону.
Какова бы ни была политическая и экономическая подоплека истории с царевичем (если таковые существовали), инициатор истории, безусловно, сообщил ей и символический смысл. Наличие символической функции признает и А. В. Беляков, правда, видя в ней только игру мирских страстей — проявление свойственных русскому царю амбиций: посадив на трон в лице Симеона Бекбулатовича Касимовского царя, пишет его биограф, Грозный мог считать себя «царем царей». Полагаем, что вердикт биографа нуждается в уточнении: возникающий на основе вердикта образ русского Ассаргадона плохо сочетается со служащей ему фоном православной Москвой XVI века. Символические действия требуют, применительно к эпохе, религиозного толкования. Грозный и сам отличался истовым благочестием, и действовал он в недрах культуры, в которой конфессиональные ценности стояли на первом месте. Невозможно представить себе, чтобы в Московской Руси, видящей себя «священным царством» и последним оплотом православия, самодержец реализовал индивидуальные честолюбивые планы, пренебрегши их религиозной мотивировкой. Она отчетливо просматривается за символическим аспектом «игры в царя». В соответствии со средневековой идеей о воплощении в человеческой истории божественного Промысла само превращение Москвы в «священное царство», а ее правителя в единственного богоутвержденного царя мыслилось как трансляция на новое место сакральной сущности предшествующих царств, закончивших свой жизненный цикл. Конструируемый московскими идеологами образ «священного царства» был эклектичным, парадоксальным образом сочетая в качестве главных составляющих византийские и татарские знаки власти. Едва ли не первейшим подтверждением московского избранничества идеологи XVI века считали то, что царь Иван покорил Казань. Источники показывают, что именно это деяние воспринималось современниками как апогей царствования Грозного. Каковы бы ни были настоящие правопреемники Орды (сейчас думают, что законной преемницей была Астрахань), в представлении московитов символическое достоинство прежних ордынских царей сосредоточилось в Казани, почему и взятие ее в 1552 году было обставлено не только как политическая, но и как идеологическая победа. Отсюда гипертрофированные торжества по поводу достигнутого успеха, непропорциональные его реальной значимости (через своих ставленников московские правители и раньше успешно контролировали Казань). Отсюда и необычные для Москвы миссионерские мероприятия в отношении покоренного города. Обладателем всего, что скрывалось за Казанью как символом навсегда утраченной татарской власти, стал после победоносной кампании московский царь. Овладение Казанью расценивалось им как последняя ступень в сакрализации собственной державы. Дипломаты, представлявшие Грозного на переговорах, не забывали повторять, что на русском престоле сидит наследник казанских царей.6
Теперь мы понимаем, почему едва ли не на другой день после интронизации Симеона Бекбулатовича о нем, вопреки действительности, стали говорить как о казанском царевиче, то и дело путая его и подлинного Казанского царя Симеона Касаевича. Зная склонность Грозного к розыгрышам, мы не удивимся тому, что он сам мог провоцировать такое смешение, когда нарек при крещении своего будущего «заменителя» тем же именем (догадка А. В. Белякова). Вопреки общепринятому взгляду, автор биографии считает, что его герой, получив московский престол, остался и царем Касимова, столицы служилых татар. Если это верно, такое совместительство подчеркивало бы идеологический компонент «игры в царя»: Грозный показывал, что владеющий «священным царством» государь вправе двигать по вертикали правителей тех царств, которые утратили на оси истории свое первородство, транслировав его московскому самодержцу. Хотя иностранцы диву давались, зачем сидящему в Москве христианскому государю понадобился титул «царя татарского», в представлениях Грозного об источниках его достоинства, отразившихся и в эпизоде с Симеоном Бекбулатовичем, не было ничего, противного христианству. Власть дается Богом — такова общая посылка. Понимание истории как череды избранных царств, приходящих на смену друг другу, получило в Средние века широкое распространение. Языческие державы фигурировали в этой теории на равных правах с христианскими, и русские книжники не нарушали общего принципа, поставив в тот же ряд мусульманские царства на Востоке. С переходом этих царств под власть московского самодержца он присваивал себе их символический потенциал, поднимавший его статус. Из числа покоренных царств самым ценным приобретением была Казань. Описанная схема движения людского рода в историческом времени представляет собой частный случай самой ухищренной — типологической экзегезы. При типологическом к ним подходе конфессиональная несовместимость феноменов отходила на второй план, потому что акцент делался на бессилии человека перед мудростью Провидения, воздвигающего одни и низводящего другие царства. Иллюстрацией типологического подхода к историческому калейдоскопу может служить «Казанская история», где судьба Казани соотносится с уделом Трои, Иерусалима, Константинополя, Новгорода. Если взглянуть на маскарад с Симеоном Бекбулатовичем, которого молва нарекла «казанским царевичем», в свете репутации Казани, обладавшей, но утратившей в 1552 году царскую харизму, — в таком случае религиозный смысл всего эпизода можно определить как указание на промыслительное значение, какое имело падение Казани по ходу трансформации Москвы в «священное царство».
Религиозный фактор объясняет не только философию истории, заложенную в эпизоде с царевичем, но и формы, в которых Грозный разыграл свою роль в этом эпизоде. Конфессиональные искания царя нельзя не принимать в расчет, дискутируя об игровом начале в его поведении и писательской манере — о том, что нашло отражение, среди прочего, в челобитной от имени Иванца Васильева. О сходстве экстравагантных поступков Грозного и действий юродивого, повергавших в сомнение неподготовленных соучастников и наблюдателей, писали не раз. Считается даже, что царь выступил как гимнограф под говорящим именем Парфения Уродивого. Действительно, сравнение с юродивым многое проясняет, между прочим, помогает описать язвительный стиль посланий Грозного (Курбскому, Грязному, старцам Кириллова монастыря), построенных на антитезах и смене авторского тона через самоумаление. Но выводы, к каким обыкновенно приходят исследователи, проводящие параллель между царем и «блаженными», не во всем убедительны, потому что переносят в прошлое привычные для человека модерна представления о причинно-следственных связях. Лицедейство царя, за которым могли последовать расправы над читателями (если речь шла о посланиях) или зрителями (если брать «перфомансы»), принято безальтернативно объяснять утонченной кровожадностью деспота. Юродивый оказывается при такой интерпретации его мнимым двойником. Провокации юродивого, в которых, как в эскападах царя, присутствовали вызов нравам, элементы кощунства и даже магии, служили, однако, учительным целям, а не прикрывали агрессию. Они демонстрировали лишь непричастность святого сему миру и его законам, его нахождение в собственной сакральной капсуле.7 Если юродство и бесчинства Грозного, согласно небезупречной логике исследователей, страдающей анахронизмом, скрывали его злобу, то бесчинства и бесчеловечность юродивых — и это уже не подлежит сомнению — скрывали их святость.
Думается, юродство царя можно объяснить, не прибегая к малодостоверным рассказам о его изощренной жестокости, скрытой актерской игрой, рассказам, которые извлекаются из записок иностранцев и поздних легенд. Речь идет не о том, чтобы «обелять» Грозного, а о возможности того, что он вполне серьезно переоблачался в рубище юродивого (который тоже всерьез относился к собственным выходкам). Если уж на то пошло, злодеяния никогда и нигде не мешали признавать злодея святым. Самоотождествление с юродивым позволяло царю, озадачивая окружающих и поражая их непредсказуемостью своих действий, утверждать самого себя и остальных в сакральности своей особы. Параллель выстраивается с помощью парадокса. Зрители, не знавшие о святости юродивого, не в силах были расшифровать знаки, в которых выражалось его показное «антиповедение» (термин Б. А. Успенского) и которые расподобляли человека не от мира сего и прочих, погрязших в мирской суете. Точно так «скоморошьи» выходки царя при взгляде со стороны кто-то мог ошибочно понять только как пролог к готовящимся репрессиям, между тем как Грозный, не отказываясь от репрессий, примерял на себя образ святого самодержца, который вот-вот примет схиму и которому будут оставлены его грехи.
Если вспомнить сопутствующие обстоятельства, наш тезис не будет выглядеть надуманным. Грозный может считаться первым русским монархом. У него не было набора проверенных временем ритуалов, пригодных для правителя новоучрежденного «священного царства», не имеющего на земле конкурентов, так что ему приходилось постоянно экспериментировать. Иван Грозный учился быть царем,8 и это выражение следует понимать буквально. Образцов у него было много, не только в лице татарских ханов, но также среди знакомых всякому начетчику героев древней истории и персонажей легенд (библейские цари, Александр Македонский, Индийский царь Иоанн, и др.), полезны были и противообразцы (Стефан Баторий, ставший королем «по многомятежному человечества хотению»). Как и в случае с идеей «translatio imperii», включавшей в общий ряд, кроме христианских, возникавшие и исчезавшие в потоке времени нечестивые царства, конфессиональная неполноценность басурманских царей не была препятствием для их участия в параде образцов. Здесь действовали не только законы типологической экзегезы. Глава «священного царства» обладал иммунитетом в отношении соблазнов, какие несли в себе подобные эталоны самодержавной власти. Тем не менее, среди гетерогенных образов идеальных правителей центральными оставались те, о которых московские самодержцы знали из прошлого Византии и опиравшихся на византийские стандарты балканских стран. Оттуда некогда пришла на Русь вся церковная культура, в византийском и южнославянском наследии чаще всего искали нужные им культурные прецеденты и идеологи «священного царства» в XVI веке. Разучивая и репетируя свою роль, Иван Грозный должен был слышать, что римский император был по совместительству верховным жрецом (pontifex maximus). Московский царь знал и о византийском «цезаропапизме», и о святости императора, обеспечиваемой миропомазанием, и о канонизации умерших правителей. Б. А. Успенский считает, что помазание не было совершено над самим Иваном IV,9 однако мысль о сакральности собственной персоны царь усвоил прочно и не раз к ней возвращался в полемике с оппонентами (например, с Андреем Курбским). С другой стороны, внутри московской культуры XVI века существовала, по-видимому, какая-то оппозиция признанию святым умершего правителя, не позволившая довести до конца всерьез готовившуюся канонизацию отца Грозного. У самого царя были втайне какие-то сомнения по поводу своего сакрального статуса, и он, например, сомневался, допустимо ли изображать на иконах людей, «котории живи суть».
Стоит обратить внимание еще на один аспект, связанный с эксклюзивным религиозным достоинством царя и уподоблявший в его глазах русских самодержцев византийскому императору. Имеется в виду предсмертная схима. Поскольку постриг приравнивался к крещению и подобно ему очищал человека от грехов, такая перспектива была неизменно актуальна для Грозного, озабоченного мыслью об искуплении своих беззаконий. Не этим ли объясняются вновь и вновь изобретаемые царем способы имитировать жизнь в обители, а возможно, и все его поползновения навсегда или на время покинуть престол без ясного указания причин такого решения? На пути готовившегося в иноки стояли немалые трудности: отношение к желанию перед смертью посхимиться было на Руси неоднозначное, и у постели умирающего Василия III (возможно, не приходившего в сознание) между приближенными князя разразился богословский спор о правомочности совершения обряда. Особенно осуждалась (например, митрополитом Киприаном) практика посмертного пострига — участь, которая, по версии богатого вымыслами Московского летописца, ждала будто бы в конце самого Грозного царя. Кроме того, принятие схимы не допускало обратного хода в случае, если тяжело больной, даже если это был царь, неожиданно выздоравливал.10 Так или иначе, заложенная отцом Грозного традиция схимы ставила его самого в пограничное положение между земным обладателем царства и носителем ангельского образа. Символическая обособленность Грозного от жизни окружавших его мирян, выражавшаяся, во-первых, сакральностью царя как самодержца и, во-вторых, фактическим его положением послушника, существенно влияет на модальность его деяний и писаний, ассоциирующихся с поведением юродивого. Византийская политическая философия, взятая на вооружение идеологами Москвы XVI века, включая главу государства, была насквозь антиномична. Переводное «Наставление» диакона Агапита учило, что властью своей царь подобен Богу, но по физической природе равен прочим людям. Символом второй части этого постулата являлась в византийском церемониале акакия — мешочек с прахом, который носил император в напоминание о бренности всего, что есть на земле. Преображаясь в юродивого, Грозный со свойственным ему максимализмом проводил ту же мысль: самоуничижаясь, он декларировал от противного свой исключительный статус — статус священного правителя «священного царства».
Интерпретация «скоморошества» Ивана Грозного как серии конфессионально мотивированных поступков лучше согласуется с современным ему культурным контекстом, нежели распространенные в научной литературе ссылки на прикрываемые юродством нездоровые выдумки тирана. В свете предложенной интерпретации мы можем вернуться к проблематике, связанной с длившимся год царствованием Симеона Бекбулатовича. Стоит еще раз вспомнить тонкое наблюдение А. В. Белякова о том, что на ближайшее окружение Грозного разыгранный им спектакль не произвел большого впечатления. Думаем, что такая реакция была обусловлена не только тем, что значительную часть закрепленного за самодержцем функционала царь Иван оставил за собой, но и тем, что в его окружении имели некое представление о религиозных мотивах, побудивших царя устроить подобный маскарад. Если выбор татарского царевича был обусловлен символическим значением Казани, то показное смирение, явленное царем, должно было (пускай непрямым путем) подчеркнуть его достоинство как наследника византийского василевса. А. В. Беляков прав, протестуя против попыток историков навязать Симеону Бекбулатовичу роль шута. Если верны предшествующие рассуждения, то в игровой форме, какую придал Иванец Васильев своей знаменитой челобитной, мы увидим никак не скрытое издевательство над адресатом, а московский аналог византийской акакии. Между прочим, так называемый Московский летописец сохранил сведения еще об одной челобитной на имя «временного» царя, в которой освободивший престол «Московский князь» просил денег «на подъем» для несения службы в полках. Поздние источники, вроде этого летописца, подтверждают от противного наше мнение о религиозном содержании, какое вкладывал в эпизод с татарским царевичем его инициатор. Правда, авторы этих источников, сознательно или по неведению, отказываются вникать в предусмотренную царем перекличку символов и объявляют подмену царя нечестивым поступком. Московский летописец сообщает о какой-то оппозиции, якобы противившейся замыслу Грозного передать свой престол и особенно упрекавшей царя за выбор в пользу «иноплеменника». Возмутительно было то, что этого «иноплеменника» настоящий царь пропускал первым прикладываться к образам и идти под благословение к митрополиту. Согласно Пискаревскому летописцу, ходило мнение, что Грозный, подобно змею, «искушал люди, что молва будет в людех про то».11 Особенно резко высказался Иван Тимофеев, заявив, что царь затеял свой спектакль, «тако Божиими людьми играя».12 «Играть» смертными свойственно, конечно, лукавому, поэтому важно определение обманутых нечестивым царем людей как «Божиих».
Подведем итоги. Из двух условных групп, в которые мы объединили существующие предположения по поводу мотивов, стоящих за «игрой в царя», мы не присоединяемся ни к одной группе. С одной стороны, увидев за кулисами представления религиозный смысл, мы не вправе назвать это представление минутной прихотью тирана. С другой стороны, зная о набожности Грозного, мы не рискнем спорить с тем, что субъективный фактор содействовал такого рода представлению. Взятый нами к рассмотрению эпизод прекрасно иллюстрирует значение книги А. В. Белякова для понимания всего комплекса культурных движений эпохи Ивана IV в целом и, в частности, для корректной интерпретации литературного наследия первого русского царя. Интересно и другое. Фигура Симеона Бекбулатовича теряется в тени, отбрасываемой тем, кто на целый год вознес царевича над всеми подданными «священного царства». Насколько верен действительности складывающийся у нас в перспективе ушедших столетий психологический портрет человека, до конца своих дней безропотно плывшего по течению, безучастного к бушевавшим вокруг него страстям? — На сегодняшний день мы бессильны решить эту историческую шараду. Сам автор биографии остроумно подвел итог всех разысканий на обложке, где воспроизведено изображение царевича, но на месте его лица стоит знак вопроса.
* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-18-00527, https://rscf.ru/project/21-18-00527/, ИРЛИ РАН.
1 Лихачев Д. С. Великое наследие: Классические произведения литературы Древней Руси. 2-е изд., доп. М., 1979. С. 310–312.
2 Послания Ивана Грозного / Подг. текста Д. С. Лихачева и Я. С. Лурье; пер. и комм. Я. С. Лурье; под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1951. С. 195–196 (сер. «Литературные памятники»).
3 Ср.: Беляков А. В. Чингисиды в России XV–XVII веков: просопографическое исследование. Рязань, 2011.
4 Беляков А. В. Симеон Бекбулатович: Пример адаптации выходцев с Востока в России XVI в. СПб., 2022. Ср.: Лилеев Н. В. Симеон Бекбулатович, хан Касимовский, великий князь всея Руси, впоследствии великий князь Тверской, 1567–1616 (Исторический очерк). Тверь, 1891.
5 Halperin Ch. Simeon Bekbulatovich and Mongol Influence on Ivan’s Muscovy // Russian History. 2012. Vol. 39. № 3. P. 306–330.
6 Чернявский М. Хан или василевс: Один из аспектов русской средневековой политической теории // Из истории русской культуры. М., 2002. Т. 2. Кн. 1. Киевская и Московская Русь. С. 442–458.
7 Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Новые аспекты изучения культуры Древней Руси // Вопросы литературы. 1977. № 3. С. 148–167. Ср. поправки к отдельным положениям этой статьи в кн.: Иванов С. А. Блаженные похабы: Культурная история юродства. М., 2005. С. 265–287 (сер. «Studia historica»).
8 Панченко А. М., Успенский Б. А. Иван Грозный и Петр Великий: Концепции первого монарха. Статья первая // Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1983. Т. 37. С. 61.
9 Успенский Б. А. Царь и патриарх: Харизма власти в России (Византийская модель и ее русское переосмысление). М., 1998. С. 109–113.
10 Успенский Б. А., Успенский Ф. Б. Иноческие имена на Руси. М.; СПб., 2017. С. 210–217.
11 Полн. собр. русских летописей. М., 1978. Т. 34. С. 226, 192.
12 Временник Ивана Тимофеева / Подг. к печати, пер., комм. О. А. Державиной; под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1951. С. 12 (сер. «Литературные памятники»).
About the authors
Dmitrii M. Bulanin
Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom), Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: dmitriibulanin@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-5480-7964
Chief Researcher
Russian Federation, St. PetersburgReferences
- Beliakov A. V. Chingisidy v Rossii XV–XVII vekov: prosopograficheskoe issledovanie. Riazan’, 2011.
- Beliakov A. V. Simeon Bekbulatovich: Primer adaptatsii vykhodtsev s Vostoka v Rossii XVI v. SPb., 2022.
- Cherniavskii M. Khan ili vasilevs: Odin iz aspektov russkoi srednevekovoi politicheskoi teorii // Iz istorii russkoi kul’tury. M., 2002. T. 2. Kn. 1. Kievskaia i Moskovskaia Rus’.
- Halperin Ch. Simeon Bekbulatovich and Mongol Influence on Ivan’s Muscovy // Russian History. 2012. Vol. 39. № 3.
- Ivanov S. A. Blazhennye pokhaby: Kul’turnaia istoriia iurodstva. M., 2005 (ser. «Studia historica»).
- Likhachev D. S. Velikoe nasledie: Klassicheskie proizvedeniia literatury Drevnei Rusi. 2-e izd., dop. M., 1979.
- Lileev N. V. Simeon Bekbulatovich, khan Kasimovskii, velikii kniaz’ vseia Rusi, vposledstvii velikii kniaz’ Tverskoi, 1567–1616 (Istoricheskii ocherk). Tver’, 1891.
- Lotman Iu. M., Uspenskii B. A. Novye aspekty izucheniia kul’tury Drevnei Rusi // Voprosy literatury. 1977. № 3.
- Panchenko A. M., Uspenskii B. A. Ivan Groznyi i Petr Velikii: Kontseptsii pervogo monarkha. Stat’ia pervaia // Trudy Otdela drevnerusskoi literatury. L., 1983. T. 37.
- Poln. sobr. russkikh letopisei. M., 1978. T. 34.
- Poslaniia Ivana Groznogo / Podg. teksta D. S. Likhacheva i Ia. S. Lur’e; per. i komm. Ia. S. Lur’e; pod red. V. P. Adrianovoi-Peretts. M.; L., 1951 (ser. «Literaturnye pamiatniki»).
- Uspenskii B. A. Tsar’ i patriarkh: Kharizma vlasti v Rossii (Vizantiiskaia model’ i ee russkoe pereosmyslenie). M., 1998.
- Uspenskii B. A., Uspenskii F. B. Inocheskie imena na Rusi. M.; SPb., 2017.
- Vremennik Ivana Timofeeva / Podg. k pechati, per., komm. O. A. Derzhavinoi; pod red. V. P. Adrianovoi-Peretts. M.; L., 1951 (ser. «Literaturnye pamiatniki»).