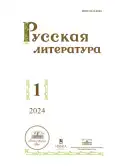F. D. Batyushkov and Denis Roche
- Authors: Zaborov P.R.1
-
Affiliations:
- Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom), Russian Academy of Sciences
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 173-180
- Section: Публикации и сообщения
- URL: https://journal-vniispk.ru/0131-6095/article/view/257538
- DOI: https://doi.org/10.31860/0131-6095-2024-1-173-180
- ID: 257538
Full Text
Abstract
The article outlines the history of the acquaintance between the literary historian and critic F. D. Batyushkov and the French translator of Russian literature M. Denis Roche. The letters of Denis Roche show that Batyushkov facilitated his contacts with Russian writers, advised him on the translations of M. Gorky, A. P. Chekhov, V. G. Korolenko.
Full Text
Федор Дмитриевич Батюшков (1857–1920) — видный отечественный историк литературы, критик, журналист, театральный и общественный деятель. Ближайший ученик академика А. Н. Веселовского, знаток европейского Средневековья, владевший несколькими иностранными языками, он после окончания в 1885 году Санкт-Петербургского университета начал вести там курс истории западноевропейских языков и литератур, а со следующего года — одновременно читать лекции на Высших женских (Бестужевских) курсах. В 1891 году успешно защитил магистерскую диссертацию на тему «Спор души с телом в памятниках средневековой литературы», но это никак его не воодушевило: напротив, он все сильнее охладевал к академическим занятиям и к университетскому преподаванию, которое в 1899 году совершенно прекратил, оставив за собой лишь лекционный курс на Бестужевских курсах. Отныне деятельность Батюшкова была почти полностью посвящена литературному труду в самых разных его формах: он получил известность и заслужил признание собратьев по перу и читателей как автор большого количества статей, очерков и заметок, как редактор двух крупных журналов — русского отдела «Cosmopolis» (март 1897 — 1898) и «Мир Божий» (1902–1906), как организатор трехтомной «Истории западной литературы» (1912–1914), наконец, как эрудированный комментатор ряда изданий, выпущенных «Всемирной литературой».1
Круг писателей и критиков, с которыми Батюшков был знаком и с которыми у него — человека общительного и доброжелательного — сложились хорошие отношения, был очень велик. Неудивительно поэтому, что именно к нему, известному на родине и за рубежом и к тому же свободно говорившему и писавшему по-французски, обратился молодой француз по имени Дени Рош, начинающий литератор и переводчик, уже побывавший в России в 1897 году, но, по-видимому, не удовлетворенный результатом и поэтому приехавший вновь весной 1898 года в надежде попытаться войти в литературный мир российской столицы.
Юрист по первоначальному образованию, Морис Дени Рош (Maurice Denis Roche, 1867–1951) решил сменить профессию и, пройдя обучение в парижской Школе восточных языков, где он под руководством видного французского слависта профессора Поля Буайе овладел в какой-то мере русским языком, обратился к изучению русского искусства, но одновременно начал пробовать силы и в переводе на французский язык русской литературы. Батюшков, редактировавший в это время «Cosmopolis», по-видимому, привлек внимание Дени Роша как возможный пропагандист творчества русских писателей во Франции. Помимо этого, Батюшков старался помочь новому знакомому вообще, вводя его в писательскую среду, снабжая рекомендательными письмами и представляя интересным людям, включая и членов своей семьи. Так или иначе, но между широко образованным русским интеллигентом и делавшим первые шаги французским переводчиком русской литературы возникло нечто вроде дружбы или, во всяком случае, взаимной приязни, о чем свидетельствует интенсивная и чрезвычайно объемная переписка между ними, правда продолжавшаяся всего пять лет (1898–1903). О письмах Батюшкова к Рошу нам ничего не известно; что же касается писем Роша к Батюшкову, с давних пор хранящихся в Рукописном отделе Пушкинского Дома, то еще в середине 1930-х годов они привлекли внимание двух научных сотрудников Пушкинского Дома (в то время Института литературы Академии наук СССР) Т. К. Ухмыловой и В. З. Голубева, которые при подготовке к печати писем М. Горького к Батюшкову ввели эти материалы в научный оборот, выявив и опубликовав в переводе все, что в них имело прямое отношение к началу известности во Франции творчества М. Горького, чему в очень большой степени способствовали Батюшков и Дени Рош.2
Задача настоящего сообщения — иная: по возможности используя весь комплекс писем Дени Роша к Ф. Д. Батюшкову3 и цитируя их, к сожалению, тоже в переводе, проследить, как складывались отношения двух этих людей на протяжении пяти лет и что удалось им сделать за это время для ознакомления читающей Франции с современной русской литературой.
Самое раннее из сохранившихся писем Дени Роша датировано 21 июля 1898 года. Оно было отправлено вскоре после возвращения на родину из России, с которой он основательно познакомился, побывав, помимо Петербурга, в разных городах и частях страны не без содействия и практической помощи Батюшкова, его друзей и родных. Отсюда и характер письма, сплошь благодарственного как адресату, так и другим людям (л. 1–3).
Следующим письмом от 15 октября 1898 года Рош выразил Батюшкову признательность за полученный от него (без всяких просьб со стороны французского корреспондента) экземпляр русской версии «Cosmopolis», к этому моменту составлявшей три тома — 9-й, 10-й и 11-й. «Я был весьма приятно удивлен, — писал Дени Рош, — получив здесь весь годовой комплект вашего „Cosmopolis“, и не знаю, как достойно отблагодарить вас за это» (л. 4). Из наиболее примечательных, с его точки зрения, материалов он выделил принадлежавшую Батюшкову статью «Космополитизм и народность», которой открывался недолго просуществовавший русский отдел журнала, и драму К. Ф. Головина «Орхидея». Не прошел Рош мимо опубликованных в журнале писем К. С. Аксакова из-за границы, «Показаний» Ф. М. Достоевского на процессе петрашевцев и критических статей о разных зарубежных авторах. В конце письма он передавал привет друзьям Батюшкова, с которыми тот в свое время познакомил Роша: это были З. Н. Гиппиус, писатели-беллетристы К. Ф. Головин и А. Луговой, а также В. Д. Комарова, художницы Е. М. Бём, сестры Шнейдер, А. Н. Иванова и др. (л. 4–5).4 Впрочем, в дальнейшем посредничество Батюшкова в общении Роша с этими незаурядными людьми стало почти излишним: с некоторыми из них он переписывался и встречался лично в Петербурге или Париже, а также привлекал их к сотрудничеству по мере возникновения у него новых замыслов и начинаний.
Как можно допустить, в ответном письме Батюшков посоветовал Рошу познакомиться с творчеством одного из самых талантливых и особенно близких ему по духу русских писателей — В. Г. Короленко и предложил выбрать какой-нибудь его рассказ для перевода и последующего помещения на страницах «La Revue Illustrée», парижского журнала, в котором Рош преимущественно тогда печатался.5 «Я уже давно хочу перевести что-нибудь из Короленко, — отвечал ему Рош, — и как не воспользоваться при этом редкой возможностью показать публике его искусство в двух ракурсах, с помощью госпожи Бём, девиц Шнейдер и вашей. Я был бы слишком неповоротливым, чтобы отказаться от намерения, которое может доставить несколько удовольствий вместо одного» (л. 7). Речь шла об издании его перевода с иллюстрациями работы упомянутых художниц. Батюшков называл при этом рассказ «Чудна́я», «Павловские очерки» и «Сон Макара». Рош колебался, тем более что этих произведений он не знал. К тому же он в большой степени зависел от редакции журнала и в особенности ее секретаря Жерома Дусе (Jérôme Doucet). В конце концов он сделал свой выбор, о чем и сообщил Батюшкову в письме от 3 декабря 1898 года: «Я прочел „Чудну́ю“, нашел рассказ очень интересным и немедленно примусь за его перевод. Я бы вам написал об этом раньше, но хотел, чтобы уже состоялся мой разговор с г-ном Дусе, и я узнал бы о ваших планах. Очень вероятно, что „La Revue Illustrée“ опубликует „Чудну́ю“; конечно, предварительно посмотрев рисунки и прочитав рассказ. Все же я полагаю, что это дело решенное» (л. 11).
Появление в «La Revue Illustrée» благодаря Рошу (и Батюшкову) русских имен не могло не радовать редакцию: эта литература все больше входила во французский культурный обиход, но процесс этот явно отставал от потребностей в освоении столь богатой и мощной литературы. Знатоков ее было не так уж мало, но недостаточно, а русский язык оставался экзотическим, несмотря на появление сравнительно большого количества людей, им владеющих и умеющих с него переводить.
Рош, репутация которого как переводчика-любителя на первых порах была не слишком высокой, постепенно овладевал этим искусством, а после второй поездки в Россию и вхождения, в том числе стараниями Батюшкова, в столичную литературную и окололитературную среду, чувствовал себя все увереннее и обрастал новыми профессиональными и дружескими связями. Так, позднее, во время очередного посещения России, благодаря знакомству с И. Л. Толстым он в самом начале июня 1899 года провел несколько дней в Ясной Поляне, беседуя и совершая совместные прогулки с Л. Н. Толстым, о чем надолго сохранил благодарную память.6
При этом ввиду того, что интерес к современной русской литературе сочетался у Роша с неплохой ориентацией в русской художественной жизни, вес его в изданиях типа «La Revue Illustrée» становился все более очевидным и ощутимым. Не случайно именно к Рошу редакция «La Revue Illustrée» обратилась с просьбой оказать ей содействие в столь желательном для репутации журнала приглашении в качестве иллюстратора «русских» публикаций хорошо известного во Франции И. Е. Репина, на что Рош охотно согласился, надеясь опять-таки на помощь Батюшкова. При этом он вызывался перевести специально для того, чтобы заинтересовать Репина, несколько новых для французских читателей коротких рассказов русских авторов и одновременно предлагал написать для журнала, если удастся собрать необходимый материал, статью о Репине, которая сопровождалась бы репродукциями всех главных творений художника.
Человек отзывчивый и обязательный, Батюшков незамедлительно передал Репину просьбу редакции «La Revue Illustrée» и получил его согласие, а Рошу посоветовал перевести чеховских «Мужиков», иллюстрацию к которым и должен был редакции предоставить Репин. Дальнейший ход событий Батюшков изложил много лет спустя в очерке «И. Е. Репин как иллюстратор Чехова и Горького», написанном для его книги «Около талантов»:7 «Репин прочел рассказ и „загорелся“: он нашел его превосходным. Через несколько дней был готов и рисунок, тоже превосходный. Репин сумел уловить и передать общее настроение угарного чада грубых нравов мужиков: внутренность избы вся словно задернута черным туманом, из которого вырисовываются смутным пятном фигуры пьяных и дерущихся, и грустный облик разочарованного Чикильдеева — силуэтом у маленького оконца, из которого чуть брезжит свет. В рисунке масса движения, выразительные позы и жесты, верная передача общего замысла Чехова».8
«С напечатанием, — продолжал Батюшков, — вышло, к сожалению, некоторое недоразумение: раньше отправки рисунка в Париж я снял с него фотографию и передал несколько экземпляров ее Репину. Увидел у него редактор „Жизни“ фотографический снимок, выпросил и воспроизвел в своем журнале. Редактор „<La> Revue Illustrée“ сообщил, что они не повторяют использованной уже иллюстрации, поэтому вместо прекрасного воспроизведения за границей пришлось удовлетвориться плохим отпечатком в русском журнале».9
«Но это, — полагал Батюшков,— послужило и на пользу, так как Репин обещал загладить свой „недосмотр“ и просил выбрать ему другой сюжет из области современной литературы. Два-три рассказа, которые я давал на прочтение И<лье> Е<фимовичу>, оставили его холодным, но он снова загорелся, когда я принес ему „Зазубрину“ Горького».10
В письме от 20 декабря 1898 года Рош поблагодарил Батюшкова, хотя при этом не мог скрыть удивления, что художник выбрал «Зазубрину». Рошу рассказ этот был неизвестен, Горький же, не без воздействия Батюшкова, его все больше привлекал. Понимая, что дело это не срочное, Рош в том же письме вернулся к переводу «Чудно́й», который был в основном окончен, но вызывал у него некоторое беспокойство ввиду «плотности и разговорного характера» русского текста. Предполагалось, что Рош отправит свой перевод автору, а тот проверит его и постарается, насколько возможно, улучшить (л. 17 об.). Многие затруднения помог ему устранить и Батюшков. Наконец, 13 марта 1899 года Рош известил Батюшкова, что «передал рисунки и перевод „Чудно́й“ г-ну Дусе, и рисунки ему нравятся». Подготовка издания завершилась (л. 35–37).
Имя Максима Горького вновь появляется в переписке Роша с Батюшковым 2 января 1899 года: «Я благодарю вас за последний выпуск „Cosmopolis“, — пишет он. — Статья о Горьком очень хороша, ваши цитаты очень удачны, очень хорошо выбраны. Было ново выявление в творчестве Горького типа босяков» (л. 20 об.). 29 января он благодарит Батюшкова за полученный от него «второй том Горького», т. е. очередной том его «Рассказов» (СПб.: Знание, 1900), и сообщает о впечатлении, которое произвела на него «Мальва»: «Этот „эскиз“, один из удачнейших у Горького, искренний, правдивый и яркий, к сожалению, слишком длинен для „La Revue Illustrée“, чересчур длинен. Всего двух рисунков г-на Репина в качестве иллюстраций к нему было бы недостаточно» (л. 24). Рош по-прежнему не уверен в выборе «Зазубрины», за перевод которой еще не принимался, и предлагает остановиться на каком-нибудь другом сочинении Горького, а затем спрашивает, существует ли фотография писателя, и добавляет: «Судя по его произведениям и тому, что вы мне о нем рассказали, мне было бы любопытно увидеть, как он выглядит» (л. 25).
8 февраля 1899 года Рош вновь благодарит Батюшкова за последний выпуск упраздненного русского отдела «Cosmopolis» (л. 29), а 14 февраля возвращается к собственным делам: он признает, что «Зазубрина» все же больше других рассказов Горького подходит «La Revue Illustrée», и объясняет Батюшкову, который посоветовал ему перевести из того же сборника первую часть повести «Супруги Орловы», свое нежелание взяться за это соблазнительное занятие необходимостью и этот текст сокращать (л. 31 об.). Сильнее Роша в это время интересует предстоящее появление автобиографии Горького, о чем ему, по-видимому, сообщает все тот же Батюшков: он надеется воспользоваться ею для своей «небольшой биографической заметки» о Горьком, и смущенно напоминает о фотографии писателя, которая нужна ему и получить которую без помощи Батюшкова он не может (л. 32).
Время шло, а судьба выбранного Репиным для публикации в «La Revue Illustrée» перевода «Зазубрины» оставалась неясной: редакция журнала терпеливо ждала рисунков Репина, а Рош, как он признавался в письме от 2 марта 1899 года, не решался ему написать и напомнить о взятых на себя обязательствах; сам он над переводом работал вяло и лишь 13 марта сообщил Батюшкову: «„Зазубрина“ уже переведен, мне остается лишь перечитать его и отдать переписчику». Впрочем, с заглавием рассказа, которое «французам ничего не говорило», он никак справиться не мог и поэтому надеялся на помощь Батюшкова, который предложил свой вариант, не имевший у переводчика успеха (л. 41 об. — 42, 44).
В том же письме Рош сообщил, что «вскоре собирается приняться за „Челкаша“» и даже «немного начал», добавив не без огорчения, что там «очень длинные фразы» (л. 42 об.). Но до окончания перевода и его издания было еще очень далеко: в письме от 14 октября 1899 года он извещал Батюшкова, что только через некоторое время собирается заняться пояснительной заметкой к этому рассказу (л. 61).
Вообще же интерес Роша к Горькому как писателю и человеку не ослабевает, и в этом он, естественно, рассчитывает на Батюшкова, у которого пытается узнать всевозможные подробности жизни писателя, в том числе и бытовые: «Долго ли Горький пробудет в Петербурге? Предчувствую, что вы мне скажете о его культуре и любви к чтению. Но вы ничего не говорите мне о его внешности, а ведь именно она так соблазнила Репина? По крайней мере увижу ли я когда-нибудь его портрет, над которым тот сейчас работает?» (л. 64).11
10 декабря 1899 года Горький просит Батюшкова передать Рошу, что он разрешает ему переводить и печатать свои рассказы, «где ему угодно ныне, и присно, и во веки веков».12 Что же касается «Зазубрины», то его интересует только рисунок Репина, который он просит Роша, если его это не затруднит, ему прислать: «„Зазубрина“, разумеется, мне не интересен, но на рисунок Репина я посмотрел бы с наслаждением. Итак — коли можно, то пусть Рош пришлет мне оный рисунок. И да благословит его, Дениса, Бог!»13
В ответном письме от 13 декабря 1899 года Батюшков сообщил Горькому, что известил об этом Роша, а взамен рисунка, о котором тот просил, отправил писателю фотографии с него (к тому времени уже опубликованные в журнале «Жизнь»), добавив при этом, что снимок удачный и Репин им доволен.14 Получив фотографии, Горький пришел в восторг, о чем около 15 января 1900 года написал Батюшкову: «Вы поистине доставили мне огромное удовольствие, прислав дивную картину Репина. Нравится она мне и всем здесь, чрезвычайно. Как это живо нарисовано, как верно он понял Зазубрину, старика и всех. Хорошо!»15
Старания Батюшкова оказались тем более не напрасными, что «Зазубрина» по различным, прежде всего техническим, причинам все не появлялся в «La Revue Illustrée», и ситуация не улучшилась даже после приезда в Париж знаменитого автора иллюстраций. «Г-н Репин, — сообщал Рош Батюшкову 9 июня 1900 года, — находится сейчас здесь. Я имел удовольствие лицезреть его в течение нескольких минут. Думаю, вскоре познакомить его с г-ном Дусе. „La Revue Illustrée“ воспользуется пребыванием г-на Репина для того, чтобы опубликовать „Зазубрину“, иллюстрация к которому совершенно готова, и это даст ему возможность попасть без большого количества изменений в следующий номер» (л. 96).
Однако 9 марта 1901 года, т. е. десять месяцев спустя, Рош констатировал, что «Зазубрина» так и не опубликован, и лишь 30 июля 1902 года он смог наконец поблагодарить Батюшкова за выполнение им данного Рошу обещания послать Горькому журнал, а это, в свою очередь, означало, что рассказ, после столь долгих мытарств, все же увидел свет: это произошло еще 15 ноября 1901 года (л. 117).
Имя Горького не исчезает из писем Роша к Батюшкову почти до конца их переписки: Рош продолжает переводить этого писателя и внимательно следит за информацией о нем в русской и французской печати. Одновременно в письмах появляются по разным поводам новые имена. Это Лев Толстой и А. И. Куприн, К. Д. Бальмонт, Н. М. Минский, Владимир Соловьев и другие. Но много чаще, конечно, встречаются имена Короленко и Чехова, с которыми Рош не расстается ни как читатель, ни как переводчик. Так, в 1899 году он выражает признательность Батюшкову за его «этюд» о Короленко (по всей вероятности, это был оттиск статьи, посвященной новому, «пересмотренному и дополненному» изданию повести «Слепой музыкант», которой начиналась первая часть его «Критических очерков и заметок»).16 В письме от 15 февраля 1900 года он, хотя и слабо понимает структуру петербургской Академии наук, просит все же передать Короленко поздравление по случаю избрания его почетным академиком по разряду изящной словесности (л. 85). В письме от 16 августа 1900 года он сообщает о полученной от Батюшкова фотографии Короленко, на которой тот «очень похож» и выглядит именно таким, каким он запомнился Рошу (л. 100 об.). В письме от 30 июля 1902 года он восхищается благородным поступком Короленко, который вышел из академии в связи с отказом Николая II утвердить избрание в нее Горького (л. 117–118). Наконец, в последнем из сохранившихся писем, датированном 21 июля 1903 года, Рош «очень искренне» благодарит Батюшкова за «самый приятный из возможных» подарков, а именно за два тома «Очерков и рассказов» Короленко, причем обещает незамедлительно прочесть именно те из них, на которые ему указывает Батюшков, и прежде всего рассказ («этюд») «Без языка», уже очень давно возбуждающий его любопытство (л. 125).
Когда Рош открыл для себя Чехова, точно не известно, но произошло это, во всяком случае, еще до его поездок в Россию, а к 1898 году он уже перевел «Палату № 6» и даже успел предложить свой перевод журналу «La Quinzaine», для чего потребовалось разрешение автора, которое он в конце концов получил.17 Примечательно, что, находясь в Петербурге, Рош ознакомил с этим своим переводческим опытом Батюшкова и был явно доволен, получив позднее его доброжелательный отзыв (л. 5).
В сентябре, в том же журнале, увидел свет его перевод повести «Мужики», на которую, как явствует из воспоминаний Батюшкова, он обратил внимание Роша, причем на обложке выпуска журнала была воспроизведена иллюстрация Репина, от которой пришлось отказаться «La Revue Illustrée». Чехову обе эти публикации понравились, хотя оценить качество переводов ему было трудно ввиду недостаточного знания французского, и Батюшков счел нужным в письме к нему положительно охарактеризовать оба перевода.18 На этом Рош не успокоился и 1 октября 1898 года, т. е. уже после возвращения во Францию, адресовал писателю новую аналогичную просьбу: на сей раз речь шла о переводе рассказов «Перекати-поле» и «Кошмар», и Чехов снова не стал против этого возражать.19
Несмотря на увлечение Горьким, Рош не прекращал переводить Чехова и отдавался этому занятию со все возраставшей энергией.20 Но прежде всего, он с помощью Батюшкова попытался улучшить сделанное ранее, начиная с «Палаты № 6». Так, 2 февраля 1900 года он просил объяснить ему, что точно означает «губернский секретарь», «поступить <на службу>» и «уволен <со службы>», «специальная наука», выражение «будет тебе тень наводить» (л. 80); в рассказе «Тоска» не понял выкриков «Сворачивай, дьявол!» и «Повылазило что, старый пёс» (л. 81), а в следующем письме от 15 февраля, поблагодарив Батюшкова за «столь убедительные объяснения озадачивших его трудных мест», продолжил свои вопросы: на сей раз его смутило выражение «постричься (в священники, в монахи)» и т. д. и т. п. (л. 83).
В том же письме Рош подвел итог своим усилиям: «Я окончил пересматривать мои переводы Чехова. Исправил ли я все ошибки? Во всяком случае, устранил их довольно, слишком большое количество. Благодарю вас за полученный последний том рассказов. Им уже располагала г-жа Иванова и мне на прошлой неделе его одолжила. Теперь у меня есть возможность прочесть, не торопясь, то, что я, должно быть, пропустил» (л. 83 об. — 84).
Там же Рош привел приблизительный состав тома чеховских повестей и рассказов, которые он перевел и подготовил к публикации: «Мужики», «Палата № 6», «У предводительши», «На чужбине», «Тоска», «Ванька», «Тиф», «Перекати-поле», «Беда», «Кошмар», «Свирепость» (так он первоначально озаглавил рассказ «Убийство») и «Княгиня» (л. 84). Однако уверенности в том, что Чехову его выбор понравится, у него не было, и он сожалел, что писатель, к которому он перед этим обращался с просьбой высказать свое мнение, ему не ответил. «Какова реальная причина этого, — с грустью констатировал он, — не знаю, мне вообще не кажется, что Чехов был хоть когда-нибудь удовлетворен тем, что я старался делать» (л. 84).
Тем не менее в следующем году сборник увидел свет в слегка измененном, по сравнению с намеченным, составе: общее число повестей и рассказов (12) осталось прежним, но вместо «Беды» и «Кошмара» в него были включены «В овраге» и «Попрыгунья», а «Убийство», переименованное при подготовке издания в «Свирепость», теперь стало называться «Remords» (т. е. «Угрызения совести» или «Покаяние»).21
Рош продолжал писать Батюшкову, затрагивая разные темы и задавая всевозможные вопросы; его интересовали политические и литературные новости, труды Батюшкова, здоровье его родителей и многое другое. Последнее из его известных нам писем датировано 21 июля 1903 года. Но приходили письма все реже и реже. По какой причине это произошло, кто из двух корреспондентов был в этом виноват и как они вообще восприняли прекращение постоянных контактов, в которых Рош, по крайней мере, был так заинтересован? В упомянутом выше последнем (и судя по тону прощальном) письме Рош говорил о том, что очень хорошо помнит свое посещение Петербурга, когда состоялось его знакомство с Батюшковым, передавал приветы сестрам Шнейдер, Репину, Куприну, а также родителям и брату Батюшкова. Однако о продолжении или возобновлении их переписки сведений нет, да это и маловероятно: в постоянной помощи Батюшкова, к которой Рош так часто прибегал, он, скорее всего, теперь не нуждался и, как человек деловой, писать ему перестал.
Батюшкову было суждено прожить еще семнадцать лет, из которых четыре последние были для него исключительно трудными. Дени Рош пережил своего русского корреспондента более чем на тридцать лет, жизнь его была вполне благополучной, он не раз бывал в России,22 подвизался на разных поприщах, но особенно много и плодотворно трудился как переводчик русской литературы, что принесло ему известность в обеих странах, но прежде всего во Франции, где в 1928 году он удостоился академической премии Ланглуа (Prix Langlois), присуждавшейся за лучший перевод в стихах и прозе. Своих соотечественников Рош познакомил с творчеством многих русских писателей, но его главной заслугой и самым ценным вкладом в историю русско-французского культурного общения был перевод на французский язык «всего» Чехова, любовь к которому он пронес почти через всю свою сознательную жизнь.
1 См.: Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. М., 1989. Т. 1. С. 180–181 (автор статьи — Л. А. Скворцова). Укажем также серию публикаций очерков из неизданной книги Ф. Д. Батюшкова «Около талантов» (ИРЛИ. № 15780), подготовленных П. П. Ширмаковым — «Вечер у Л. Н. Толстого» (Русская литература. 1963. № 4. С. 214–221); «Стихийный талант (А. И. Куприн)» (К. Н. Батюшков. Ф. Д. Батюшков. А. И. Куприн. Материалы Всероссийской научной конференции в Устюжне. Вологда, 1968. С. 125–149) — и П. Р. Заборовым — «В семье Майковых» (Русская литература. 2000. № 3. С. 177–193); «Владимир Сергеевич Соловьев» (Там же. 2002. № 2. С. 185–197); «„Интеллигентская душа“ (Всеволод Михайлович Гаршин)» (Там же. 2003. № 1. С. 142–147); «Две встречи с А. П. Чеховым» (Там же. 2004. № 3. С. 169–174); «Александр Николаевич Веселовский» (Там же. 2006. № 4. С. 62–91); «На банкете в Болонье с Кардуччи» (Эткиндовские чтения: Сб. статей по материалам Чтений памяти Е. Г. Эткинда. СПб., 2003. Вып. 1. С. 115–124).
2 См.: М. Горький. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. [Вып.] II. С. 263–288. См. также: Зильберштейн И. С. Горький и Репин. М.; Л., 1944. С. 8–9.
3 ИРЛИ. № 15300. Далее ссылки на эту единицу приводятся в тексте сокращенно, с указанием номера листа. Перевод писем мой. — П. З.
4 Имеются в виду Константин Федорович Головин (1843–1913) и Алексей Алексеевич Тихонов, псевдоним — А. Луговой (1853–1914), Варвара Дмитриевна Комарова, псевдоним — Влад. Каренин (1862–1943), Елизавета Меркурьевна Бём (1843–1914), Варвара Петровна (1860–1941) и Александра Петровна (1863–1941) Шнейдер, Анна Николаевна Иванова (1877–1939).
5 Журнал издавался в 1885–1912 годах; выходил один раз в два месяца; издатели — Людовик, затем Рене Баше (Baschet).
6 См.: Французские посетители Толстого / Публ. и пер. Л. Р. Ланского // Лит. наследство. 1965. Т. 75. Кн. 2. С. 24–31.
7 ИРЛИ. № 15780. Л. 119–130.
8 Там же. Л. 126.
9 Там же. Литературно-политический журнал «Жизнь», издавался в Петербурге в 1897–1901 годах; фотографии с выполненных Репиным иллюстраций к повести Чехова «Мужики» см.: Жизнь. 1900. Т. 3 (март). Между с. 176 и 177 и на с. 442.
10 ИРЛИ. № 15780. Л. 127.
11 Речь идет о портрете, ныне находящемся в Государственном Русском музее.
12 Горький М. Полн. собр. соч. Письма: В 24 т. М., 1997. Т. 1. С. 383.
13 Там же. С. 639–640.
14 Там же.
15 Там же. Т. 2. С. 12, 249.
16 См.: Батюшков Ф. Д. Критические очерки и заметки: [В 2 т.]. СПб., 1900–1902. Т. 1. С. 80–91.
17 Чехов А. П. Полн. собр. соч.: В 30 т. Письма: В 12 т. М., 1979. Т. 7. С. 346, 675.
18 Там же. С. 695.
19 Там же. С. 346.
20 См.: Сахарова Е. Дени Рош — переводчик Чехова // Чеховиана. Чехов и Франция. М., 1992. С. 153–166 (статья включает в себя 11 неизданных писем Роша к Чехову, находящихся в Отделе рукописей РГБ).
21 Tchékhov Anton. Les Moujiks; Dans le bas-fond; Le Pipeau; Vanka; Détresse; La Princesse; Remords; Sur la terre étrangère; Chez la maréchale de noblesse; Graine errante; Une fièvre typhoïde; La salle № 6 / Trad. du russe <…> par Denis Roche. Paris, 1901.
22 Одним из свидетельств пребывания Роша в России в 1905 году является его карандашный портрет работы И. Е. Репина, находящийся в Государственном Русском музее.
About the authors
Piotr R. Zaborov
Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom), Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: p.zaborov@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-5135-021X
Chief Researcher
Russian Federation, St. PetersburgReferences
- Chekhov A. P. Poln. sobr. soch.: V 30 t. Pis’ma: V 12 t. M., 1979. T. 7.
- Frantsuzskie posetiteli Tolstogo / Publ. i per. L. R. Lanskogo // Lit. nasledstvo. 1965. T. 75. Kn. 2.
- Gor’kii M. Poln. sobr. soch. Pis’ma: V 24 t. M., 1997. T. 1, 2.
- M. Gor’kii. Materialy i issledovaniia. M.; L., 1936. [Vyp.] II.
- Sakharova E. Deni Rosh — perevodchik Chekhova // Chekhoviana. Chekhov i Frantsiia. M., 1992.
- Skvortsova L. A. Batiushkov Fedor Dmitrievich // Russkie pisateli. 1800–1917. Biograficheskii slovar’. M., 1989. T. 1.
- Zil’bershtein I. S. Gor’kii i Repin. M.; L., 1944.