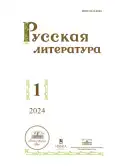Working on the manuscripts of Vyach. Ivanov’s articles. part 2. Jurgis Baltrusaitis as a lyricist
- Authors: Kumpan K.A.1
-
Affiliations:
- Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom), Russian Academy of Sciences
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 180-191
- Section: Публикации и сообщения
- URL: https://journal-vniispk.ru/0131-6095/article/view/257540
- DOI: https://doi.org/10.31860/0131-6095-2024-1-180-191
- ID: 257540
Full Text
Abstract
Due to systematization and decoding of Ivanov’s draft manuscripts for the article, unknown notes of Baltrusaitis were discovered therein, and they seem to provide the conceptual basis for Ivanov’s article. Apart from clarifying the history of the article and indicating Baltrusaitis’s involvement, the manuscript provides data for establishing the dates and identifying the unknown versions of a number of his poems.
Full Text
Статья «Юргис Балтрушайтис как лирический поэт» была заказана С. А. Венгеровым и предназначалась для шестой книги его знаменитых выпусков «Русская литература XX века (1890–1910)» (М., 1916). Напомним, что по просьбе этого известного издателя Вяч. Иванов уже написал две историко-литературные статьи для серии «Библиотека великих писателей»: «Байрон и идея анархии» (1905) и «О „Цыганах“ Пушкина» (1908). И, как явствует из истории работы над ними, Венгерову пришлось многократно напоминать Иванову о сроках сдачи статей, торопить его, переносить выход соответствующих выпусков из-за многократных задержек, связанных не только с жизненными обстоятельствами, но и с отмеченной нами1 медлительностью самого процесса работы Иванова над текстом.2
Возможно, памятуя об этих многочисленных пролонгациях и сложностях получения работ от Иванова, Венгеров сначала обратился с просьбой написать статью к четкому и пунктуальному В. Я. Брюсову. Но тот ответил отказом, не будучи поклонником поэзии Балтрушайтиса.3 Тогда Венгеров в письме от 22 января 1915 года попросил Иванова написать «небольшую характеристику поэзии Балтрушайтиса», мотивируя предложение дружбой поэтов («с которым Вы, по-видимому, в хороших отношениях»).4 Из дальнейшей переписки следует, что Иванов не ответил на это предложение, и Венгерову через несколько дней пришлось повторить свою просьбу: «Очень прошу ускорить ответ на недавнее письмо мое. Мне крайне необходимо знать, могу ли я рассчитывать на получение от Вас статьи о Балтрушайтисе».5 Еще раз Венгеров запрашивает Иванова о статье 7 марта («Жду с величайшим нетерпением вестей о характеристике Балтрушайтиса — она мне очень нужна»6). Вероятно, согласившись на предложение Венгерова, Иванов, как часто бывало, писать не торопился, так что издателю пришлось 6 мая снова повторить свою просьбу: «Балтрушайтис нужен до зарезу — останавливается издание из-за него». Здесь же редактор просит откликнуться: «Отзовитесь, пожалуйста, на мои вопли. А то обыкновенно мои письма остаются гласом вопиющего в пустыне. Даже Марья Михайловна, на что хороший человек, а тоже молчит».7 И наконец в письме от 4 сентября потерявший терпение Венгеров пишет, что «должен поставить вопрос ультимативно», заявляя, что если статья не будет предоставлена «в течении этих 10 дней» (т. е. до 14 сентября), то он будет вынужден передать ее написание другому автору.8
Два последних письма по этому поводу опубликованы О. А. Кузнецовой.9 7 сентября 1915 года Иванов, наконец, откликнулся, оповестив редактора, что пришлет статью в срок.10 В ответном письме от 9 сентября Венгеров указывает крайний срок присылки статьи — «17 сентября».11 Таким образом, можно предположить, что статья была закончена Ивановым и отослана Венгерову между 14 и 17 сентября 1915 года.
К этой статье имеется несколько рукописных источников, в частности, упомянем наборную рукопись (РНБ. Ф. 304. № 20. 16 л.) — перебеленную копию статьи, сделанную рукой М. М. Замятниной, с авторской правкой, а также корректуру с правкой автора и редактора (ИРЛИ. Ф. 607. № 231. Л. 3–8).
Наибольший интерес для нас представляет папка с рукописями под названием «Несколько слов о лирике Юргиса Балтрушайтиса» (ИРЛИ. Ф. 607. № 155), с указанием листажа (40 л.) и пометой: «Б/д». Произвольное заглавие этой единице дали архивисты по хорошо читаемому беловому автографу, которым открывается папка. Предназначение этого документа не совсем понятно. По содержанию: перечисление «некоторых особенностей» лирики друга-поэта, которые, следует заметить, коррелируют с запросом заказчика — дать «небольшую характеристику поэзии Балтрушайтиса», — можно было бы принять за первые подступы к статье. Но чистовой характер рукописи и подпись-автограф под ним указывают, что текст предназначался для публичного использования, возможно, как программка выступления. Во всяком случае, к тексту настоящей статьи он не имеет прямого отношения, хотя перечисленные здесь «особенности музы Балтрушайтиса» получили в ней развитие. Что касается указанного на папке листажа (40 листов, т. е. 80 страниц), то перед нами 50 страниц, содержащих записи, и 30 пустых страниц (как правило, это обороты записанных листов).
Однако расшифровывая и идентифицируя автографы и систематизируя материал, который здесь сложен в произвольном порядке, мы обнаружили четыре страницы, которые вообще не имеют отношения к статье о Балтрушайтисе. Так, на обороте первого листа имеется надпись на верхнем поле крупными печатными буквами, смысл которой мы не смогли расшифровать: «К, П, О, Ж, С» (рука Иванова тут не установлена), на обороте пустого л. 16 записаны черновые наброски к поэме «Ты еси», на л. 9, как нам удалось установить, содержатся выписки из книги Э. К. Метнера «Размышления о Гете. Кн. 1. Разбор взглядов Р. Штейнера в связи с вопросами критицизма, символизма и оккультизма» (1914), а на л. 16 — заметки, начинающиеся записью: «Б. А. Куфтин (?) — предс<едатель>» и выпиской отдельных слов и мыслей, возможно сделанные на каком-то московском заседании.
Итак, к статье о Балтрушайтисе, если не считать указанной беловой записи — с характеристикой «музы Балтрушайтиса», имеют отношение 45 страниц, записи на которых, за редким исключением, представляют не связанные между собой черновые и беловые фрагменты статьи (28), выписки стихотворных цитат (6) и наброски разрозненных мыслей (7). О записях еще на четырех страницах мы скажем особо.
В текстологической справке и в разделе «Другие редакции и варианты» мы сгруппировали эти автографы следующим образом: сначала описан первый указанный выше лист (БА1), затем идет отдел «Выписки цитат из стихотворений Балтрушайтиса», за ним — «Наброски мыслей к разным главам». Внутри этих отделов каждый фрагмент, написанный неразборчивой скорописью Иванова, мы определяем как черновые наброски (ЧН) и последовательно их нумеруем, прикрепляя, по возможности, цитаты и мысли к соответствующим главам и размещая их в последовательности глав в статье.
Все дальнейшие автографы являются черновыми и беловыми фрагментами текста статьи. В текстологической справке и в разделе «Другие редакции» они распределены по главам статьи, с рубриками: «Глава I», «Глава II» и т. д. Внутри главы они начинаются с черновиков, потом идут беловики, причем если встречается перебелка какого-то чернового наброска, то она идет следом за соответствующим ЧН. Сами фрагменты (как черновые, так и беловые) расположены в последовательности текста главы, к которой они относятся.
Самым сложным оказалось распознание стихотворных цитат. Иванов часто записывал их для себя нечитаемым почерком. Чтобы их расшифровать, надо было прибегнуть к поискам цитат по печатным текстам Балтрушайтиса: т. е. по одному-двум разобранным словам искать и распознавать цитируемые фрагменты стихотворений.
И тут мы столкнулись с первой загадкой. Нескольких выписанных цитат из стихотворений Балтрушайтиса не оказалось в первых двух его стихотворных сборниках — «Земные Ступени» (1911) и «Горная Тропа» (1912), т. е. в сборниках, которые вышли до работы Иванова над статьей и, несомненно, были у него под рукой или на слуху. Отсутствующие цитаты оказались выписками из стихотворений, вошедших в сборник «Лилия и Серп». Не только в черновиках, но и в окончательном тексте статьи автор неоднократно ссылается на образы и строки из стихотворений этого третьего сборника, который, как известно, был издан вдовой поэта только в 1948 году.
На этот сборник Иванов ссылается уже во второй главке статьи. Здесь, называя Балтрушайтиса «новым элевсинцем», который «в подобии озимого зерна прозревает откровение вселенской жизни и залог вселенской надежды», он в сноске отсылает к нескольким стихотворениям из сборника «Горная Тропа» и прибавляет: «Окончательное выражение находят настроения этого последнего периода в еще не вышедшей в свет книге стихов „Лилия и Серп“».12
Известно, что часть стихотворений, собранных вдовой поэта в этой книге, была написана Балтрушайтисом в 1910-е годы и некоторые из них тогда же опубликованы в периодике. И в это время появилось заглавие сборника «Лилия и Серп»,13 которое было изначально названием цикла из шести стихотворений, опубликованных в журнале «Заветы» (1913. № 1), три из которых: «Полночный парус», «Солнечные крылья» и «Лесной водопад» — Иванов цитирует в своей статье. Заметим, что тексты первых двух указанных стихотворений здесь имеют ранние варианты по отношению к окончательным текстам (в сборнике «Лилия и Серп»). С этими вариантами их цитирует Иванов,14 т. е. можно было бы предположить, что он пользовался журнальной публикацией. Однако третье стихотворение из этого цикла «Лесной водопад» у Иванова имеет другое название («Водопад») и вариант в последнем стихе («Чаша смертной тишины?» (РЛ-ХХ, с. 311)), не зафиксированный ни в журнальной публикации, ни в сборнике (где последний стих: «Чаша сна и тишины!»).15 Это косвенным образом указывает, что Иванов пользовался какими-то другими источниками текстов, а не ранней публикацией.
Ранние варианты встречаются у Иванова и в названии стихотворения «Предчувствие» (см.: РЛ-ХХ, с. 305),16 тогда как в сборник оно вошло без заглавия по первой строке: «Предвижу разумом крушенье…»; однако стих 11 у Иванова («Всем даром терний и распятий») вариативен по отношению к этому же стиху в первой публикации («Всем чудом терний и распятий»). В сборнике стих 11 такой же, как в цитате Иванова, но само стихотворение имеет дополнительную строфу (поэтому в ЛиС это стих 15 (ЛиС, с. 65)). Такая же смесь ранних и поздних вариантов зафиксирована в цитатах Иванова из стихотворений «Раздумье» («Все строже мыслю я, вникая»…»),17 «Напутствие»18 и «Чудом тени».19
Не множа примеры разночтений в цитатах у Иванова с текстами публикаций стихотворений Балтрушайтиса, сделаем вывод, что вероятным источником цитат был какой-то промежуточный вариант текстов, который Иванов мог получить только от автора. Об этом же в статье Иванова свидетельствуют цитаты и ссылки на стихотворения Балтрушайтиса, которые или вообще не были опубликованы при жизни поэта, или были опубликованы в периодике после выхода статьи. Мы имеем в виду стихотворения «Море и Капля» и «Верую».20
Итак, при осмыслении всего сказанного напрашивается единственное объяснение знакомства Иванова с неканоническими или не опубликованными текстами этих стихотворений, а именно: он мог получить их только от самого автора.
Предположение это имеет резоны.
Известно, что к 1914 году относится начало дружбы поэтов. Они были хорошо знакомы и раньше,21 участвовали в совместных начинаниях: например, в символистских журналах и альманахах, в венгеровском издании Байрона в «Библиотеке великих писателей» (1904); позже, в 1915–1917 годах, по свидетельству биографа Балтрушайтиса, он помогал Вяч. Иванову переводить литовские народные песни для готовившегося в издательстве «Парус» «Сборника литовской литературы» под редакцией Балтрушайтиса и М. Горького.22 Кроме того, оба они в 1917 году активно участвовали в организации «Lо studio italiano».23
Подлинное сближение поэтов началось в 1914 году, когда отношения между Ивановым и Балтрушайтисом приняли характер задушевной дружбы. Лето 1914 года семейство Ивановых проводило вместе с супругами Балтрушайтис в усадьбе Бера. Их совместная дачная жизнь нашла отражение в посвященном супругам Балтрушайтис стихотворении Иванова «Петровское на Оке»,24 она красочно описана и в воспоминаниях его дочери.25 Дружбе способствовало также несколько обстоятельств: начавшаяся этим летом Первая мировая война, в отношении к которой они были полными единомышленниками,26 а также преклонение перед творчеством Скрябина и близость с композитором в последний год его жизни, а после неожиданной и скоропостижной кончины (апрель 1915 года) — общие занятия его мемориальными делами, организация вечеров по увековечению памяти и т. д.
В мае 1915 года после «воплей» Венгерова о присылке статьи Иванов, вероятно, приступил к работе. Балтрушайтис чуть позже в июне вернулся из Подмосковья в Москву, и на протяжении всего июня зафиксировано их личное, напряженное общение. Они жили в пределах Смоленского кольца: Иванов — на Зубовском бульваре, д. 25, а Балтрушайтис на Поварской, д. 24. Свидетельства их почти ежедневных встреч можно найти в переписке ближайшего окружения Иванова. Так, в письме от 26–27 июня 1915 года М. М. Замятнина сообщает В. Шварсалон: «Юргис бывал у нас каждый день, а раз мы у них обедали, там было большое сравнительно общество: Татьяна Федор<овна> Скряб<ина>,27 Бальмонт, Ремизов, Меерхольд <так!>, Гнесин, Сабанеев, Шапошников…».28 А из писем близкого тогда Иванову Г. Г. Шпета выясняется, что «летом 1915 года он и Лев Шестов часто бывали у Иванова и слушали его стихи <…>, иногда в компании Бальмонта, Балтрушайтиса и Ремизова…».29
Из этих кратких свидетельств, исходящих из близкого окружения Иванова, явствует, что при встречах читались произведения поэтов. Отметим, что они высоко ценили поэзию друг друга. Известно, что Балтрушайтис был одним из первых читателей и почитателей неопубликованной поэмы «Человек».30 Он, несомненно, также делился с Ивановым как своими новыми поэтическими произведениями, так и планами издания третьей книги стихотворений «Лилия и Серп», что следует из письма к Иванову от 20 июля 1915 года, в котором Балтрушайтис жалуется другу, что его книга «продвигается что-то медленно».31 Напомним, четыре стихотворения из будущей книги «Лилия и Серп», которые Иванов цитирует и упоминает в своей статье («Хвала рабам», «Напутствие», «Чудом тени» и «Верую»), написаны были в Петровском-на-Оке, так что они, вероятно, тогда же стали известны Иванову. О том, что Балтрушайтис посылал Иванову тексты своих стихотворений именно в разгар работы над статьей, свидетельствуют строки из его письма от 16 июля 1915 года: «Завтра пошлю тебе копии стихов, как ты наказывал».32
Но не только знакомством со своим еще неизвестным читателям творчеством помог Балтрушайтис Иванову при написании настоящей статьи. Как явствует из самого ее текста, он также изложил другу свой творческий путь, поэтически описав свою эволюцию. Об этом Иванов пишет в начале второй главки, отмечая, что «пишущий эти строки рад, что имеет возможность и полномочие предпослать своей попытке истолкования (лирики Балтрушайтиса. — К. К.) — самоистолкование поэта, доверенное ему дружбою» (РЛ-ХХ, с. 301–302).
Можно было бы предположить, что речь идет об исповедальных личных беседах, но оказалось, что это «самоистолкование», «доверенное дружбою», было закреплено и на бумаге, возможно, по просьбе Иванова.
Вчитываясь и сортируя автографы указанной папки, мы столкнулись с записями на четырех страницах — двух сдвоенных листах (л. 35–36 об.), которые, при внимательном рассмотрении, написаны не рукой Вяч. Иванова. Записи эти носят спонтанный характер, но прозаический текст написан четко мелким и довольно ровным почерком по левому краю страницы, тогда как стихотворные строчки, как правило, вписаны позже, скорописью, с правой стороны страницы и с л. 35 об. переходят на сдвоенную соседнюю страницу (л. 36). Цитаты стрелочками отнесены к определенным пунктам текста. На обороте л. 36 тем же почерком, но более четко написаны две стихотворные строки с кратким комментарием. Сравнение почерка этих записей с почерком писем Балтрушайтиса не оставляет сомнений, что они принадлежат ему.
Приведем их расшифровку, сопровождая записи постраничными примечаниями. Квадратными скобками обозначены зачеркивания. На курсив переведены подчеркнутые фрагменты текста.
Л. 35.
до 1899
1-ое забвение с обычными радостью и печалью. Чисто эстетическое восприятие вещей, простое запоминание их, без вопросов и ответов. Обычное стояние в мире, без чувства <см?>
Дай дослушать в час рассветный,
Вещий звон колоколов!
Дай мне ярче, в утро мая,
Осениться светом дня!
Не смущай тревогой гневной
Мира тайных снов моих!
(Noli tangere circulos meos33) стр. 51.34
- Где-то на праздник труба призывает35
1900 — до 1903–1908
2-ое забвение. Сиротство, отторженность [(воинствующее, неприемлющее)]
Начало: Ночью (55). Детские страхи. 81. Отчаянье. 167. Сиротство. 165. Одиночество. 175. Остров. 163. Ткач. 169. Прибой. 59. Taedium Vitae. 7336 (Где и было молитвенное признание бытия, оно еще — благоговение страха…)
3<-e> забвение. Примирение с сиротством (пример: добровольно-подвластное изъявление): Молись Тому — Кто силу жизни дал подснежникам и мхам37
Сердце. 65. Песня. 67.
1906
4-ое <забвение.> Беспредельность мира и скорбь человеческой предельности.
Скорбь спящего у Божьего порога
(Символы жизни, как бреда).
(Микеланджело)38
На отмели. 95 Вечерний дым. 189.
1909
5-ое <забвение.> Начало мира в человеке, его связь с ним через благоговение, просветляющая тоска —
Вечерние песни. 97–I–III (особенно)39 1908 г.
Л. 35 об. — 36.
6-ое <забвение.> Начало Аve stella maris40
Слияние с миром
Трагическое [признание] единства с миром: Капля и море41
Чем дальше жизнь, тем время безначальней. 117 42
To see, a world in a grain of sand43
(1911) Годы надежды Полночь. 103. В пути44
Поклонение земле (53) и [вся] большая часть «Горная Тропа»
Призыв 8745
Узник 93
Пробуждение 91
То пурпур дум, то пурпур грез струя
Как весть из рая, в жребии земли46
Вифлеемская звезда47
142 Но ясен путь, и падают оковы
Едва душа, без боли о себе,
Тоскующе приемлет долг суровый
Свободного служения судьбе48
С <1>912-го 7<-е затмение.> Совпадающая беспредельность человека и мира: еще не созданный человек и в еще не созданном мире
Пафос слияния с миром, Миг — святые дары. — — — — <так!>
143 Чередою
Ликующие годы веры. Символ озимого зерна49
Горная Тропа 2950
Синева 109
Ныне и присно.51 Слухом новым52
11
Мощь малости53
Восхождение 15
Без крова54
E quindi uscimmo a riveder le stele55
Дым56 — переходное и вступительное
NB Сюда не возврат57
Грань сокровенной полноты58
Слава дневному бегу!
Слава тайне ночной59
Равнодушие 69
Как пример одиночества в новом душевном опыте
Сравнение Cиротств<о> Сравнение «В пути» Жертвенный дым60
Л. 36 об.
Вся мысль моя — тоска по тайне звездной…
Вся мысль моя — стояние над бездной…61
(Лето 1911 г.62 Как общий взгляд назад)
Итак, если теперь мы обратимся ко второй главке статьи о Балтрушайтисе, то увидим, что Иванов обильно цитирует и пересказывает эту запись, а также приводит строчки или дает в сносках отсылки на названия тех стихотворений, которые к каждому периоду «прикрепляет» Балтрушайтис.
Поскольку статья о Балтрушайтисе, кроме публикации в венгеровском издании, нигде не воспроизводилась, позволим себе, чтобы не быть голословными, привести эту вторую главу с примечаниями автора.
Вяч. Иванов
Юргис Балтрушайтис как лирический поэт
<…>
II
Истолковать этот монолог — душевно трудное и ответственное дело. Как подслушать молитвенный шепот и как домыслить подслушанное? Вот почему пишущий эти строки рад, что имеет возможность и полномочие предпослать своей попытке истолкования — самоистолкование поэта, доверенное ему дружбою.
«Земные Ступени»… «Горная Тропа»… Какой особенный, личный смысл таится в этих символах — заглавиях двух предлежащих нам книг? — Семь последовательных ступеней осознания личностью мира и ее самой различает поэт в своем прошлом внутреннем опыте — и дает этим ступеням неожиданное и многознаменательное наименование «семи забвений». Ибо, когда выйдет человек из замкнутого и самодовлеющего круга привычных впечатлений и представлений, с которым он сжился, как с родным «кровом», и откроется душе его новый мир, — он забудет, внутренне переменившись, прежний свой «кров» и прежний плен, — как забудет, в свою очередь, и эту новую временную обитель, переступив через порог следующей, лежащей на его пути. И пребывание в каждой отдельной сфере, под каждым последовательно обретаемым «кровом», укрывающим дух от огромности сущего, которой он не может вместить, — есть забвение об иных пристанищах, мирах и обителях; и каждый миг воплощенного бытия есть забвение об изначальной и в конце «тропы» заданной, всеобъемлющей, божественной полноте.
Свое первое «забвение» (обнимающее период жизни до 1900 г.) поэт характеризует как простое «стояние в мире — без вопросов и ответов»; он поглощен разглядыванием вещей и эстетическою их расценкою. И когда зашевелились в душе иные запросы, ему хотелось бы усыпить их и еще помедлить в своем бездумье: «noli tangere circulos meos» («Земные Ступени», стр. 51). В самом деле, он вступает в круг «сиротства и отторженности». Пробудившейся личности противостоит мировая данность, подавляющая и ужасающая душу, чуждая ей, иноприродная, иноязычная, неприемлемая для личности. Душа усиливалась преодолеть этот второй плен, — «но не было ни смерти, ни рожденья». И когда ей казалось, что она мирится с миром, это вынужденное Да бытию было, по словам поэта, «благоговением из страха»1).
Уныние «сиротства» сменилось — в круге третьего «забвения» — чувством покорности, «добровольного (!) согласия» на высшую, трансцендентную личности волю. Выход был чисто религиозным; он совершился под знаком: «молись». Но внутренняя гармония, конечно, не была завоевана этой резигнацией. С итальянскими впечатлениями от творений Микель-Анджело, особенно от его «Ночи» (1906 г.), связалось наступление нового, четвертого, периода душевной жизни. Поэт проникается «скорбью человеческой предельности», ощущением «жизни, как бреда». Это, говорит он, была «скорбь спящего у Божьего порога».
Ослепленными очами
Мы глядим, рабы теней,
В мир, сверкающий пред нами,
Расширяя только снами
Жребий малости своей.
(«Земные Ступени», стр. 95)
Рабы одной галеры в блеске дня,
Уходим мы
С отдельной болью, жребий свой кляня,
В отдельность тьмы.
(«Земные Ступени», стр. 189)
В 1908 г. забрезжило поэту то, что он называет «началом мира в человеке», и печаль, уже «просветленная», отметила это установление во внутреннем опыте первой живой связи между я и вселенною2). Если на этой, пятой, ступени поэту открывается, наполняя его светом, таинство имманентного познания, то на следующей, шестой, оно, согласно общему ритму его развития, находит свою трагическую антитезу: «трагически» переживает он единство личности и мира, «капли и моря»3). И только с 1912 г. — со вступлением в круг последнего из доселе изведанных им «забвений» — поэт обретает в углубленном чувстве «слияния с миром» источник внутренней свободы и мужественного пафоса. Перед ним разоблачается «совпадающая беспредельность мира и человека»; он видит «человека не созданным в еще не созданном мире» и — новый элевсинец — в подобии озимого зерна прозревает откровение вселенской жизни и залог вселенской надежды…4)
Не нам развивать эти скупые, быть может, но показательные намеки, в которых еще отчетливее, нежели путь поэта-мыслителя, уже обрисовался он сам как личность5). Пусть они помогут читателям проверить нижеследующие наши наблюдения, направленные уже не на генетическую связь, но на предлежащую нам художественную совокупность его лирических творений.
______________
1) К этой поре относятся в сборнике «Земные Ступени» стихотворения: «Ночью», «Прибой», «Taedium vitae», «Детские страхи», «Остров», «Сиротство», «Отчаяние», «Ткач», «Одиночество» и др. Отметим при этом случае, что в аккорд мировой скорби явственно примешиваются у Балтрушайтиса отзвуки боли общественной.
2) См. в «З.С.», «Вечерние песни», особенно III.
3) См. в той же книге стихотворения: «Элегия», «Полночь», «Поклонение Земле», в «Горной Тропе» — «Узник», «Раздумье» (стр. 141), «Пробуждение», «Без крова», «В Пути», «Призыв».
4) См. в сборнике «Горная Тропа»: «Ныне и Присно», «Восхождение», «Мощь Малости», «Горная Тропа», «Синева» и др. Окончательное выражение находят настроения этого последнего периода в еще не вышедшей в свет книге стихов «Лилия и Серп».
5) «Dai versi del В. si sente ch’egli è un vero figlio della Lituania, uno di quegli esseri silenziosi, austeri, d’una sincerità sovente tragica per se e per gli altri, difficili’ a piegarsi nel loro intimo… In B. il dolore metafisico del mondo-prigione fa tacere ogni personale dolore… Ma non soltanto del dolore s’ispirano i canti del В.: come ogni cuore veramente mistico, a traverso il suo Weltschmerz, egli è giunto ad uno stato d’animo eroico, il cui carattere fondamentale è la speranza». Kühn-Amendola, La Scala Terrestre, traduzione. Firenze 1912, p. 9.63
(РЛ-ХХ, с. 301–304).
В качестве краткого комментария отметим, что приведенные два четверостишия в тексте главы взяты из стихотворений «На отмели» и «Вечерний дым», опубликованных на указанных страницах сборника «Земные Ступени».
Может быть, стоит обратить внимание на датировку «забвений». У Балтрушайтиса дата иногда дана невнятно (например, датировка второго и третьего «забвения»), и Иванов, во избежание путаницы, указывает лишь датировку первого «забвения» (до 1900 года) и четвертого (после 1906-го). А потом указывает даты, но опускает нумерацию забвений, хотя и пользуется определениями поэтических мотивов и настроений Балтрушайтиса, перечисляет или цитирует вслед за соответствующим периодом («забвением») указанные Балтрушайтисом стихотворения.
Таким образом, настоящая статья если не являлась коллективным творением двух поэтов, то все же была написана при участии Балтрушайтиса.
В качестве постскриптума позволим себе отметить несколько привходящих моментов, которые касаются уже не текстологии Вяч. Иванова, а текстологии Балтрушайтиса. Прежде всего, следует указать на промежуточные варианты стихотворений, не известные читателям, которые, несомненно, при будущих научных изданиях Балтрушайтиса необходимо учесть. Кроме того, датировка многих стихотворений, особенно опубликованных в первых двух сборниках («Земные Ступени» и «Горная Тропа»), до сих пор оставалась неизвестной. И для установки примерных дат некоторых произведений из «Земных Ступеней» публикаторы использовали как источник настоящую статью Иванова. Так, Ю. Тумялис в сборнике стихотворений Балтрушайтиса «Дерево в огне» (Вильнюс, 1983) указывает даты написания некоторых стихотворений таким образом: «Noli tangere circulos meos»: «По В. И. Иванову — написано до 1906 г.», «На отмели»: «По В. И. Иванову — написано около 1906–1908 гг.», цикл «Вечерние песни»: «По В. И. Иванову — написано после 1908 г.», «Сиротство» и «Ткач»: «По В. И. Иванову — написано до 1906 г.», «Вечерний дым»: «По В. И. Иванову — написано около 1906–1908 гг.».64
Обнаруженная нами рукопись Балтрушайтиса дает возможность датировать и ряд других стихотворений. Например, 1911 годом автор датирует стихотворения из «Земных Ступеней»: «В пути» и «Полночь». К тому же году он относит «большую часть» стихотворений в сборнике «Горная Тропа», называя следующие: «Призыв», «Узник», «Пробуждение», «Вифлеемская звезда» и «Раздумье» («Проходит день, и глухо сердце бьется…»), время написания которых до сих пор не было установлено. А к «седьмому забвению», т. е. к 1912 году, Балтрушайтис относит стихотворения: «Чередою», «Ныне и присно», «Мощь малости», «Восхождение», «Без крова», «Дым», «Возврат», «Равнодушие».
Безусловно, даты эти приводились по памяти и требуют корректировки и, по возможности, перепроверки. Например, указанные здесь стихотворения «Синева» и «Горная Тропа» отнесены в записи автора к 1912 году, хотя были опубликованы в 1911 году (в пятой книге «Северных цветов»), а текст отнесенного к 1911 году стихотворения «Поклонение земле» был переслан Брюсову в 1910 году.65 В любом случае, если нет подтверждений или опровержений, датировки, сделанные автором по памяти, следует воспроизводить со знаком вопроса. Но, тем не менее, стихотворения эти можно датировать в хронологических рамках конца 1910 — 1911 года. При этом надо иметь в виду, что некоторые стихотворения прописывались Балтрушайтисом годами, т. е. отдельные строки и строфы писались задолго до окончательного завершения произведения.66
И наконец, отметим последнюю загадку этого текстологического «детектива». Имеются сведения, что Балтрушайтис впоследствии негативно оценил ивановскую статью, осудив и опровергнув схему, т. е. именно эту предложенную им самим периодизацию своего поэтического творчества, с делением на семь «забвений». Такая оценка статьи Иванова, и, по всей видимости, именно второй главки, содержится в письме к Ю. Урбшису от 10 июня 1925 года.67
* Первую часть статьи см.: Русская литература. 2023. № 4. С. 213–230.
1 См.: Там же. С. 214–215.
2 Историю создания этих статей см. подробнее в наших историко-литературных примечаниях к указанным статьям: Иванов Вяч. Собр. соч.: По Звездам. Опыты философские, критические и эстетические: Статьи и афоризмы. СПб., 2018. Кн. 2. Примечания. С. 232–239, 265–267.
3 См. письмо В. Я. Брюсова С. А. Венгерову от 27 мая 1914 года (Лит. наследство. 1976. Т. 85. С. 683).
4 РГБ. Ф. 109. Карт. 14. № 45. Л. 25. Черновая копия письма сохранилась в архиве Венгерова (ИРЛИ. Ф. 377. Оп. 4. № 72. Л. 110 об. — 111).
5 Письмо от 5 февраля 1915 года (РГБ. Ф. 109. Карт. 14. № 45. Л. 28). Черновую копию см.: ИРЛИ. Ф. 377. Оп. 4. № 72. Л. 122 об. — 123.
6 РГБ. Ф. 109. Карт. 14. № 45. Л. 31. Черновую копию см.: ИРЛИ. Ф. 377. Оп. 4. № 73. Л. 108 об.
7 РГБ. Ф. 109. Карт. 14. № 45. Л. 34. Черновая копия письма: ИРЛИ. Ф. 377. Оп. 4. № 73. Л. 136 об. На этом же листе тетради с черновиками писем сохранилась записочка к старой знакомой Венгерова М. М. Замятниной: «Пожалейте бедного старого редактора — заставьте Вячеслава Ивановича написать характеристику Балтрушайтиса…».
8 РГБ. Ф. 109. Карт. 14. № 45. Л. 37.
9 Переписка Вяч. Иванова с С. А. Венгеровым / Публ. О. А. Кузнецовой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1990 год. СПб., 1993. С. 72–100.
10 Там же. С. 96.
11 Там же. С. 97.
12 Русская литература XX века (1890–1910) / Под ред. С. А. Венгерова. М., 1916. Кн. 6. С. 303 (далее ссылки на это издание приводятся в тексте сокращенно: РЛ-ХХ, с указанием номера страницы).
13 Балтрушайтис Ю. Лилия и Серп. Третья книга стихов. Париж: YМСА-Press, 1948. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте сокращенно: ЛиС, с указанием номера страницы.
14 Ср. варианты в цитатах из стихотворения «Полночный парус» в стихах 13, 14 и 18: «И глухо сердце, маятник железный, / Томится долей двух различных граней… / Двойным огнем пылает дух мой пленный» (РЛ-ХХ, с. 305; здесь и далее курсив мой. — К. К.) — с идентичным текстом в «Заветах» (1913. № 1. С. 9) и вариативным в сборнике: «И бьется сердце, маятник железный, / Творящий волю двух различных граней… / Двойным огнем томится дух мой пленный» (ЛиС, с. 51; здесь и далее курсив мой. — К. К.). То же касается мелкого варианта в цитате из стихотворения «Солнечные крылья» (в ст. 8), процитированного в черновых выписках Иванова: «Мало от света разнится тень» (ИРЛИ. Ф. 607. № 155. Л. 22; курсив мой. — К. К.); так этот стих напечатан и в «Заветах» (1913. № 1. С. 5), тогда как в сборнике он имеет вариант: «Мало от света разнствует тень» (ЛиС, с. 41).
15 См.: Заветы. 1913. № 1. С. 6; ЛиС, с. 52.
16 См. также: Дневник писателей. 1914. № 1. С. 4.
17 У Иванова (РЛ-ХХ, с. 305) название («Пробуждаясь») и стих 2 «В бег дней с их важной пестротой» идентичны первой публикации, тогда как стихи 3–4 «Не праздный колос мысль людская, / Людские сны — не цвет пустой!» в первой публикации иные: «Не праздный трепет мысль людская / Глубь снов людских — не цвет пустой!» (Песни жатвы. Тетр. 1. М., 1915. С. 7; курсив мой. — К. К.). В ЛиС (с. 38) стихотворение опубликовано под заглавием «Раздумье», а стих 2 имеет вариант: «В бег дней с их гордой суетой».
18 У Иванова (РЛ-ХХ, с. 304–305) стих 3 «Твое томленье не от праха!» в первой публикации имеет вариант: «Твоя тревога не от праха», а стих последней строфы «Цветет в мирах как сон, как дрожь» идентичен первой публикации (День печати. Клич. М., 1915. С. 19; курсив мой. — К. К.), тогда как в сборнике он имеет вариант: «Цветет в тебе как сон и дрожь» (ЛиС, с. 40). В то же время в первой публикации нет процитированного Ивановым четверостишия: «И пусть свершенье яви шумной — / Лишь тлен, но Вечность — грань его, / И в ней твой разум многодумный / И воля сердца твоего». Оно имеется в ЛиС (с. 40), но тоже с небольшими вариантами: «Лишь плен, но вечность — грань его» и «И смута сердца твоего».
19 В первой публикации оно имеет другое название — «Вечерняя песня» (Современник. 1915. № 1. С. 3) и ряд опечаток, но стих 12 идентичен стиху в цитате Иванова (РЛ-ХХ, с. 307) «Как равновесное зерно» (только без выделения курсивом), а в сборнике стихотворение, как у Иванова, под названием «Чудом тени», но с рядом вариантов (стих 12: «Как полновесное зерно», а стих 18 вместо: «Все ослепленье дольних слез» — «Всю боль и горечь дольних слез» (ЛиС, с. 33)).
20 Выписки из стихотворения «Море и Капля» с большим количеством вариантов сохранились в черновиках статьи (ИРЛИ. Ф. 607. № 155. Л. 33); в основном тексте встречается образ «мир Голгофы» из этого стихотворения (РЛ-ХХ, с. 309). Стихотворение «Верую» (опубл.: Весенний салон поэтов. М., 1918) цитируется в основном тексте статьи (РЛ-ХХ, с. 306).
21 Их знакомство произошло в марте 1904 года в издательстве «Скорпион» (см.: Богомолов Н. А. Вячеслав Иванов в 1903–1907 годах: Документальные хроники. М., 2009. С. 103; см. также: Богомолов Н. А. Сопряжение далековатых. О Вячеславе Иванове и Владиславе Ходасевиче. М., 2011. С. 96).
22 См.: Дауётите В. Юргис Балтрушайтис: Монографический очерк. Вильнюс, 1983. С. 264–265.
23 Об этом см. подробнее: Котрелев Н. Из переписки Юргиса Балтрушайтиса с Вяч. Ивановым и Одоардо Кампа. — Манифест московского «Lo studio italiano», составленный Юргисом Балтрушайтисом // Котрелев Н. За 50 лет. Избр. труды: В 2 кн. М., 2023. Кн. 1. С. 506–534 (совм. с А. И. Демьяновой).
24 Иванов Вяч. Собр. соч. Брюссель, 1979. [Т.] III. С. 528–529. Позже, в 1918 году, Балтрушайтис также посвятил Вяч. Иванову цикл из четырех стихотворений: «Вячеславу Иванову в Красной Поляне» (ЛиС, с. 201–202).
25 Иванова Л. Воспоминания. Книга об отце. М., 1992. С. 56–57.
26 Об этом см. подробнее в указ. работе: Котрелев Н. Из переписки Юргиса Балтрушайтиса с Вяч. Ивановым и Одоардо Кампа. С. 507–509.
27 Имеется в виду неофициальная вторая жена Т. Ф. Шлёцер.
28 Цит. по: Обатнин Г. В. «Φιλία» Вяч. Иванова как ракурс к биографии // Вяч. Иванов. Pro et contra: Антология. СПб., 2016. Т. 2. С. 844.
29 Цит. по: Обатнин Г. В. Запись Вячеслава Иванова о системе Э. Гуссерля // Вячеслав Иванов. Исследования и материалы. М., 2018. Вып. 3. С. 440. Исчерпывающий свод архивных материалов об отношениях двух поэтов будет сделан Г. В. Обатниным в историко-литературном комментарии к статье «Юргис Балтрушайтис как лирический поэт» в ожидаемом томе академического собрания сочинений Вяч. Иванова.
30 См. эту оценку в письме Балтрушайтиса Иванову от 14 и 16 июня 1915 года (Котрелев Н. Из переписки Юргиса Балтрушайтиса с Вяч. Ивановым и Одоардо Кампа. С. 514, 516).
31 Там же. С. 520.
32 В письме от 16 июля 1915 года (Там же. С. 517). В примечаниях к этому месту письма Н. В. Котрелев отмечает: «О каких стихах идет речь — не знаю» (Там же. С. 518, прим. 7). Можно предположить, что речь идет об упомянутых нами текстах стихотворений из будущего сборника «Лилия и Серп», которые Иванов использовал в статье.
33 Не касайся моих чертежей (лат.). Название стихотворения Балтрушайтиса, в котором использовано крылатое выражение, по преданию принадлежащее Архимеду.
34 Указаны страницы из сборника: Балтрушайтис Ю. Земные Ступени. М., 1911. Далее ссылки на это издание приводятся сокращенно: ЗС, с указанием номера страницы.
35 Первая строчка из стихотворения «Аккорды» (ЗС, с. 77).
36 Здесь и далее до строки «Призыв 87» перечислены названия стихотворений с указанием страниц по сборнику «Земные Ступени».
37 Строка стихотворения «Молись тому…» (ЗС, с. 62).
38 Имя «Микеланджело», как явствует из статьи Иванова (см. далее, с. 188), означает влияние его творчества на поэзию Балтрушайтиса этого четвертого периода («забвения»).
39 См. строки в третьем стихотворении цикла «Вечерние песни»: «С просветленною тоскою / В дали звездные гляжу…» (ЗС, с. 102).
40 «Cлавься, морская звезда» (лат.) — начальные слова католического гимна, использованные в названии стихотворения (ЗC, c. 47).
41 Имеется в виду стихотворение «Море и капля» (ЛиС, с. 39), датированное 20 декабря 1914 года; см. цитаты из него ниже. Ср. также: «Дремлет каплей в океане…» («Ступени», ЗС, с. 76); «У рассветной двери, / В песне о просторе, / Славлю в равной мере / Капельку и море…» («Аккорды» из сб.: Балтрушайтис Ю. Горная Тропа. М., 1912. С. 95; далее ссылки на это издание приводятся в тексте сокращенно: ГТ, с указанием номера страницы).
42 Из стихотворения «Элегия» (ЗС, с. 117).
43 Увидеть мир в песчинке (англ.). Цитата из стихотворения Уильяма Блэйка «Предзнаменование невинности» («Auguries of Innocence»), которая служит одним из эпиграфов к первой части сборника «Горная Тропа».
44 ЗС, с. 123–124.
45 Здесь и далее цифры после названия стихотворений — страницы в сборнике «Горная Тропа».
46 Восьмая и двенадцатая строки из указанного стихотворения «Пробуждение».
47 ГТ, с. 135–136.
48 Из стихотворения «Раздумье» («Проходит день, и глухо сердце бьется…») (ГТ, с. 141–142).
49 Образ озимого зерна встречается в стихотворениях «Раздумье» (1913, ЛиС, с. 64) и «С верой в груди упорной…» (б/д, ЛиС, с. 140).
50 Название одноименного стихотворения в сборнике «Горная Тропа».
51 ГТ, с. 11. См. ниже вписанную цифру 11.
52 Возможно, образ восходит к стихам: «Горе! Чем-то сердце встретит / Бедность новой тишины?» («Охота», ГТ, с. 116). См. эту цитату в основном тексте, РЛ-ХХ, с. 309.
53 ГТ, с. 123.
54 Вероятно, речь идет о стихотворении под этим названием (ГТ, с. 123–124). Под этим же названием имеется стихотворение в сборнике «Лилия и Серп» (ЛиС, с. 81).
55 Тогда мы вышли, чтобы видеть звезды (ит.). Цитата из «Божественной комедии» Данте (последний стих XXXIV песни «Ада»). Один из эпиграфов ко второй части «Горной Тропы».
56 ГТ, с. 51–52.
57 Возможно, речь идет о стихотворении «Возврат», которое в «Горной Тропе» следует сразу за стихотворением «Дым».
58 Восьмой стих из стихотворения «Напутствие» (ЛиС, с. 40).
59 Последние строки из стихотворения «Круг вековечный» (ГТ, с. 20).
60 «Сиротство» и «В пути» — названия стихотворений (ЗС, с. 165–166, 123–124). «Жертвенный дым» — образ из стихотворения «Дым» (ГТ, с. 52). Позже Балтрушайтис дал такое название сборнику стихотворений (1942), написанных на литовском языке, «Aukuro Dumai».
61 Первые строки стихотворения 1904 года: «Вся мысль моя — тоска по тайне звездной…», написанного в 1904 году и взятого эпиграфом к сборнику «Земные Ступени» (с. 7).
62 Вероятно, это дата включения стихотворения-эпиграфа в «Земные Ступени».
63 Пер.: «„По стихам Б. чувствуется, что он истинный сын Литвы, один из тех молчаливых, суровых созданий, которые с зачастую трагической искренностью относятся к себе и другим, неподатливых в самой своей сокровенной основе… У Б. страдания, которые приносит мир-тюрьма, заставляют замолчать любое личное страдание… Но не только страданием питаются песни Б.: как всякое истинно мистическое сердце, он через свою Мировую скорбь приходит к состоянию героического духа, в основе которого лежит надежда“. Кюхн-Амендола. Земные Ступени, перевод. Флоренция, 1912. С. 9» (ит.).
64 Балтрушайтис Ю. Дерево в огне. Вильнюс, 1983. С. 280, 282, 284, 285 (прим. Ю. Тумялиса).
65 Там же. С. 281 (прим. Ю. Тумялиса).
66 Так, вариант первых четырех строк стихотворения «С верой в груди упорной…» (ЛиС, с. 140), датированного Ю. Тумялисом 1925 годом (Балтрушайтис Ю. Дерево в огне. С. 297), был послан в открытке Балтрушайтиса к Вяч. Иванову из Тулы 2 сентября 1914 года («Сердце да верит упорно / Яви раскрывшимся снам — / Сейте озимые зерна! / Вскиньте ступени во храм») (Котрелев Н. Из переписки Юргиса Балтрушайтиса с Вяч. Ивановым и Одоардо Кампа. С. 512). См. образ «озимых зерен» из этого стихотворения в автографе Балтрушайтиса на с. 187 (и там же прим. 49), а также в процитированной выше второй главе статьи Иванова (с. 189).
67 См. об этом в прим. Ю. Тумялиса к стихотворению «Noli tangere circulos meos» (Балтрушайтис Ю. Дерево в огне. С. 280). Из-за «недосягаемости» архива Балтрушайтиса (см. об этом: Котрелев Н. Из переписки Юргиса Балтрушайтиса с Вяч. Ивановым и Одоардо Кампа. С. 506) понять причины такой оценки пока не представляется возможным.
About the authors
Ksenia A. Kumpan
Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom), Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: kumpan1947@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-5975-1042
Junior Researcher
Russian Federation, St. PetersburgReferences
- Baltrushaitis Iu. Derevo v ogne: Stikhi / Sost. i prim. Iu. Tumialisa. Vil’nius, 1983.
- Bogomolov N. A. Sopriazhenie dalekovatykh. O Viacheslave Ivanove i Vladislave Khodaseviche. M., 2011.
- Bogomolov N. A. Viacheslav Ivanov v 1903–1907 godakh: Dokumental’nye khroniki. M., 2009.
- Dauëtite V. Iurgis Baltrushaitis: Monograficheskii ocherk. Vil’nius, 1983.
- Ivanov Viach. Sobr. soch. Briussel’, 1979. [T.] III.
- Ivanov Viach. Sobr. soch.: Po Zvezdam. Opyty filosofskie, kriticheskie i esteticheskie: Stat’i i aforizmy. SPb., 2018. Kn. 2. Primechaniia.
- Ivanova L. Vospominaniia. Kniga ob ottse. M., 1992.
- Kotrelev N. Iz perepiski Iurgisa Baltrushaitisa s Viach. Ivanovym i Odoardo Kampa. — Manifest moskovskogo «Lo studio italiano», sostavlennyi Iurgisom Baltrushaitisom // Kotrelev N. Za 50 let: Izbr. trudy: V 2 kn. M., 2023. Kn. 1 (sovm. s A. I. Dem’ianovoi).
- Kumpan K. A. Nad rukopisiami statei Viach. Ivanova. Chast’ 1: «„Revizor“ Gogolia i komediia Aristofana» // Russkaia literatura. 2023. № 4.
- Lit. nasledstvo. 1976. T. 85.
- Obatnin G. V. «Φιλία» Viach. Ivanova kak rakurs k biografii // Viach. Ivanov. Pro et contra. Antologiia. SPb., 2016. T. 2.
- Obatnin G. V. Zapis’ Viacheslava Ivanova o sisteme E. Gusserlia // Viacheslav Ivanov. Issledovaniia i materialy. M., 2018. Vyp. 3.
- Perepiska Viach. Ivanova s S. A. Vengerovym / Publ. O. A. Kuznetsovoi // Ezhegodnik Rukopisnogo otdela Pushkinskogo Doma na 1990 god. SPb., 1993.