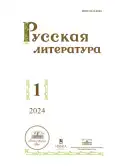The modernists in search of uncertainty: towards a typology of quasi detective story
- Authors: Levina-Parker M., Levin M.
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 191-211
- Section: Публикации и сообщения
- URL: https://journal-vniispk.ru/0131-6095/article/view/257541
- DOI: https://doi.org/10.31860/0131-6095-2024-1-191-211
- ID: 257541
Full Text
Abstract
It has been noted long ago that Modernist writings often mimic some methods of a detective story. An investigation of the works by Bely, Proust, Joyce, Platonov and Nabokov reveals a conscientious pattern of playing with riddles, which is common for all of these quite dissimilar authors; this is the basis of a particular mode of narration which we call a detective story modified, or a quasi detective story. Their devices for creating riddles are also similar and often identical, such as lack of openness, passing of the important for unimportant, narrative inversion, obscure answers and invisible questions. Also common are ways of providing keys, namely, incongruities between elements of the text give the reader a hint that he has been fooled. Those are greatly diverse, from a simple incompatibility of statements to a hidden contradiction between various dimensions of depicting the same subject (e. g. a general view is in conflict with details).
Full Text
Суть модернизма, по единодушному мнению исследователей, в том, что способ рассказывания обретает статус самоценного аспекта произведения. Выражается это прежде всего в принципиальном расширении и усложнении игрового пространства текста. Общим свойством модернистской литературы является новое по сравнению с классикой соотношение между ясным и неясным. В живописи уход от реалистического изображения нередко объясняют тем, что никакой рисовальщик не может соперничать с фотоаппаратом. В литературе и музыке аналогичное объяснение не имело бы смысла, поскольку нет аналогии фотоаппарата, но тренд тот же — к усложнению и игровой неоднозначности. В литературе игра в неясность, многозначность, туманность ощутимо усиливается и становится привычным делом. Многие игры можно назвать типично модернистскими; почти все они практиковались и более ранними авторами, но обычно в классически скромных масштабах. В их числе различные виды повествовательной инверсии и иные деформации связей между частями произведения. Связи эти у модернистов имеют тенденцию быть спрятанными, и чтобы их разглядеть, нужны поиски с перемещениями по тексту (назад — вперед — назад), внимание к деталям и целенаправленные расследования.
Модернистское повествование нередко строится, по меньшей мере отчасти, как модифицированный (или квази-) детектив. Так мы называем текст, приглашающий разгадывать не преступление, а значение авторского высказывания. Разгадка позволяет установить невидимые связи и уточнить смысл повествуемого.1
Многие приемы служат тому, чтобы нести информацию и вместе с тем затруднять ее усвоение. Важнейшим аспектом этой игры является создание неясностей, часто схожих с тайнами детектива. Возможно, первым прямо обратил на это внимание К. Проффер, когда отметил, что «Лолита» и некоторые другие набоковские вещи «кое в чем строятся как детектив».2 Несколько позже Ю. И. Левин делился сходным наблюдением о других авторах: «…Борхес существенно использует для своих целей технику детектива (как Достоевский — для своих)».3 За полвека до Проффера Б. В. Томашевский отмечал, что повествование может быть скрытным и обманчивым, как и то, что это свойственно детективному жанру: «Иногда мы узнаем ситуацию по побочным намекам, и связное впечатление создается лишь в результате собирания таких как бы попутно оброненных замечаний»; «Аксессуары и эпизоды могут вводиться для отвлечения внимания читателя от истинной ситуации. Это очень часто фигурирует в детективных (сыскных) новеллах…».4 Интересно, что он не называет это свойством исключительно детективной литературы, но не указывает на тот факт, что модернисты тоже взяли на вооружение такую повествовательную стратегию.
Н. Г. Мельников употребляет термин «квазидетектив» по отношению к В. Набокову: «Квазидетективная повествовательная стратегия нагляднее всего представлена в новелле 1930 года „Соглядатай“». Разбирая отличия набоковского квазидетектива от традиционного детектива, Мельников сосредоточивается на разгадке персоны Смурова и его идентичности с повествователем-протагонистом: «Лишь постепенно, через непрямые подсказки, разбросанные хитрым автором, начинает внимательный читатель осознавать, что Смуров и „холодный, упорный, неутомимый соглядатай“, который повсюду следует за ним, это одно и то же лицо».5
А. А. Долинин не использует термин «квазидетектив», но настаивает на том, что произведения Набокова полны загадок, для разгадывания которых требуются незаурядные усилия. Возводя творчество Набокова к эстетике русского и зарубежного модернизма, Долинин отмечает, что Набоков «не тычет читателя носом — смотри, читатель, о чем я хочу тебе сказать! — а прячет самое важное. И от читателя требуется особое усилие, чтобы это важное раскрыть». Далее он справедливо констатирует: «Таких задачек, загадок, ребусов у Набокова видимо-невидимо <…> Эта загадка может быть на разных уровнях. Она может быть загадкой словесной, она может быть загадкой образной, это может быть загадка на уровне сюжета, это может быть загадка рассказчика…».6
Н. В. Киреева применяет законы детективного жанра к «Лолите» Набокова. Она анализирует обращение с детективными формулами на сюжетном уровне — в загадке того, кого же убьет Гумберт. Она также показывает, как фигура Гумберта разлагается на персонажей детектива: сексуального маньяка, убийцу, жертву, сыщика.7
К. Коннелли указывает на то, что не только Набоков, но и такие модернисты, как У. Фолкнер или Г. Стайн, используют в своих произведениях элементы детектива. В частности, говорит о модернистских текстах Набокова с прививкой традиционного детектива: «Набоков совсем не думал писать детективный роман в чистом виде; его романы ясно принадлежат к модернистской литературе. Тем не менее использование им детективного аппарата показывает, что он может служить намного более широким целям».8
М. А. Можейко указывает на отличия модернистского детектива от классического: «В то время как классический детектив представлял собой своего рода puzzle, где модули мозаики достаточно было правильно разместить друг относительно друга, чтобы сложилась целостная картина событий, то в рамках модернистского детектива детали общей картины не только разрознены и перемешаны, но еще и каждая из них изначально дана читателю и героям в неправильном фокусе…».9
Как видим, детективо-подобные построения модернистов не укрылись от внимания исследователей. Вместе с тем это внимание остается ограниченным, тема формулируется не слишком отчетливо, детального анализа конкретных произведений мало, типы и приемы не выделены.
Основные приметы квазидетектива
В традиционном детективе автор в финале сообщает все важное о преступлении: кто совершил, как, почему, как заметал следы, кто и почему не совершал этого преступления — и объясняет, из каких фактов это следует. В квазидетективе подобные разъяснения могут присутствовать или отсутствовать, загадка может быть видимой или невидимой, может иметь разгадку или не иметь.
Типы квазидетектива варьируются от не очень сложных до сверхсложных. Разные авторы тяготеют к разным типам, но мы не знаем автора, который бы придерживался строго одного. Каждый создает и менее, и более сложные тайны и загадки — то одним способом, то другим. Андрей Белый тяготеет к самым сложным построениям и обычно не сообщает, в чем разгадка, да еще и не дает ясной постановки загадки; к того же рода сложностям склонен А. П. Платонов. Эквивалентом был бы рассказ, в котором Конан Дойл не раскрыл бы под конец, кто и по каким мотивам совершил убийство, не объяснил бы, по каким уликам об этом можно догадаться, да еще и не сообщил бы, что обнаруженный труп принадлежал убитому, а не мирно скончавшемуся джентльмену. Не столь крайнее направление квазидетектива представлено такими авторами, как М. Пруст, Дж. Джойс и Набоков, которые предпочитают в итоге сами прояснить неясность.10 Л. Стерн и Н. В. Гоголь, предтечи модернизма, ближе ко второму типу (хотя, повторим, каждый занимается и тем и другим, только в разной мере).
В любом произведении периодически возникает какой-нибудь вопрос — и текст либо дает на него внятный ответ, либо дает материал для вычисления ответа, либо не дает ни того ни другого. Традиционно взаимодействие вопроса с ответом создается двумя повествующими:11 первое сообщает, что что-то случилось — второе скоро поясняет, что именно. Например, сообщается, что персонаж стал неузнаваемым (необычайно грустным, необычайно радостным) — в следующем абзаце рассказывается, что у него умер сын или, наоборот, нашелся сын. На вопрос сразу дается ответ, и это создает понятное повествуемое. В квазидетективном построении ответ дается не там, где возникает вопрос, а в усложненном варианте нет прямого, а то и вовсе никакого ответа. Это значит, что измерений квазидетектива минимум втрое больше, чем традиционного детектива; в ряде случаев квазидетектив намного сложнее.
Мы предлагали обоснование понятия квазидетектива и анализ ряда его примеров в наших работах о «Петербурге» Белого и «Чевенгуре» Платонова.12 В развитие тех тезисов ниже дается краткий анализ замеченных нами типов неясностей и обобщение приемов их создания в произведениях Белого, Пруста, Джойса, Платонова и Набокова. К каждому из них приложимы слова набоковского рассказчика: «…играя в некую игру собственного изобретения, не посвящая партнеров в ее правила».13
Умолчания и невидимые сообщения
Один из распространенных приемов — неясные повествующие, создающие неполные изображения (недосказанность, умолчания). Стерн ясно заявляет, что истинному писателю не подобает рассказывать все, достаточно половины: «Самое подлинное уважение, которое вы можете проявить к читательскому пониманию, в том, чтобы половину дела по-дружески отдать ему и его воображению…».14 Это краткая формулировка всей идеологии умолчаний: уважай читателя, оставляй кое-что его воображению. И сам я, добавляет Тристрам, делаю все, чтобы его воображение работало столько же, сколько мое. Этот принцип берут на вооружение модернисты XX века, создающие изображения еще более неполные, чем Стерн. Некоторые отчетливо формулируют тот же эстетический принцип, например, Белый: «…понятно, когда волнует, как музыка; и „непонятно“, если пересказ, отняв музыку, становится слишком ясен, обидно ясен!»15 Набоков воспроизводит не только общий смысл, но и все ключевые понятия Стерна (автор, читатель, воображение): «Поскольку художник использовал свое воображение в создании книги, то было бы естественно и справедливо, чтобы потребитель книги тоже использовал свое воображение».16
Любопытным частным случаем умолчания является лукавый способ представления героя читателю. Белый в своем «Петербурге» представляет Лихутина дважды — и второй раз так, словно это первый раз. Нужно внимательно перечитать два отрезка, чтобы понять, что в обоих речь об одном и том же герое. Белый поначалу обманчиво говорит и о темпераменте Лихутина, делая из него статиста, что затем наглядно опровергается.17
Как отмечалось, прообразы многих приемов обнаруживаются у предшественников модернизма, и не только у таких родственных модернизму душ, как Стерн или Гоголь. В «Идиоте» Евгения Павловича тоже представляют не однажды и тоже не всегда одинаково. Первое знакомство: «Это был некто Евгений Павлович Р., человек еще молодой, лет двадцати восьми, флигель-адъютант, писаный красавец собой, „знатного рода“, человек остроумный, блестящий, „новый“, „чрезмерного образования“ и — какого-то уж слишком неслыханного богатства. <…> Одна только слава за ним была несколько щекотливая: несколько связей и, как уверяли, „побед“ над какими-то несчастными сердцами. Увидев Аглаю, он стал необыкновенно усидчив в доме Епанчиных».18
Это все, что о персонаже на тот момент сообщается; никаких его ни поступков, ни слов, ничего особо запоминающегося. Правда, последняя фраза в цитате выше прозрачно намекает на возбуждающую тему сватовства, но на следующих 55 страницах она не получает ни малейшего развития, Евгений Павлович Р. вообще ни разу не поминается, словно куда уехал или вовсе прекратил существование — этого достаточно, чтобы намек на тему был подзабыт, а имя претендента забыто начисто. Трудно представить читателя, который — после столь неглубокого знакомства с героем и долгого его отсутствия — не поймет слова матери семейства «Евгений Павлыч приедет» как упоминание нового лица. Затем это имя исчезает еще на десяток страниц. Затем появляется «один молодой человек», и его читателю представляют как незнакомца и, как положено при первом знакомстве, следует его портрет: «…лет двадцати восьми, высокий, стройный, с прекрасным и умным лицом…» и т. д. Точно совпадает с первым его представлением только возраст, «лет двадцати восьми», остальное сопоставлению не поддается. Платье штатское — а по первому представлению это был военный. И имя он носит Евгения Павловича Радомского — а не Евгения Павловича Р.19 Только при перечитывании можно понять, что это один и тот же человек. В дальнейшем он становится важным персонажем, с которым, однако, и дальше много неясного; скажем, его характеристика как остроумного ничем ясно не подтверждается; в каких он отношениях с Настасьей Филипповной, непонятно, не совсем даже понятно, знакомы ли они. В той же книге трудно узнать Ипполита, заявляющегося с другими нигилистами для устройства скандала Мышкину. До того о нем говорится в двух местах, но совсем вскользь, как о приятеле Коли, заочном персонаже, за 120 и 70 страниц до сцены у Мышкина, поэтому вспомнить его имя или то, что он сын капитанши, представляется нереальным.
У Белого и других модернистов деформация связей между составляющими повествования становится правилом и важнейшим аспектом поэтики.
Частным случаем неполноценного знакомства с персонажем и создания при этом скромной, никого не волнующей загадки является утаивание его полного имени. В «Петербурге» Вергефден впервые именуется по имени-отчеству лишь при прощании с ним; почти до конца неизвестно и имя Липпанченко, одна фамилия. Набоковский Лужин до последней страницы остается Лужиным, и лишь после того, как его не стало, у него появляется имя-отчество. У Стерна не имеет имени отец Тристрама Шенди, и лишь в конце предпоследней книги появляется его подпись под письмом брату: «Walter Shandy».20 Надо сказать, только Стерн создает неувязку, наводящую на вопрос о имени: его брат раз за разом обращается к нему по фамилии, «brother Shandy». Выглядит противоестественно, тем более что отец к дяде обращается по имени: «brother Toby». Как если бы один брат другому говорил: «Здравствуй, брат Алексей!», а тот отвечал бы: «Здорово, брат Петров!» Что за странное обращение Петрова к Петрову? Ни Белый, ни Набоков ничего не делают, чтобы читатель обратил внимание на отсутствие имени; именование героя строго по фамилии, ничем, в отличие от построения Стерна, не подкрепленное, не составляет у них полноценной игры в таинственность. Чему же тогда это служит?
Во всех случаях устойчивое употребление фамилии без имени, завершающееся появлением имени, стимулирует в читателе ощущение неполной посвященности в дела — на фоне безграничного знания рассказчика, который предстает информированным обо всем во всех деталях. Это работает на общую задачу создания ауры космической бесконечности мира произведения. Кроме того, в случае Липпанченко неожиданное появление имени добавляет красок картине домашней его жизни: даже и у этого кухмистера есть что-то личное, интимное, для кого-то он «Коленька». Случай Лужина из той же категории, при всей разнице в деталях. Он — знаменитость, всем известна его фамилия. Почти все знают, что Алехин был великим шахматистом, но мало кто знает его отчество. Лужин, казалось бы, для всех только Лужин, даже жена зовет его «Лужин», но в конце выясняется, что он еще и Александр Иванович — и это как бы приоткрывает иную грань героя. Такое появление имени менее очевидно мотивировано и более неожиданно, чем в случае Липпанченко. Неожиданно и то, что Набоков нарекает Лужина тем же именем, что Белый нарекает Дудкина, который тоже сходит с ума и проливает кровь (но не свою).
Не менее важным, чем умолчания, аспектом скрытности является манера давать информацию так, чтобы она проскакивала незаметно. Распространенный прием — упомянуть ту или иную деталь скороговоркой и не к месту, в разгар разговора на более увлекательную тему, как ненужное отступление, которое хочется пропустить. При этих двух условиях — читатель увлечен другой темой и сообщение не маркировано в тексте — даже сообщения простые и внятные могут ускользнуть от его внимания. Более мощные сигналы о другом подавляют и делают труднозаметными сигналы, подлежащие сокрытию. Если читателя рассматривать, как это нередко делается, в качестве получателя информации, т. е. уподобить приемнику, то автор занимается тем, что настраивает приемник не на ту волну, на которой передает сообщение.21
Особенно изощренно, последовательно и эффективно такой прием применяется Белым. Но то же делают, каждый на свой лад, и другие модернисты.
Задержка ясности: ответ откладывается
Наименее радикальным способом разлучения ответа с вопросом является откладывание ответа. Если между повествующим, создающим вопрос, и повествующим, дающим ответ, пролегает отрезок существенной длины, это на время создает неясное, неполное повествуемое, которое лишь после, нередко через десятки или сотни страниц, делается понятным. Это прием создания тайны, которая затем раскрывается автором — сочетание умолчания, вызывающего вопрос, с задержкой прояснения.
Грандиозный пример такой игры — триллер убийства отца в «Братьях Карамазовых». Автор попросту скрывает важнейшие детали, в особенности важнейшие поступки Дмитрия и Смердякова — затем дает ответы на возникшие вопросы. Модернисты этим приемом пользуются значительно чаще и разнообразнее, чем классики.
В «Комбре» Пруста мсье Вентейль начинает избегать людей, все время проводит на могиле жены, быстро стареет, умирает. У него горе, но вопрос — какое. Есть намеки на дочь, у которой подруга дурной репутации, живущая у них в доме, но это не назовешь ясным ответом. Возможно, это любовница дочери, а быть может, это любовница самого Вентейля, а может, их обоих, ведь она «занимается музыкой» и с ней, и с ним, и понятно, что «музыка» — эвфемизм чего-то, что называть вслух, вероятно, не принято. Приходится гадать. Не исключено, что беда не сексуального характера, а иного, может, это дурная мачеха. Вопрос подвешивается на десяток страниц, до эпизода, который проясняет, что это лесбийская любовь22 — и лишь после этого, при «чтении назад», намеки становятся понятными.
С Вентейлем связана еще одна неясность, прояснение которой откладывается: какое отношение он имеет к музыке? Сгорать от любопытства по этому поводу читатель, скорее всего, не станет, это один из тех прустовских вопросов, которые замечаются лишь особыми читателями. В числе последних Набоков: «Вентейля в этом провинциальном городе все принимают за невнятного крючка, балующегося музыкой, и ни Сван, ни мальчик Марсель не сознают, что на самом деле его музыка пользуется огромной популярностью в Париже».23 Но о популярности его музыки рассказывается в другой уже повести, с другими героями и в другом городе,24 и заметить связь музыки, звучащей в столице и в душе Свана, со странным провинциалом на периферии первой повести — при обычном чтении невероятно трудно.
В начале «Петербурга» Белого (увидевшего свет в том же году, что первая книга прустовского семикнижия) упоминается обещание, мысль о котором сыну сенатора явно неприятна — это создает вопрос: что же он такое наобещал? Затем наше любопытство подпитывается намеками непрозрачного свойства, пока не дается, около середины книги, ответ в виде письма Неизвестного, уведомляющего сына сенатора, что пришло время выполнить обещание убить отца.25 Это игра более серьезная, чем у Пруста: ответ задерживается намного дольше, а главное, это важнейший вопрос всего романа и выход на подлинную его завязку. Суть же приема та же самая. В «Петербурге» это один из немногих вопросов, на которые дается прямой ответ; Белый, как правило, не откладывает ответ, а скрывает. Чтобы найти ответ, исследователю нужно не терпение, а умение решить трудную задачу на основании сопоставления спрятанных в тексте деталей и деталек. Все линии «Петербурга» строятся как скрытные детективы без ясных ответов — и без ясных вопросов.
В «Улиссе» основная игра в скрытность ведется с вопросом неверности жены Блума. Возникает вопрос вскоре после нашего знакомства с Блумом, но ясный ответ оттягивается до заключительной главы. Ряд эпизодов дает герою и читателю серьезные основания для подозрений, вплоть до того, что, укладываясь в конце предпоследней главы в супружескую постель, Блум ощущает, что в ней побывал другой мужчина. Он чувствует «присутствие человеческого тела, женского, ее, отпечаток человеческого тела, мужского, не его».26 Как грустно, заметим, отвлекаясь от своей темы, и в то же время как красиво сказано! В романе это значит куда больше, чем значило бы в судебном разбирательстве, но все же и в романе это свидетельство не того, что жена совершила, а лишь того, что муж подозревает. Это все еще не однозначный ответ — но таковой читатель получает очень скоро (Польди Блум такового не получает, но ему он не нужен, он полностью доверяет своим ощущениям).
Набоков приемом задержки ответа пользуется значительно чаще, чем Белый или Платонов, и даже чаще, чем Пруст или Джойс. Это один из основных его композиционных приемов: создать неясность и через некоторое время внести ясность. В «Даре» у Федора роман с Зиной, с которой читателя долго не знакомят, и в то же время он общается с дочкой хозяйки по имени Аида, с которой читателя знакомят намного раньше, а как одно с другим соотносится — на какое-то время остается неясным. Потом выясняется, что Зина и есть дочка хозяйки, просто отчим иногда называет ее Аидой — это модель задержки ответа, обычная и для Пруста, и для Набокова. В «Лолите» та же модель заметна в нескольких важных вопросах, нагляднее всего в вопросе о том, с кем сбежала Лолита. Ответ в таких случаях надолго откладывается, но в конце концов прямо дается автором.
Инверсия вопроса и ответа: ответ не виден
В романах о событиях нередко повествуется не по порядку, без прямого на то указания. Но это лишь один из вариантов перевернутой связи, повествовательной инверсии, играющей очень заметную роль в создании туманного повествования вообще и квазидетектива в частности. Другой вариант, далеко не такой распространенный, как перестановка отрезков, составляет инверсия вопроса и ответа (неясности и прояснения): вместо привычной связи в духе «ставится вопрос — дается ответ», связь перевернутая: сначала ответ — потом вопрос. Прием применяется в «Войне и мире»: князь Андрей оставляет полк, уходящий от наступающих французов, чтобы заехать к своим — возникает вопрос, далеко ли от столбовой дороги до имения. Ответ же дается десятью страницами раньше — там, где вопрос еще не возникает, и потому ответ (три версты) не усваивается.27
Весьма похожим образом прием применяется в начале эпопеи Пруста. У сестер бабушки героя вдруг появляются имена; затем они несколько раз повторяются: Флора и Селин, Селин и Флора. Возникает вопрос о имени самой бабушки и ожидание, что имя скоро назовут, но его называют не здесь и не потом, а на несколько страниц раньше, в прямой речи другой двоюродной бабушки: «Батильда! Иди же сюда, чтобы твой муж не пил коньяк!»28 В этом месте вопрос еще не возникает, поэтому имя не усваивается, как расстояние у Л. Н. Толстого. Мешает усвоению и то, что имя помещено не в центр, а на периферию эпизода. Перед этим рассказывалось о привычке легкомысленной бабушки гулять под дождем, что вызывает большее любопытство, чем ее имя, а зов родственницы привлекает внимание к коньяку и тому факту, что она совершает донос на дедушку. Трудность восприятия, которая создается инверсией вопроса и ответа, усиливается приемом невидимого сообщения. Далее бабушка неизменно именуется бабушкой, имя не называется (хотя потом называется фамилия: Амеде — та же, что у дедушки29), словно бабушка обречена остаться навеки безымянной.
Радикальные черты прием обретает в «Петербурге» Белого. У Дудкина чемодан, «хранящий предметы самого ужасного содержания». Вопрос: что же это за предметы, содержания не ужасного, а самого ужасного? И однажды чемодан открывается — но не после возникновения вопроса, а за сто с лишним страниц до: «…из чемоданишка вынул оборванную писулю; и писулю Степке прочел…».30 Читатель запомнит писулю, но вряд ли свяжет ее с ужаснейшим содержанием чемодана, когда до него дойдет. А писулю запомнит как предмет содержания скорее мистического, чем самого ужасного. Все это делает усвоение тайны чемодана при обычном чтении делом практически безнадежным.
В другом эпизоде непонятна реплика и еще менее понятно пояснение в скобках: «— „Я… знаешь-тили“ (Аполлон Аполлонович и на этот раз ошибся в окончании слова)…»31 У любознательного читателя возникнет вопрос: а что значит «и на этот раз»? Ответ и на этот раз расположен за сотню страниц до вопроса, где сенатор сбивается с «знаете ли» на «знаешь ли».32 Заметить и так долго помнить это при обычном чтении немыслимо.
В «Лолите» есть инверсия вопроса и ответа, внешне очень похожая на приведенный пример из Толстого. Гумберт едет в летний лагерь за осиротевшей Лолитой и по пути останавливается в Паркингтоне — далеко ли еще оттуда до лагеря? Впечатление такое, что недалеко, но, оказывается, Паркингтон значительно ближе к дому, чем к лагерю, о чем незаметно сказано за 33 страницы до возникновения вопроса: «Джон Фарло <…> торговец спортивными товарами, с конторой в Паркингтоне, в сорока милях от нас…». Но Набоков недолго держит читателя в неведении: через 4 страницы сообщает, что до лагеря еще сотня миль, а затем сообщает, что на это ушло два с половиной часа.33 Набоков в данном случае менее скрытен, чем Толстой или Пруст, и несоизмеримо менее скрытен, чем Белый.
В «Даре» иная инверсия в данных о первой любви, ближе к Белому, чем к Толстому. Противоестественный порядок вопросов и ответов мешает читателю усвоить информацию там, где она есть, и подталкивает к поиску ответов там, где даются обманчивые подсказки. Постановка: «Зимой 1917 года она уехала в Новороссийск, — и только в Берлине я случайно узнал о ее страшной смерти». Тут два вопроса. Первый: «зимой 1917 года» — это в начале года или в конце? Второй: о какой «страшной смерти» речь? На оба отвечает периферийная реплика — вне контекста, в разговоре на другую тему, за 70 страниц до возникновения вопросов: «Продолжалось неполных два года <…> а погибла от сыпного тифа».34 Поскольку их роман начинался летом 1916 года, «неполных два года» означают, что уезжала она в декабре 1917-го. В воображаемом разговоре о литературе вдруг упоминается какая-то женщина, о которой читатель ничего знать не может, может даже не понять, чья это реплика — он, скорее всего, усвоит лишь то, что когда-то был какой-то роман, но едва ли будет помнить, сколько роман длился и от чего она умерла.
Задержка плюс инверсия
Задержка ответа означает развитие неясности (квазидетектива) вперед, от ранней стадии повествования, где создается вопрос, к стадии поздней, где наконец находится ответ. Инверсия вопроса и ответа означает движение назад, от позднего эпизода, который ставит вопрос, к раннему, в котором прячется ответ. По крайней мере в одном случае Пруст соединяет эти противоположности, без всякой борьбы между ними, без адаптации и вообще без видимого взаимодействия. Он просто делает и то и другое, раскрывает тайну и первым способом, и вторым, отдельно от первого. Рассмотрим по порядку.
В третьей повести первой книги периодически поминается мать любимой девочки мальчика, она же жена Свана — возникает вопрос, не та ли это дама, что была предметом безумной страсти Свана в предыдущей повести. По некоторым признакам скорее нет; в частности, в конце второй повести Сван излечивается от любви, и они расстаются; кроме того, о красоте его жены говорится в таких выражениях, что ждешь появления персонажей, лишившихся зрения от взгляда на нее, а прежняя содержанка столь ослепительной, кажется, не была; кроме того, упоминается Одетт — как женщина из прошлого Свана, без всякой связи с его нынешней женой. Все же о жене говорятся вещи, которые могли бы быть сказаны и об Одетт: мать мальчика ни за что бы не согласилась с ней знаться, у нее манеры искусной кокотки, она провоцирует мужчин. Однозначного ответа нет почти до самого конца, пока жена Свана не названа наконец по имени — и это имя той самой содержанки.35 Это прием задержки ответа в чистом виде.
Та же тайна раскрывается и в первой повести, в самом начале книги, когда сперва говорится о неприемлемости жены Свана для родителей мальчика, затем следует более конкретное, но вновь самое лаконичное сообщение о его жене: почти кокотка («presque une cocotte»).36 Это отвечает и на возникающий в третьей повести вопрос о жене Свана: та самая или другая? Получается, та самая. Но мимолетное упоминание о ней и ее сомнительной репутации трудно усвоить так, чтобы вспомнить через четыре сотни страниц. Вопросы тут возникают, но другие: что это за женщина и почему Сван женился на кокотке? Вопроса же о тождестве жены с предметом прежней страсти здесь возникнуть не может, потому что о страсти пока еще ничего не известно. Это в чистом виде инверсия вопроса и ответа.
Пруст дважды отвечает на один вопрос, двумя разными способами, из которых ни один не является простым, но все-таки с той разницей, что поздний нельзя не заметить, а ранний усвоить очень трудно. Возможно, автор делает это для создания разных эффектов для двух разных адресатов: вознаграждает терпение впервые читающего ясным ответом в конце — перечитывающему подтверждает тот же ответ в начале.
Вместе с тем и Пруст не всегда ясно отвечает на вопросы, включая вопросы, касающиеся той же женщины, Одетт де Креси.
В «Лолите» находим схожее в принципе дублирование ответа, но сделано это там намного сложнее. Важнейшая тайна романа — с кем сбежала Лолита. Тайна в итоге раскрывается рассказчиком. Зная, что это Куильти, можно вернуться к эпизодам до бегства и разглядеть в них следы злодея. К. Проффер блестяще показал ключи к Куильти во второй главе своей замечательной книги, ничего существенного добавить нельзя.37 Мы здесь хотим обратить внимание на то, что ключей этих достаточно, чтобы вычислить похитителя, хотя для этого надо быть Холмсом. Ключи даются до возникновения вопроса, с кем сбежала — это инверсия вопроса и ответа. Но ближе к концу Набоков еще и прямо говорит, что сбежала с Куильти. У него, как и у Пруста, сочетание инверсии с задержкой. Но Пруст при желании мог ограничиться инверсией, не давать прямого ответа, а Набоков так сделать не может, ибо тогда пришлось бы исключить из текста рассказ об убийстве. Правда, Набоков мог бы, сугубо гипотетически, сделать наоборот — ограничиться прямым запоздалым ответом, не давая ключей к установлению личности похитителя. Но, конечно, ни один автор не станет отказываться от интереснейшего детективного построения. Чего ради обеднять роман?
Повествовательная инверсия и ее роль в квазидетективе
Композиционные составляющие произведения так же могут следовать в непривычном порядке, как слова в предложении. Это тот же принцип инверсии, с той разницей, что перестановке подвергаются не означающие, а более обширные повествующие.
Самым распространенным примером нарушения порядка повествования является рассказ о событиях не в том порядке, в каком они происходят — хронологическая инверсия (не открытый экскурс в прошлое, а необъявленное нарушение последовательности). Это эффективный способ создания путаницы, хотя не всеобщий, например, Набоков редко им пользуется, Джойс еще реже. В «Петербурге» такого рода инверсии многочисленны, исключительно скрытны и практикуются в хитрой комбинации с другими приемами. О выходке красного домино в подъезде дома Софьи рассказывается в конце первой главы, как бы в завершение событий первого дня (некоторые исследователи так и считают) — но это происходит во второй день, как показывает сопоставление ряда деталей.38 У Пруста Сван женат в первой повести, но еще не женат во второй — перестановка вполне откровенная.
Хронологическая инверсия — лишь один из вариантов перевернутой связи. Мы видели примеры нетрадиционного порядка вопросов и ответов — важного приема создания неясностей и туманностей. Другие повествующие некоторые авторы тоже переставляют.
Одно из нарушений привычного порядка повествования можно назвать инверсией информационной, частным случаем которой является инверсия вопроса и ответа. В традиционной книге сказанное в первой половине помогает понять вторую половину. У модернистов нередко наоборот: сказанное в первой половине можно понять только после чтения второй половины, где дается (совсем не обязательно открыто) ключ. Примеры и этого рода находятся у Белого и у Набокова. В «Петербурге» лишь во второй половине есть материал для разгадки символического значения «расширения» — и только тогда, читая назад, можно понять, что расширение зрачков или сердца символизирует расширение газов бомбы, т. е. взрыв и убийство.39
Человек, перечитывающий «Дар» (или листающий назад), должен обнаружить в начальной части имена, которые становятся значимыми только после перехода к открытому повествованию о любви Федора и Зины, в их числе и имя самой Зины. Точно как Белый в «Петербурге», Набоков дает во второй половине информацию, нужную для понимания эпизодов в первой половине; соответствующие смыслы проясняются от конца к началу. Имя «Зина Мерц» упоминается где-то за сотню страниц до того, как Зина становится персонажем, в эпизоде, где знакомый художник говорит главному герою: «…приходите <…> бывает много молодежи, Полонская, братья Шидловские, Зина Мерц…» В этом месте повествование ведется от первого лица, и герой, рассказывающий о своем довольно отдаленном прошлом, сообщает читателю: «Имена эти мне были неведомы…».40 Тем не менее имена он называет — т. е. пару лет спустя помнит. Просто не верится, что можно запомнить так твердо и так надолго вскользь упомянутые имена незнакомых людей — в этом мы вправе заподозрить еще один маленький обманчик. Вряд ли имена эти запомнит и читатель, если только у него не абсолютная память.
Когда дело доходит до текущих отношений Федора с Зиной, выясняется, что у них давно были общие знакомые. Теперь они воспринимаются как неизвестные читателю: какой-то художник Романов, какая-то жена какого-то Лоренца, какое-то стихотворение о ласточке. Тем не менее свое стихотворение о ласточке Федор ранее читал на литературном вечере, а Романова, Лоренца и его супругу Маргариту Львовну нам уже представляли и даже кое-что о них рассказывали, включая то, что картины Романова не на шутку волновали Федора, а Лоренцы были соседями по прежнему месту жительства.41 Но это при обычном чтении трудно усвоить и запомнить, потому что — по рецепту предшественников — подается все это между делом, в разговоре на другую тему, как посторонняя деталь, не имеющая значения для развития повествования (этот автор тоже настраивает читателя не на ту волну, на которой передает сообщение); еще большая трудность в том, что детали эти мелькают за сотню страниц до общения с Зиной (Шкловский говорит о таком приеме: детали «разделены такими большими промежутками, что сопоставить их не хватает памяти»42). При чтении же назад выясняется, что это дополнительные завитушки большого обмана.
В эпизодах общения влюбленных Зина рассказывает Федору многое из их прошлого до знакомства, и при первом чтении эти мелочи, скорее всего, покажутся новыми, но, читая назад, нетрудно обнаружить, что все они уже упоминались, вплоть до несостоявшегося участия Федора в переводе, упоминается даже русская барышня, которой он должен был помочь.43 Набоков заботится обо всех читателях, о том, чтобы не скучал ни впервые читающий, ни перечитывающий, ни многократно перечитывающий.
Сравнительно простой разновидностью несобытийной информационной инверсии является запоздалая ориентация в отношении того или иного параметра, например, кто кому кем приходится. В «Петербурге» лишь во второй половине ясно говорится, что Лихутин был другом детства Николая Аполлоновича. В домодернистской литературе прием тоже применялся, хотя не часто. Лермонтов изображает нежданное появление Вареньки, которую Жорж поначалу едва не принимает за привидение, и возникает вопрос: а кто она и кем приходится Жоржу? Следует разговор длиной в страницу, наводящий на мысль, что это любовники, хотя, возможно, бывшие — и лишь после собеседник Вареньки называется «брат ее».44 Во всех этих случаях перевернут порядок, в котором следуют изображение общения и пояснение природы их отношений, и они отделены некоторым расстоянием. Значительно большее расстояние между представлением персонажа и уточнением создает в «Идиоте» Достоевский. Белоконская принимает участие в делах Епанчиных, включая дела Аглаи, но лишь к концу книги читателю сообщают: «Белоконская была крестною матерью Аглаи». А в следующем абзаце раскрывается еще одна деталь, тоже имеющая значение для понимания уже давно разворачивающихся событий и тоже упоминаемая лишь теперь: оказывается, Белоконская рекомендовала Евгения Павловича, одного из четырех претендентов на сердце Аглаи.45
В набоковском «Отчаянии» уже в первом абзаце следует ссылка, которая при первом чтении не может быть понятной: «…как говаривал мой бедный левша, философия — выдумка богачей».46 Это специфический случай информационной инверсии, фраза вызывает вопрос: о ком речь? Нарушается последовательность «приметы — ссылка на приметы». Это не совсем то же, что с родственными связями, но похоже. В традиционном построении сначала Феликс был бы показан левшой, чуждым философии — а ссылка на эти его особенности была бы позже. Такая инверсия создает неясности лишь временные и совсем не сложные: что за левша и в каком смысле бедный, скоро прямо рассказывается: через семь страниц он пишет левой рукой, а то, что он беден, ясно показано еще раньше.47 Неожиданность дальнейшего в том, что бедным он оказывается в обоих смыслах, и благосостояния, и печальной участи.
Автор задает вопрос — читатель должен найти ответ
«Петербург» Белого полон загадок, разгадывать которые читателю надо своими силами. Они сплетены как хитроумные детективы, и почти ничего, кроме пустяков, ясно не сообщается. Возьмем самую компактную и не самую трудную загадку, хотя нельзя сказать, что простую: «Как обычно, и сегодня пробирались порою чрез зал гостинные посетители; и вторым пробирался воистину допотопного вида мужчина…». Естественно возникает вопрос: откуда второй, если еще не было первого? Можно предположить, что автор что-то напутал — тогда вопрос останется без ответа. Но ответ есть, хотя распознать его нелегко: «Толстоватый мужчина с неприятно изрытым оспой лицом пересек сперва этот зал…».48 Это и есть тот первый — которого при обычном чтении читатель не заметит, он виден лишь «под микроскопом». Белый этого мужчину первым не называет, говорит только, что он «сперва» пересек зал. И помещает слово «сперва» не перед «толстоватый», где бы оно указывало на то, что толстяк был первым, кто пересек зал, а в конец фразы, где оно скорее указывает на последовательность его действий — будто он сперва пересек зал, а потом «приложился к пухленькой ручке Любовь Алексеевны».49 Автор, тем не менее, объясняет, что посетители гостиной пробираются в нее через зал, предваряя замечания как о первом, так и о втором почти идентичными фразами: «Как обычно, (и) сегодня пробирались порою чрез зал гостинные посетители…».50 Это подсказка, повтор здесь служит средством сообщения, но чтобы заметить такую подсказку, требуется повышенное внимание. Другие загадки «Петербурга» намного масштабнее и сложнее.
Много вопросов без очевидных ответов в хронологии романа. Не только о выходке домино в подъезде, но едва ли не о любом событии романа приходится гадать: а в какой день оно случается? Создаются эти неясности не одной инверсией последовательности, а разными приемами. В какой день приходит Дудкин в дом Аблеуховых? Исследователи до недавних пор соглашались между собой, что в первый же день, хотя о первом дне рассказывается раньше — получается, и это рассказ не по порядку? Нет, это лишь имитация инверсии, но она подкрепляется прямым указанием на первый день (прием прямого обмана). Кроме того, Белый дает другое указание — что встреча была во второй день. Это делает загадку еще более трудной, поскольку указания отрицают друг друга, и читатель не знает, какому верить (расщепление восприятия с помощью взаимно уничтожающихся указаний). И все же автор дает достаточно данных для разгадки. Анализ текста показывает, что в первый день, в середине дня, ни Дудкин, ни Николай Аполлонович не могут быть в доме Аблеуховых, потому что находятся в других местах.51
А в какой день в дом Аблеуховых приходит Аблеухова Анна Петровна? Рассказ об этом тоже помещен в события не того дня (инверсия хронологии), но понять это можно лишь много страниц спустя, когда Семеныч докладывает сенатору о приходе барыни и незаметно добавляет, что забыл доложить о нем днем ранее — это проясняет, что приходила она не «вчера», а «позавчера» (задержка ответа плюс невидимое сообщение).52
Во всех подобных случаях Белый так рассказывает о событии, что вопрос «когда?» не может не возникнуть — проблематичность датировки весьма ощутима. Ответы же найти намного труднее, особенно в двух примерах, приведенных выше.
В эпопее Пруста с самого начала последовательно создается путаница в бабушках, дедушках, двоюродных бабушках и других родственных связях — и связи эти автор в основном предлагает разгадывать читателю. Сначала речь о том, что мальчик живет в Комбре у бабушки с дедушкой («chez mes grands-parents»), но через пару страниц та же жизнь называется жизнью у двоюродной бабушки («chez ma grand-tante»).53 Это не могут быть два разных дома, поэтому два разных определения создают неясность: чей же это дом? Далее бабушка и двоюродная бабушка фигурируют на равных и одинаково по-хозяйски ведут себя в доме, как будто дом их общий. Получается, в доме живут мальчик, родители мальчика, родители одного из родителей (матери, как выясняется), а также двоюродная бабушка. Но через несколько страниц вдруг упоминаются сестры бабушки, без уточнения их числа. Еще через страницу следует эпизод, в котором возникает подозрение, что некая сестра бабушки не тождественна двоюродной бабушке: двоюродная бабушка заставляет Свана играть, а сестра бабушки поет, будто это две разные женщины. Еще через страницу вновь фигурируют бабушкины сестры, на сей раз две.54 Но в следующем абзаце нежданно является смесь несовместимых между собой женщин: сначала они, «ellеs», что должно относиться к двум сестрам бабушки; затем вновь двоюродная бабушка в единственном, «ma grand-tante»; затем одна двоюродная бабушка противостоит сестрам бабушки во множественном («Les soeurs de ma grand-mere ayant manifesté l’intention <…> ma grand-tante le leur deconseilla»).55 Двоюродная бабушка разговаривает с сестрами бабушки, значит, она не входит в число сестер бабушки — значит, должна быть сестрой дедушки.
Миниатюрную словесную загадку задает Джойс: красавчик Беллуомо в любовном четырехугольнике — в постели жены любовника своей жены (буквально: «Belluomo rises from the bed of his wife’s lover’s wife…»).56 Вычислить смысл не так трудно, как родственные связи в «Комбре», но все же надо приостановиться и сообразить, сразу это не воспринимается: любовник жены любовника его жены. Четыре угла этой фигуры образуют две жены и два их любовника, которые занимают места двух мужей. Две легитимные пары замещены парой беззаконных пар. Характерно именно для Джойса, для которого словесные игры превыше всего. Изящная словесная безделушка.
Трудная загадка хронологии ставится в «Даре», где не на все вопросы автор дает ясные ответы. Он предлагает читателю сложный детектив времени. Главный вопрос — в каком году начинается действие романа. На него нет прямого ответа, мало того, текст подсказывает два ответа, к тому же автор дает вне текста третий ответ. Это сложнейшая загадка, автором не раскрываемая, — модель, предпочитаемая Белым и Платоновым, а не Набоковым, но и он ею иногда пользуется. Первым делом Набоков сообщает, что герой эмигрировал из России 7 лет назад, но долго не сообщает, в каком году, а потом говорит, что в 1920-м. Самое замечательное свойство этого ответа не в том, что он приходит с задержкой, что очевидно, а в том, что он ведет к иллюзии раздвоения времени, что выясняется лишь после тщательных раскопок. Как и Пруст, Набоков создает противостояние несовместимых данных: одни указывают на 1927-й как год начала событий (выезд из России в 1920 году плюс семь лет жизни в эмиграции) — другие на 1925-й (смерть Яши в 1923-м, «два года назад»). Сопоставление всех данных позволяет установить, что 1927 год — ложная дата. Значит, сообщение о семи годах в эмиграции — неправда (и она подкрепляется еще двумя ложными указаниями). Насколько умело запутана хронология, видно из того, что среди набоковедов утвердилось почти единодушное мнение: события «Дара» начинаются в 1926 году (так однажды заявил в последующем комментарии сам Набоков — еще один обман).57
Автор не задает вопроса — вопрос должен найти читатель
В ряде детективных построений сам вопрос остается незаметным. Непревзойденным мастером скрытности выступает Белый. Чтобы расшифровать, что именно рассказывается в «Петербурге», чаще всего нужны поиски сначала вопроса и лишь затем ответа. Самый замысловатый детектив романа — детектив времени. В противоположность неясностям последовательности (в какой день?), которые бросаются в глаза, загадка общей продолжительности романного времени предстает практически невидимой, ее не замечают даже беловеды. Автор сообщает, что события начались «десять дней» назад — и не дает никаких ни подсказок, ни намеков, что десяти дней в романе нет. Вместо вопроса он сам дает ответ: десять дней — т. е. как бы дает понять, что вопроса о числе дней возникать не должно. Наводит на вопрос поначалу лишь смутное ощущение, что рассказывается о меньшем числе дней; оно ведет к смутной догадке, что четыре фантастических газетных репортажа, быть может, называют как раз дни основных событий (кроме первого и последнего — всего в романе описаны 6 дней).58 Множество вопросов погребено под «повествовательной неразберихой» «Петербурга». Не просто обманчивые намеки, но откровенный обман читателя — нередкое явление в произведениях модернистов. Начало ему положил Белый.
В «Улиссе» ничто не подсказывает вопроса о связи двух юных заочных персонажей. Читатель, не склонный обращать внимания на имена, наверно, не заметит совпадения-подсказки даже при многократном перечитывании эпизода на пляже и письма Милли, дочери Блумов. Набоков не из таких читателей — он точно указывает, где в тексте Джойс дает ответ на не возникающий вопрос.59 Купающийся молодой человек спрашивает у Маллигана о брате, следует обмен репликами: «В Уэстмите. С Бэннонами». — «Все еще там? Я получил открытку от Бэннона. Говорит, нашел там сладкую молодую штучку. Называет ее фото-девочкой».60
Это в первой главе. В четвертой Блум читает письмо дочери: «У меня теперь заплыв в фото-бизнес. <…> Иногда по вечерам заявляется студент, зовут Бэннон».61 Ни один из двух эпизодов не вызывает вопросов. В первом не возникает вопроса, какую «сладкую штучку» нашел незнакомый читателю Бэннон; во втором не возникает вопроса, с кем именно встречается незнакомая читателю Милли. Имя молодого человека и упоминание фото-бизнеса, конечно, успевают забыться. Только тот читатель, который, подобно Набокову, заметит незаметные вопросы, сможет понять, что Бэннон нашел Милли, а Милли встречается с Бэнноном.
Изощренностью отличаются загадки «Чевенгура». В одном из эпизодов встречаются Проша и Саша, не видевшиеся с детства, вспоминают прошлое, в частности:
«— А я тебя помнил, — ответил Дванов. — Чем больше жил, тем все больше тебя помнил, и Прохора Абрамовича помню, и Петра Федоровича Кондаева, и всю деревню. Целы там они?
Прокофий любил свою родню, но теперь вся родня его умерла, больше любить некого <…> — Все умерли, Саш, теперь будущее настанет…»62
Вряд ли у читателя возникнут вопросы по поводу этой мирной беседы. Он должен узнать имя Прохора Абрамовича, это отец Проши и приемный отец Саши, оказывается, уже покойный. Петр Федорович упоминается как родственник Проши, которого знал и Саша; читатель, скорее всего, не обратит внимания на это имя, тем более что неизвестный, как и вся родня, тоже уже умер. Вопроса, кто это, не возникает. Точнее, вопрос возникнет лишь у самого дотошного читателя, который книгу не просто читает, а штудирует. И на него есть ответ: это ненавистный горбун из родной деревни, портрет которого тщательно выписан в начале романа (а здесь близко к концу). Если бы он вновь был назван горбуном, читатель бы его вспомнил, даже сотни страниц спустя, но ничто, кроме имени, здесь о нем не напоминает, а имя — самое не запоминающееся, что в горбуне есть. Это весьма каверзное умолчание о главной его примете в сочетании с гигантским расстоянием от раннего упоминания имени. Эпизод строится так, чтобы сделать вопрос о персонаже невидимым.
С тем же персонажем, несмотря на сообщение о его смерти, нас ждет еще одна встреча: «На завалинке ближней хаты сидел горбатый старик — Петр Федорович Кондаев. Он не узнал Дванова, а Александр не напомнил ему о себе. Петр Федорович ловил мух на солнечном пригреве и лущил их в руках со счастьем удовлетворения своей жизни…».63 Это ставит новый вопрос: как же так, если он умер? Но и этот вопрос останется незамеченным для читателей, которые не заметили вопрос (и не нашли ответ) в диалоге Саши и Проши.
На вопрос же, как горбун мог оказаться живым, текст подсказывает ответ лишь гипотетический: Проша говорит «все умерли», имея в виду свою родню, не замечая, что его спрашивали и о горбуне. Видимо, услышав имя отца, он переключается на своих близких, уходит в себя, имени Кондаева не слышит. В жизни такое случается: мы неточно выражаемся — и неточно слышим. Явление замечал классик, но способ описания взаимонепонимания у него иной: «Князь Андрей <…> спросил: — Когда уехали отец и сестра? — разумея, когда уехали в Москву. Алпатыч отвечал, полагая, что спрашивают об отъезде в Богучарово, что уехали 7-го…».64 Толстой не только рассказывает, что было сказано, но поясняет, как сказанное было неверно понято. В «Петербурге» в ряде диалогов случается то же самое, но Белый ничего не объясняет. Конфигурация эпизодов с горбуном в «Чевенгуре» наглядно показывает, что в изображении нарушенной коммуникации Платонову ближе приемы Белого, а не Толстого. Лишь заключительный эпизод дает постановку вопроса: как мог сказать Проша, что Кондаев умер, если тот жив? Но это подсказка, которую уловит лишь такой читатель, который вычислит, что упоминаемый в диалоге Кондаев и есть изображенный в начале романа горбун.
Кроме частных, в «Чевенгуре» две капитальных загадки, и обе, т. е. оба главных детектива — и времени, и особенно коммунизма — тоже, как и большинство загадок Белого, строятся так, что заметить существование загадки очень трудно. Главная загадка этого социально-философского романа создается постепенно и незаметно ходом повествования, развитием событий и характеров. Лишь после тщательного изучения текста и сопоставления эпизодов и сюжетных линий обнаруживается фундаментальное для мира «Чевенгура» противоречие: автор показывает героев хорошими людьми (искренними, душевными, настоящими товарищами, жаждущими справедливости) — которые творят ужасные дела, вплоть до расстрела всего населения Чевенгура. Это ставит вопрос: как же такое возможно? По нашему мнению, автор хочет заставить читателя сообразить, что беда не в людях как таковых, а в том, что из них революция сделала фанатиков, у которых место человеческого чувства занято классовым сознанием. Почти так же сложно найти и вопросы относительно хронологии романа,65 во всяком случае, платоноведы их не заметили.
В набоковской повести о Себастьяне младший брат собирает материал о жизни старшего, Себастьяна, после его смерти. Первым в этой теме идет эпизод о поездке к бывшей гувернантке, от которой он ничего полезного не узнает. Затем рассказывается, как из разных источников он узнает очень много. Складывается картина бесплодного начала поисков и результативного продолжения. Но незаметные замечания указывают на то, что поездка к гувернантке была последним, а не первым звеном расследования. Старая дама ничего не знала о их жизни в последнее время, в частности, не знала, что Себастьян умер три месяца назад — это значит, что беседа происходит на месяц позже, чем последние события плодотворной части его расследования, ибо там говорится, что брат умер два месяца назад.66 Только сопоставление этих данных устанавливает, что к гувернантке рассказчик поехал уже после того, как разузнал все, что можно было. Но этого может не заметить и самый внимательный читатель, даже перечитывающий. Слова о двух месяцах после смерти Себастьяна появляются в конце книги, а слова о трех месяцах в начале; и ранние слова, и поздние проскакивают незаметно, ибо даются по всем правилам невидимых сообщений, на периферии эпизода; вообще же данные о времени с самого начала даются, казалось бы, прямо и ясно, начиная с даты рождения Себастьяна в первом предложении (31 декабря 1899 года), и создают полную иллюзию простодушного рассказа по порядку; наконец, в завершение главы второй (о поездке к гувернантке) рассказчик дает понять (способом весьма неортодоксальным, в духе Стерна), что пишет все подряд, по мере сбора материала. Ему стыдно, признается он, что он прервал работу над этой самой главой, которую читатель в этот самый момент читает, для совершения бесполезного паломничества67 — это нельзя не понять так, что сначала он ездил к гувернантке, а все прочее было потом.
Набоков делает алогичную перестановку, маскирует ложный порядок под истинный, так, чтобы вопросов о порядке не возникало, задерживает прояснение и дает незаметный ответ на невидимый вопрос спустя полторы сотни страниц. Виртуозная работа. С приемом для Набокова нетипичным — скрытная хронологическая инверсия у него случается нечасто.
Особый случай невидимого вопроса: сколько раз восходит солнце?
Остановимся на частном случае невидимого вопроса, т. е. загадки, наличие которой ясно не обозначается. Одна из аномалий «Петербурга» в том, что событие, которое должно происходить один раз, происходит больше одного раза. Самое масштабное из них (и при этом самое незаметное) — множественность рассветов в последний день основного времени романа. Ночь после бала у Цукатовых кажется неодинаковой длины у Софьи и Николая. У нее в ту ночь два занятия: сначала она «одиноко слонялась по пустеющим залам», затем в пролетке доехала до своего дома — и тут увидела рассвет.68 У Николая дел куда больше: он перечитывает и переваривает письмо, требующее убить отца, разговаривает с агентом, они пешком идут на Васильевский остров, располагаются в ресторане и там неторопливо пьют, закусывают, разговаривают, препираются — а когда он выходит, рассвета еще нет, он идет пешком, затем берет Ваньку, едет и лишь тогда видит рассвет.69 Это создает ощущение, что его ночь намного длиннее, чем ночь Софьи. И оно подкрепляется доступными данными о времени. Можно приблизительно прикинуть, сколько времени тянется ночь мужа Софьи (ночь самой Софьи той же длины), — получается, что для четы Лихутиных рассвет наступает не позже четырех. Можно также прикинуть, что для Николая рассвет наступает примерно в полшестого. А время второго для Семеныча рассвета точно указано: полвосьмого.
О многократности события свидетельствуют и описания того, как светает. Они дают три разные картины: Лихутины видят одно — Николай видит другое — Семеныч видит третье. Отец же Николая, сенатор Аблеухов, видит сначала точно такой же рассвет, какой видят Лихутины. У Лихутиных рассвет начинается так: «…чернильная мгла просерела; и стала мглой серой: сероватой — сперва; а потом — чуть сереющей…». Начало рассвета сенатора: «…черно-серая мгла просерела и стала мглой серой: сероватой — сначала; потом — чуть сереющей…». Картина точно та же, хотя Лихутины в помещении, а сенатор на улице. Продолжения рассветов Лихутиных и сенатора вновь предстают близнецами, в обоих «легчайшие пламена», «розоватая рябь облачков», «сеть перламутринок», голубизна.70
Сенатор встречал такой же рассвет, что и чета Лихутиных — логично предположить, тот же самый. Вместе с тем его сын такого рассвета не видел, для него с извозчиком поначалу лишь «Адмиралтейство <…> пророзовело» — как будто у каждого из Аблеуховых был свой рассвет. Но вскоре сын наблюдает более продвинутую стадию утра: «Ясное утро, горящее невскими искрами, претворило всю воду там в пучину червонного золота; и в пучину червонного золота с разлету ушла труба свиставшего пароходика…». Тут как раз его Ванька нагоняет запоздавшего пешехода, отца, который как раз созерцает «там, на Неве, пучину червонного золота, куда влетела с разлету труба свиставшего пароходика». Почти дословный повтор в описании реки и пароходика свидетельствует о том, что в этой стадии отец и сын оба видят один и тот же восход (еще очень рано: на следующей странице грифон «розоват от зари»). Наконец, второй рассвет Семеныча не похож ни на один другой рассвет того дня.71 И интуитивные ощущения, и прикидки времени, и изображения показывают три независимых друг от друга рассвета.72
Это один из вариантов квазидетективного построения. Можно назвать скрытным изображением невозможного. Не считая смутного ощущения, что ночь Софьи слишком коротка, а ночь Николая невероятно затянута, ничто не указывает на аномалию. Ничто прямо не наводит на вопрос: а в котором часу светает? Ничто не наводит на мысль сравнить разные описания рассвета. Ничто не подсказывает вопроса: а сколько раз восходит солнце?
Загадка без решения — невнятный ответ на не возникающий вопрос
С Одетт связана другая затяжная игра — запоздалое и неверифицируемое, на наш взгляд, сообщение (в третьей книге) о том, о чем по ходу чтения (первой книги) вопроса не возникает. Набоков, как и другие прустоведы, опознает Одетт в «даме в розовом», которую юный герой застает у Адольфа, брата дедушки: «…встречает там молодую женщину в розовом шелковом платье, кокотку… Это и есть та очаровательная дама, что станет женой Свана; но кто она, надежно хранится в тайне от читателя». Секрет действительно надежно спрятан от читателя, причем Набоков, как представляется, имеет в виду не то, что прояснение личности этой гостьи откладывается, а то, что читателю предлагают разгадать загадку. Набоков находит цвето-цветочное решение: определенные цветы и розовый цвет ассоциируются с Комбре и Сваном, а та гостья была в розовом платье: «Надо припомнить розовое платье, которое за много лет до того носила привлекательная дама (Одетт де Креси) в квартире дяди Адольфа…».73
Это единственная примета, которую Набоков называет — потому ли, что других не видит, или потому, что не считает нужным их назвать. На чем основано его мнение, он толком не объясняет, и достаточного материала для такого вывода текст, на наш взгляд, не дает. Юноша не находит в гостье ожидаемых прелестей, не может поверить, что эта кокотка из числа шикарных, не может понять, почему на нее тратят огромные деньги — он находит ее внешность скромной и приличной, он поражен ее обыкновенностью. С обликом Одетт это не вяжется. Если сравнить кратенькое описание той незнакомки с описаниями героини, оснований для вывода, что это одно лицо, так же мало, как и для вывода, что это две разные кокотки. Внешность незнакомки, можно сказать, не описана, и ничто не дает повода думать, что это двойняшка героини. Скорее наоборот: мальчика разочаровывает обыкновенность той дамы — а Одетт совершенно необыкновенна. Вместе с тем кое-что общее, кроме розового платья и кокотства, у них все-таки есть: незнакомка вставляет в свою речь английское выражение («a cup of tea») — и Одетт иногда пользуется английским («je ne suis pas fishing for compliments», «son home», «smart»)74 и говорит о чаепитии, что тоже сближает ее с английской традицией, а в речи других персонажей такого нет. Но этого все же маловато для установления их тождества; кто знает, может, англомания — распространенное явление среди французских кокоток?
Как же в даме в розовом узнают Одетт? Узнают не ее, как не узнает ее и сам герой, а узнают о ней — из случайного, ничем не подкрепляемого заявления, и даже не рассказчика, а случайного персонажа, который никогда не видел Одетт, он лишь передает (неизвестно, насколько точно) слова своего отца, бывшего камердинера Адольфа (тоже неизвестно, насколько верные), о том, что именно эту даму он видел у дедушки Адольфа. Сам же герой говорит, что в это ему трудно поверить.75 Читателю о них рассказывалось как о двух разных дамах, не было никаких намеков, что в розовом была Одетт, и эпизод у Адольфа не приглашает к размышлению о том, кто же была та дама — дама и дама, фигурирующая в одном эпизоде, чтобы затем без следа исчезнуть.
Более того, сопоставление данных о возрасте героя приводит к выводу, что «дама в розовом» не может быть Одетт: в эпизоде у дедушки он в подростковом возрасте — затем повествование перемещается назад, во время, когда он маленький мальчик, и он встречается с госпожой Сван и ее маленькой дочкой.76 Понятно, что между дозамужней жизнью Одетт и наличием ребенка должно пройти время, но если госпожой Сван становится дама в розовом, получается невозможное: спустя годы после встречи с ней герой становится не старше, а младше. На анахронизм обращает внимание автор комментариев к первой книге А. Компаньон, но, несмотря на это, и он говорит, что «дама в розовом» есть Одетт.77 Иначе говоря, это Одетт — хотя это не может быть Одетт. Пруст, судя по всему, умышленно дает взаимно несовместимые повествуемые — это верный способ создания эффектов раздвоенности, загадочности и туманности. Он создает тождество двух женщин, в которое трудно поверить: свидетельство персонажа, что той дамой была Одетт — против данных о возрасте героя, против впечатлений героя, да во многом и против описаний двух дам. Это заявление против изображения, точнее, против нескольких изображений. В таких случаях следует, по нашим убеждениям, верить изображению.
Заметим, что в описаниях Одетт Пруст создает и забавное двойное время — текущее, по одним данным, как положено, вперед и при этом, по другим данным, текущее назад.
Общее против конкретного: миражи «Петербурга»
Белый показывает особую технику создания миража и параллельной реальности. Он использует два способа изображения одного явления, два способа описать нечто: на языке конкретном — и языке обобщений. Два способа рисования дают две разные картины одного и того же объекта. В некоторых случаях можно установить, что одна из картин подлинна, а другая ложна — последняя тогда становится миражом, видимостью недостоверного. В других случаях обе картины правомерны, ни одна из них не ложна. Тогда имеем раздвоение, две параллельные друг другу реальности.
Примером первого, миража, является описание салона Софьи Петровны Лихутиной. Размашистыми мазками создается картина массового наплыва гостей — большого салона. «Посетитель художник обижался при этом…» — такой заход подразумевает, что заходили художники нередко. Еще шире и глубже кажется поток музыкальный: «Если же посетитель Софьи Петровны оказывался или сам музыкант, или сам музыкальный критик, или просто любитель музыки…».78 В пестрой этой толпе выделяются два главных потока: светских гостей и «гостей так сказать», т. е. представителей учащейся на свои трудовые гроши молодежи. О многочисленности их косвенно свидетельствуют выражения типа «среди прочей учащейся молодежи», «бурно спорили», «в том кругу». Светских же гостей так много, что по поводу одной лишь военной их подкатегории рассказчик задается вопросом: «Почему же у ней бывали столькие офицеры?» Но вдруг следует перечисление светских: «граф Авен, барон Оммау-Оммергау, Шпорышев и Вергефден…».79 Те же имена в том же порядке, ни одним больше и ни одним меньше, называются еще несколько раз — каждый раз все та же великолепная четверка. И что — это вся светская толпа? Очень на то похоже. Представители света перечисляются, перед последним именем союз «и» — в русском языке это сигнал, что перечислены все без изъятия. И больше ни один нигде не фигурирует. Все светское общество представлено четырьмя статистами, именами без лиц: тремя офицерами и одним канцеляристом. Данные о числе будто бы бесчисленных офицеров обескураживают.
Хотя все же не до такой степени, как данные об учащихся массах — представленных Варварой Евграфовной, ею одной-единственной. Ни один из бурно ниспровергающих авторитеты молодых людей вовсе не появляется ни в каком виде. Им уделяется немало слов, но они ничего не делают, не говорят, никак не выглядят и имен не имеют. Даже в виде толпы они ничего определенного не делают. Это даже не статисты, а призраки, истинные тени. Полный список «гостей так сказать» состоит из одного имени.
Никаких художников или музыкантов, профессионалов или любителей, вовсе не обнаруживается — число зримо причастных к искусству равно нулю.
Общее описание создает ощущение множества посетителей — в конкретных эпизодах их набирается в обеих категориях пятеро (четверо светских и курсистка). Есть еще посетитель непонятной категории — Липпанченко — шестой. Даже если прибавить бывшего посетителя Николая Аблеухова, все равно маловато набирается. В общих словах изображаются толпы — конкретно поминаются единицы. Салон расщепляется на две несовместимые друг с другом картины.
Казалось бы, должны более ясно восприниматься сигналы конкретные, а общие могут лишь затуманивать изображение. На самом деле все наоборот. Общее не просто создает помехи восприятию конкретного, но подавляет его и делает невидимым. Об общем говорится много и интересно, а детали лишь изредка упоминаются, мельком и без ясного смысла. В итоге остается впечатление, что дом вечно переполнен гостями. Понять, что оно ни единым эпизодом не подкрепляется, можно лишь после тщательного изучения текста. Автор тут в общих словах — но очень энергично и красочно — рассказывает о том, чего в его романе конкретно не происходит. Создается ложное повествуемое — живая картина недостоверного. В книге нет большого салона, но есть его красочный мираж.
Во всем, что говорится о салоне, нет ничего, что хоть сколько-нибудь ощутимо подсказывало бы вопрос о его существовании. Читатель задумается лишь в том случае, если начнет искать конкретные проявления бурной жизни салона — и их не обнаружит. Выйти на вопрос совсем не легко, но после этого совсем не трудно обнаружить, что общие слова ничем не подкрепляются. Найти ответ в данном случае намного проще, чем найти вопрос.
Итак, большой салон оборачивается малым. Но масштаб — не единственное, что в салоне раздваивается. Выделенный на основании конкретных повествующих малый салон и сам предстает в двух версиях. Его устройство тоже рисуется двумя способами, что тоже дает две разные картины: опять-таки повествующие общего характера рисуют одно — конкретные рисуют иное. Данные о гостях опровергают картину массовости, но не впечатление, что гости все друг с другом общаются. Более того, впечатление это подкрепляется повествующими, подразумевающими общение. «Под влиянием светлой особы» (т. е. Варвары) хозяйка выставила кружку для фифок (штрафов за остроты), которая «была предназначена для гостей» (светских), гости же так сказать (учащиеся) «от поборов освобождались». Как будто Варвара придумала полезное применение деньгам светских посетителей, как будто все были где-то рядом с кружкой, с той лишь разницей, что богатые за неосторожное слово платили, а бедным все прощалось. Вскоре роль светлой личности уточняется: «…появилась Варвара Евграфовна с жестяною кружкою для собирания фифок». Это связывает ее с фифками, а фифки связаны со светскими кавалерами — и это подразумевает, что Варвара с ними общается. Липпанченко к ним еще ближе: после первой газетной заметки о домино все четверо светских «отпускали фифки по этому поводу, и летел в медную кружечку непрерывный дождь из двугривенных», а Липпанченко при этом «как-то криво смеялся».80 Общение мужа с гостями тоже подается так, словно он всех их застает вместе, когда возвращается со своей службы: он «одинаково кротко здоровался просто с гостями и с гостями так сказать»81 (и хмурился на Липпанченко).
Посетители «как-то сами собою распались на две категории». По другим данным, однако, они разделились совсем не «сами собой», да и не были никогда смешаны: «…скрытность ангела Пери достигала невероятных размеров: так, Варвара Евграфовна ни разу не встретилась с графом Авеном, ни даже с бароном Оммау-Оммергау. Разве только однажды в передней она увидала случайно меховую лейб-гусарскую шапку с султаном».82 Выходит, хозяйка принимает светских гостей отдельно от учащихся (конкретно: отдельно от курсистки). Позже выясняется, что Варвара и с Липпанченко у Софьи не встречалась. Малый салон тоже, как и большой, изображается лишь в общих словах. Конкретно же нет салонного общения и в узком кругу, каждый гость бывает у Софьи отдельно от других.83
Общее против конкретного: раздвоение реальности
Того же рода рассогласованность конкретного с общим служит основой создания альтернативного времени, а вместе с ним и альтернативного хода событий в «Петербурге».
В романе есть обычное время, измеряемое прежде всего днями. В этом времени Дудкин и Степка знакомятся вечером 2 октября, затем видятся утром 5 октября, когда выясняется, что в прошедшие два дня они не виделись. И есть время контурное, измеряемое событиями, о длительности которых дается приблизительное представление с помощью общих замечаний. Дудкин думает: «Да и эти беседы с проживающим у дворника Степкой: не болтать бы со Степкой…» Рассказчик: «А в последнее время все в дворницкой сиживал Степка…». Рассказчик сообщает о попытках Дудкина разобраться в пугающих его видениях: «Только раз иногда коротавший с ним ночи безработный Степан слышал как… крикнуло»; «Только стал Александра Ивановича этот Степка чуждаться, реже к нему заходить; ночевать же — ни-ни…»84 Выражения «последнее время», «иногда», «реже» удлиняют время и уплотняют общение героев. Из них следует, что давненько уже проживает у дворника Степка и беседы с ним случаются регулярно, хотя «в последнее время» Степан реже заходит.
С конкретными данными это не сходится. Что значит «в последнее время» или «иногда» применительно к двум дням? Что может означать «стал заходить реже», если речь о человеке, который у вас побывал один раз? Почему к дням прилагаются выражения, подразумевающие недели или месяцы? В «Петербурге» это способ создания альтернативного времени. Общие повествующие не согласуются с конкретными, и повествуемое, которое должно было бы быть единым, раздваивается — на краткое и длинное. В одном времени — единственный эпизод общения. В другом — история отношений. Однократности противостоит картина растянутой повторяемости.
В реальном мире такое расхождение означало бы отмену общего ряда. Но миры фикциональные живут по своим законам. В тексте, несмотря на несовместимость общих данных с конкретными, нет ничего, что доказывало бы недействительность общих — ничего, следовательно, что отменяло бы создаваемое ими время и происходящие в нем события. В этой параллельной реальности романное время «Петербурга» не вмещается ни в пять дней, ни даже в десять — описания общения Дудкина со Степкой создают отрезок, измеряемый не днями, а как минимум неделями.85
У Белого репутация эмоционального, неуравновешенного, иррационального человека, действующего в основном по наитию. Но в своих детективных построениях тот же самый человек (стоит только взяться за перо) фантастически логичен, расчетлив и точен. Едва ли будет преувеличением сказать, что его детективы на порядок сложнее, чем детективы Конан Дойля или Агаты Кристи.
Квазидетектив как особый способ повествования
Многозначность, таинственность и загадочность — родовые приметы модернизма. Квазидетектив — наиболее изощренная и системная форма выражения этих свойств.
Анализ текстов показывает разнообразие детективных построений и в то же время устойчивую повторяемость ряда приемов у разных авторов. Это свидетельство того, что модифицированный детектив является закономерной чертой модернистской литературы. Каждый из пяти авторов в высшей степени своеобразен, но на множестве примеров видно, что большинство приемов Белого так или иначе применяется и другими. Все они любят играть с загадками и приглашают читателя к соучастию в своей игре. За сходством приемов стоит общая для всех философия скрытности, которую задолго до XX века выразил Стерн: писать так, чтобы стимулировать догадливость и сообразительность читающего, заставлять его замечать детали, сопоставлять и делать выводы.
1 См.: Шкловский В. Тетива. О несходстве сходного. М., 1970. С. 70–73 (глава «О загадках и о вскрытии конфликта в обычном»).
2 Proffer C. R. Keys to Lolita. Bloomington: Indiana UP, 1968. P. 57.
3 Левин Ю. И. Избр. труды. Поэтика. Семиотика. М., 1998. С. 447 (статья о прозе Борхеса впервые опубликована в 1981 году).
4 Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. М., 1996. С. 185, 192.
5 Mel’nikov N. „The Detective Story Taken Seriously…“. V. V. Nabokov’s Philosophical „Anti-Detective“ Stories // Russian Studies in Literature. 2006. Vol. 42. № 4. P. 10, 11. Здесь и далее перевод с английского наш, кроме особо оговоренных случаев. — М. Л.-П., М. Л.
6 Долинин А. Расшифровка. Как устроены тексты Набокова (см.: https://arzamas.academy/materials/1615; дата обращения: 31.10.2023).
7 Киреева Н. В. Детектив как код прочтения романа В. Набокова «Лолита» // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2009. Т. 11. № 4 (2). С. 491–495.
8 Connelly K. C. From Poe to Auster: Literary Experimentation in the Detective Story Genre. A Dissertation Submitted to the Temple University Graduate Board. 2009. P. 161 (https://scholarshare.temple.edu/bitstream/handle/20.500.12613/1001/Connelly_temple_0225E_10130.pdf?sequence= 1&isAllowed=y).
9 Можейко М. А. «Философия детектива»: классика — неклассика — постнеклассика // Вестник Полоцкого гос. ун-та. 2012. Сер. Е: Педагогические науки; Культурология. № 15. С. 139.
10 Речь только о детективных конструкциях. В других аспектах сходство и различие между теми же авторами будет другим, так, по части языковых экспериментов Джойс окажется в компании Белого и Платонова.
11 Мы пользуемся терминами повествующее и повествуемое — по аналогии с означающим и означаемым, но применительно не только к словам (словосочетаниям) и их значениям, а ко всем составляющим текста, от фразы до произведения в целом; фабула — повествуемое в целом (история), сюжет — целое повествующих (изложение истории). См.: Левина-Паркер М., Левин М. Шедевр трудного чтения: «Петербург» Андрея Белого. СПб., 2020. С. 244–245 и далее.
12 См.: Там же. С. 373–377, 422–556; Левина-Паркер М., Левин М. 1) Квазидетектив Андрея Белого — линия бомбы в «Петербурге» // Новое литературное обозрение. 2018. № 5 (153). С. 128–140; 2) Теорема Платонова: исследование под покровом абсурда (коммунизм в «Чевенгуре» Андрея Платонова) // Там же. 2021. № 1 (167). С. 179–206.
13 Nabokov V. The Real Life of Sebastian Knight. New York, 1976. Р. 181.
14 Sterne L. The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman. New York, 2005. Р. 71.
15 Белый А. На рубеже двух столетий / Вступ. статья, подг. текста и комм. А. В. Лаврова. М., 1989. С. 215.
16 Nabokov V. Lectures on Literature. San Diego et al., 1982. Р. 4.
17 См.: Левина-Паркер М., Левин М. Шедевр трудного чтения. С. 360–361.
18 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1973. Т. 8. С. 155.
19 См.: Там же. С. 208.
20 Sterne L. The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman. Р. 402.
21 См.: Левина-Паркер М., Левин М. Шедевр трудного чтения. С. 366.
22 См.: Proust M. Du côté de chez Swann. Paris, 1995. P. 145–147, 157–162.
23 Nabokov V. Lectures on Literature. Р. 321.
24 См.: Proust M. Du côté de chez Swann. P. 203.
25 Белый A. Петербург / Изд. подг. Л. К. Долгополов. 2-е изд. CПб., 2004. C. 182 (сер. «Литературные памятники»).
26 «…The presence of a human form, female, hers, the imprint of a human form, male, not his» (Joyce J. Ulysses. New York, 1986. [17]: 2123–2124).
27 См.: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М.; Л., 1932. Т. 11. С. 111, 122.
28 Proust M. Du côté de chez Swann. P. 24–25, 11. Здесь и далее пер. с фр. наш, если не указано иное. — М. Л.-П., М. Л.
29 См.: Proust M. Du côté de chez Swann. P. 101, 15.
30 Белый A. Петербург. C. 243, 104.
31 Там же. C. 187.
32 См.: Там же. C. 51.
33 См.: Набоков В. Собр. соч. американского периода: В 5 т. СПб., 2008. Т. 2. С. 133, 100, 137, 138.
34 Набоков В. Собр. соч. русского периода: В 5 т. СПб., 2002. Т. 4. С. 331, 260.
35 См.: Proust M. Du côté de chez Swann. P. 402, 407, 411–412, 413.
36 Ibid. P. 13, 20.
37 См.: Proffer C. R. Keys to Lolita.
38 См.: Белый A. Петербург. C. 53–55; Левина-Паркер М., Левин М. Шедевр трудного чтения. С. 506–508.
39 См.: Там же. С. 424–446.
40 Набоков В. Собр. соч. русского периода. Т. 4. С. 244, 245.
41 См.: Там же. С. 361–362, 277, 241, 243–245.
42 См.: Шкловский В. Тетива. С. 108 (глава «О конвенциях»).
43 См.: Набоков В. Собр. соч. русского периода. Т. 4. С. 362, 255, 267.
44 Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 4 т., М.; Л., 1962. Т. 4. С. 171 («Княгиня Лиговская»).
45 См.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 508, 509.
46 Набоков В. Собр. соч. русского периода. Т. 3. С. 397.
47 См.: Там же. С. 404, 401.
48 Белый A. Петербург. C. 153, 151.
49 Там же. С. 151.
50 Там же. С. 151, 153.
51 См.: Левина-Паркер М., Левин М. Шедевр трудного чтения. С. 503–506.
52 См.: Там же. С. 518–519.
53 См.: Proust M. Du côté de chez Swann. P. 6, 9.
54 Ibid. P. 18, 21.
55 Ibid. P. 22.
56 Joyce J. Ulysses. [3]: 211.
57 См.: Левина-Паркер М., Левин М. Время набоковского «Дара» — забавы хронического мистификатора // Wiener Slawistischer Almanach. 2021. № 87. С. 357–390.
58 См.: Левина-Паркер М., Левин М. Шедевр трудного чтения. С. 494–503, 520–524.
59 См.: Nabokov V. Lectures on Literature. Р. 306.
60 Joyce J. Ulysses. [1]: 683–685.
62 Платонов А. Чевенгур. СПб., 2016. С. 386.
63 Там же. С. 476.
64 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 123.
65 См.: Левина-Паркер М., Левин М. 1) Теорема Платонова. С. 179–206; 2) Шедевр трудного чтения. С. 533–556.
66 См.: Nabokov V. The Real Life of Sebastian Knight. New York, 1976. Р. 22, 151, 184.
67 Ibid. Р. 23.
68 См.: Белый A. Петербург. C. 172, 173, 194–195.
69 См.: Там же. C. 181–186, 202–216.
70 Там же. C. 195, 200, 197, 201.
71 См.: Там же. C. 215–217, 337–338.
72 См.: Левина-Паркер М., Левин М. Шедевр трудного чтения. С. 290–297.
73 Nabokov V. Lectures on Literature. Р. 228, 241.
74 См.: Proust M. Du côté de chez Swann. P. 77, 188, 193.
75 См.: Proust М. Le côté de Guermantes. Paris, 1998. Р. 206, 207.
76 См.: Proust M. Du côté de chez Swann. P. 74–78, 139–140.
77 См.: Ibid. P. 480.
78 Белый A. Петербург. C. 61.
79 Там же. C. 61–62.
80 Там же. C. 63, 65, 70.
81 Там же. C. 63.
82 Там же. C. 62, 63.
83 См.: Левина-Паркер М., Левин М. Шедевр трудного чтения. С. 345–359.
84 Белый A. Петербург. C. 242, 287, 289.
85 См.: Левина-Паркер М., Левин М. Шедевр трудного чтения. С. 524–533.
About the authors
Masha Levina-Parker
Author for correspondence.
Email: mashalev2008@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-1078-4374
Independent Researcher
United StatesMisha Levin
Email: mishalevine8@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-5005-2883
Independent Researcher
United StatesReferences
- Belyi A. Na rubezhe dvukh stoletii / Vstup. stat’ia, podg. teksta i komm. A. V. Lavrova. M., 1989.
- Belyi A. Peterburg / Izd. podg. L. K. Dolgopolov. 2-e izd. SPb., 2004 (ser. «Literaturnye pamiatniki»).
- Connelly K. C. From Poe to Auster: Literary Experimentation in the Detective Story Genre. PhD Thesis. Philadelphia, PA, 2009.
- Dolinin A. Rasshifrovka. Kak ustroeny teksty Nabokova (sm.: https://arzamas.academy/materials/1615; data obrashcheniia: 31.10.2023).
- Dostoevskii F. M. Poln. sobr. soch.: V 30 t. L., 1973. T. 8.
- Joyce J. Ulysses. New York, 1986.
- Kireeva N. V. Detektiv kak kod prochteniia romana V. Nabokova «Lolita» // Izvestiia Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi akademii nauk. 2009. T. 11. № 4 (2).
- Lermontov M. Iu. Sobr. soch.: V 4 t. M.; L., 1962. T. 4.
- Levin Iu. I. Izbr. trudy. Poetika. Semiotika. M., 1998.
- Levina-Parker M., Levin M. Kvazidetektiv Andreia Belogo — liniia bomby v «Peterburge» // Novoe literaturnoe obozrenie. 2018. № 5 (153).
- Levina-Parker M., Levin M. Shedevr trudnogo chteniia: «Peterburg» Andreia Belogo. SPb., 2020.
- Levina-Parker M., Levin M. Teorema Platonova: issledovanie pod pokrovom absurda (kommunizm v «Chevengure» Andreia Platonova) // Novoe literaturnoe obozrenie. 2021. № 1 (167).
- Levina-Parker M., Levin M. Vremia nabokovskogo «Dara» — zabavy khronicheskogo mistifikatora // Wiener Slawistischer Almanach. 2021. № 87.
- Mel’nikov N. «The Detective Story Taken Seriously…». V. V. Nabokov’s Philosophical «Anti-Detective» Stories // Russian Studies in Literature. 2006. Vol. 42. № 4.
- Mozheiko M. A. «Filosofiia detektiva»: klassika — neklassika — postneklassika // Vestnik Polotskogo gos. un-ta. 2012. Ser. E: Pedagogicheskie nauki; Kul’turologiia. № 15.
- Nabokov V. Lectures on Literature. San Diego et al., 1982.
- Nabokov V. Sobr. soch. amerikanskogo perioda: V 5 t. SPb., 2008. T. 2.
- Nabokov V. Sobr. soch. russkogo perioda: V 5 t. SPb., 2002–2006. T. 3, 4.
- Nabokov V. The Real Life of Sebastian Knight. New York, 1976.
- Platonov A. Chevengur. SPb., 2016.
- Proffer C. R. Keys to Lolita. Bloomington: Indiana UP, 1968.
- Proust M. Du côté de chez Swann. Paris, 1995.
- Proust М. Le côté de Guermantes. Paris, 1998.
- Shklovskii V. Tetiva. O neskhodstve skhodnogo. M., 1970.
- Sterne L. The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman. New York, 2005.
- Tomashevskii B. V. Teoriia literatury. Poetika. M., 1996.