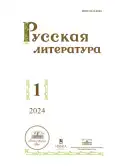Emergence of the poetic systems of V. V. Nabokov, K. K. Vaginov, A. P. Platonov: tactics and strategy
- Authors: Laletina O.S.1, Khvorostianova E.V.1
-
Affiliations:
- St. Petersburg State University
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 211-220
- Section: Публикации и сообщения
- URL: https://journal-vniispk.ru/0131-6095/article/view/257542
- DOI: https://doi.org/10.31860/0131-6095-2024-1-211-220
- ID: 257542
Full Text
Abstract
The article offers a new outlook on the problem of the emergence of poetic systems of V. V. Nabokov, K. K. Vaginov and A. P. Platonov, with each of them gaining notoriety as a prose writer, yet beginning his career as a poet. Correlation analysis that takes into account a number of the parameters of their verses shows that all the three authors chose an unambiguously «marginal» position as their strategy, but differed from each other considerably in the tactics of shaping their poetic systems.
Full Text
1899 год рождения — это, казалось бы, единственное, что сближает столь яркие творческие индивидуальности. По словам А. Г. Битова, таких далеких друг от друга прозаиков, как В. В. Набоков и А. П. Платонов, «и одновременно двух крупнейших представителей литературы XX века представить трудно».1 Не случайно их противопоставляли в эссеистике и научной литературе не раз, причем, как отмечает М. Н. Эпштейн, «по самым разным критериям: элитарность — народность, аристократия — пролетариат, индивидуализм — коллективизм, консерватизм — революционность, утонченный идеализм — стихийный материализм, рефлексия — органика, эстетизм — реализм, созерцательность — труд, природа — техника, воздушное — земное…».2 Одинаково далек от этих полюсов К. К. Вагинов — сын жандармского офицера, с юности увлеченный античностью, коллекционер всего, что только можно было коллекционировать (от редких книг до этикеток и сновидений), входивший едва ли не во все петербургские литературные объединения и кружки, но остававшийся независимым, чья вежливость, снисходительность и деликатность располагала к нему людей; в отличие от Набокова и Платонова воспринявший революцию как «исполинскую катастрофу, трагическую и прекрасную, <…> подобную гибели загнивающей Римской империи под натиском юных варварских племен, наивных, невежественных, но несущих в одряхлевший мир свою животворную кровь».3
Впрочем, можно указать и на некоторые сходства, связанные с посмертной репутацией и судьбой писательского наследия всех трех авторов в России. Настоящую популярность и Набоков, и Вагинов, и Платонов обрели именно как прозаики, хотя каждый начинал свое становление как поэт, входивший в литературу со своими темами, особой стилевой манерой и даже адресом поэтического высказывания. Каждый из авторов по разным причинам оказался по-настоящему не востребован в России при жизни, исследовательский интерес к их творчеству сформировался лишь в 1970– 1980-е годы одновременно с изданиями и переизданиями книг, часть из которых была напечатана в Америке, часть (опубликованных при жизни авторов) на долгое время прочно обосновалась в спецхранах или находилась в рукописных вариантах, недоступных для чтения не только широкому кругу публики, но и специалистам.
Справедливости ради нужно отметить, что параллели между Платоновым, Вагиновым и Набоковым как прозаиками и в научной литературе, и в эссеистике последних десятилетий проводились неоднократно. Как отмечает Т. Л. Никольская, уже в послесловии к изданному в 1972 году в Турине роману Вагинова «Бамбочада» В. Страда поставил в один ряд прозу Платонова и Вагинова, усмотрев в них «реальные возможности иной литературы, иного творческого бытия в культурной и общественной жизни, по сравнению с уже угрожающе надвигавшимися».4 Позднее их ставят в один ряд как ярких представителей «странной прозы» 1920–1930-х годов.5 Общность в ориентации на идеологически значимые претексты, общность актуальных тем, хотя и различным образом решенных, устанавливалась между прозой Набокова и Вагинова,6 Набокова и Платонова.7 Наконец, романы именно этих трех авторов рассматриваются как наиболее показательные образцы ресайклинга в русской литературе позднего авангарда.8
Поэтическое наследие Набокова, Платонова и Вагинова интересовало литературоведов почти исключительно с точки зрения стилистики и топики, преимущественно в сопоставлении с прозой каждого из них. Более того, в немногочисленных стиховедческих исследованиях концептуальные выводы о специфике организации систем стиха фактически исключают возможность сравнения. В литературе, посвященной стиху Набокова, прочно утвердилось мнение о своеобразном «консерватизме» поэта, ориентировавшегося не на современную парадигму, а на традиции «классического стиха XIX в.»,9 причем эта ориентация рассматривается как принципиальная идеологическая позиция: так, в частности, с точки зрения Дж. Смита, форма стихов Набокова — «ностальгия по тому времени, когда дух новизны еще не исковеркал русскую поэзию и русское общество».10 Стих Платонова, напротив, по мнению исследователей, отличается «неконвенциональностью формы»,11 гетероморфностью, изобилует «погрешностями ритма»,12 что прижизненной критикой объяснялось «неопытностью» и «ограниченной техникой»13 молодого поэта, современными исследователями — близостью автора конструктивистским идеям ЛЕФа.14 Наконец, Вагинов, отличающийся кажущейся удаленностью «от русской поэтической традиции и <…> экзотичностью вкусов»,15 формирует систему стиха, которая, по словам Г. Р. Монаховой, «крайне необычна и одновременно проста. Именно поэтому она <…> удостоивалась лишь общих замечаний. <…> Отдельные метрические и строфические тенденции <…> являются проявлением одного главного и системообразующего свойства стиха Вагинова — стремления в рамках традиции уйти от всех строго регламентированных и ограничивающих стиховых форм».16
Несмотря на внешние стимулы, круг чтения, круг общения, образование, поэтические предпочтения в выборе авторитетов, Набоков, Вагинов и Платонов однозначно выбирают «маргинальную» позицию в системе русского стиха первой половины XX века.
В современном стиховедении сложилась традиция, берущая свое начало с исследований ритмики, позволяющая характеризовать систему автора на фоне поэтической «нормы» эпохи, а также проследить эволюцию ритмических тенденций в ее соотношении со стихом последующих десятилетий.17 Позднее этот принцип выделения условной «нормы» на основе статистико-математических подсчетов был распространен на область метрики и строфики,18 что давало дополнительные аргументы для более детальной характеристики стиховой системы автора. Очевидно, что средние данные по эпохам, показательные для иллюстрации эволюции русского стиха, неизбежно нивелируют ощутимый разброс по пропорциям метрических и строфических форм у разных авторов. Однако эта статистическая «норма» все же позволяет обнаружить не только специфические приоритеты (например, предпочтение классических или неклассических размеров, 4-стопных или 5-стопных двусложников и т. п.), но и резкие отклонения от средних данных, демонстрирующие ярко выраженный конфликт с условной поэтической нормой, формирование собственной, независимой, и — главное — противопоставленной современному стиху системы.
Выбирая однозначно маргинальную позицию в стратегии, Набоков, Вагинов и Платонов, тем не менее, решительно различаются в тактике формирования поэтических систем (отчасти — презентации их публике).
Уже в первые пореформенные десятилетия в русском стихе складывается отчетливое соотношение метров: ямбы > хореи > трехсложники > неклассические размеры. Лишь три периода отмечены некоторым смещением пропорций. Так, эпоха трехсложников, которую М. Л. Гаспаров называет «временем Некрасова и Фета», сохраняла устоявшееся соотношение метров, но максимально приблизила суммарную долю трехсложников к доле хорея (соответственно — 23,3 % и 21,0 %19). Следующий этап, предшествующий освоению чистой тоники (1880–1900 годы), меняет приоритеты между хореем и трехсложниками: ямбы > трехсложники > хореи > неклассические размеры. Такое соотношение сохранится и у некоторых поэтов Серебряного века (например, у И. Ф. Анненского,20 А. А. Блока,21 Н. С. Гумилева,22 Черубины де Габриак23) и вернется в русский стих лишь в период 1958–1980 годов.24 Впрочем, метрический репертуар других поэтов-модернистов сохраняет устоявшееся соотношение ямбы > хореи > трехсложники > неклассические размеры (таковы, например, пропорции метрических форм у И. С. Рукавишникова,25 В. Ф. Ходасевича,26 К. Д. Бальмонта,27 О. Э. Мандельштама28). Возвращением хорея на второе по частотности место отмечены 1900–1935 годы, однако на третьей позиции здесь оказываются неклассические размеры, ощутимо оттесняющие трехсложники на последнюю позицию: ямбы > хореи > неклассические размеры > трехсложники.29 Такая смена приоритетов объясняется в первую очередь активным освоением дольника, развивающегося, как известно, на трехсложной основе.30 Эта тенденция эпохи полностью реализована в стихе А. А. Ахматовой.31 Стих 1936–1957 годов вновь возвращается к традиционному распределению метров (ямбы > хореи > трехсложники > неклассические размеры) с той лишь разницей, что хорей, в отличие от XVIII и почти всего XIX века, теперь очень незначительно опережает трехсложник, их доли стремятся к равновесию (соответственно — 23,0 % и 21,8 %32).
Поэтическое творчество Вагинова целиком укладывается в рамки первой трети ХХ века, Платонова — отчасти захватывает следующий период (1936–1957 годы), Набокова — приходится на три периода из обозначенных выше, включая 1958–1980 годы, хотя основная часть стихотворного наследия автора создана в первые два периода. Однако общее соотношение метров в поэзии каждого из трех авторов не только резко контрастирует с условной нормой эпох, но и не обнаруживает соответствия ни в предшествующих, ни в последующих эпохах, что позволило бы предположить либо ориентацию на поэтическую традицию прошлого, либо провидческие новаторские тенденции, опередившие свое время и определившие перспективу развития русского стиха. Так, в метрическом репертуаре Вагинова пропорции следующие: ямбы > неклассические размеры > трехсложники, при полном отсутствии хореев;33 у Платонова — хореи > ямбы > трехсложники > неклассические размеры;34 у Набокова — ямбы > трехсложники > неклассические размеры > хореи.35
Разумеется, на каждом историческом этапе развития русского литературного стиха можно выделить поэтов, нарушающих сложившуюся норму. В XVIII веке это В. К. Тредиаковский (ямбы > неклассические размеры > хореи, при полном отсутствии трехсложников36) и А. Н. Радищев (ямбы > трехсложники > хореи > неклассические размеры[37]), в XIX веке — А. Х. Востоков (ямбы > неклассические размеры > хореи > трехсложники[38]). Современная стиховедческая парадигма предполагает корректность характеристики индивидуальной стиховой системы на основе поуровневого анализа метрического, строфического, рифменного репертуара на фоне эпохи и на основе сравнительного анализа с репертуарами современников поэта. Однако больший или меньший процент употребительности метров, размеров, стиховых окончаний, типов строф сам по себе не определяет позицию поэта как маргинальную. Так, например, начало XX века характеризуется, по словам М. Л. Гаспарова, наступлением ямбического 5-стопника: «…теперь он оттесняет старый 6-стопник не только в больших жанрах, но и в лирике, становясь здесь таким же универсальным размером, как 4-ст<опный> ямб <…> Среди хореев тоже продолжается наступление лирического 5-стопника».39 Между тем «разброс» в процентном соотношении двусложников у разных поэтов этой эпохи столь существенен, что скорее ставит под сомнение возможность установления некоторой нормы, нежели характеризует отдельного поэта. Если в метрическом репертуаре оригинальных произведений Б. К. Лившица 4-стопный ямб составляет 42,8 %, 5-стопный — 19,7 %,40 то у В. А. Комаровского — соответственно — 16,9 % и 32,3 %,41 у Саши Черного — 5,4 % и 2,4 %.42 И если у Комаровского ямбическими размерами написано 87,7 % произведений,43 то у Саши Черного всего 25,4 %.44 Что касается трехсложников, то в эту эпоху, как и в предшествующую, сохраняется прежняя пропорция: «половина анапестов, четверть амфибрахиев, четверть дактилей».45 Однако у Г. В. Адамовича на «ведущий» анапест приходится менее 20 %, столько же на дактиль, в то время как доля амфибрахиев среди трехсложников составляет более 60 %;46 у Комаровского, напротив, 75 % текстов написано анапестом, амфибрахий вовсе отсутствует. Очевидно, что при таком разнообразии метрико-строфических репертуаров поуровневый анализ становится малопродуктивным. Гораздо более перспективным, на наш взгляд, является корреляционный анализ, учитывающий соотношение ряда параметров. Количество моделей стиха (т. е. сочетаний размера, строфического строения, порядка чередования рифм и/или клаузул) достаточно показательно не только для отдельных поэтов, но и для поэтических эпох. На протяжении всего XIX века на каждую модель приходится более 2 текстов (от 3,2 в начале века у Е. А. Баратынского, до 2,2 в конце века у А. Н. Апухтина). В начале XX века этот показатель разнообразия стиховых форм меняется, составляя величину от 1,9 (у Лившица47) до максимального разнообразия — 1,1 (у Гумилева).48
У Вагинова коэффициент разнообразия (т. е. отношение количества моделей к количеству текстов и звеньев полиметрических композиций) составляет 1,15, что предельно близко к данным по Гумилеву. В то же время стратегия, избранная поэтом, не находит аналогии не только в поэзии первой трети XX века, но и в истории русского литературного стиха. Вагинов решительно расшатывает принцип тонической эквивалентности стихов, противопоставляя себя тем самым современной поэзии — эпохе чистотонического стиха: 75,3 % произведений демонстрируют расподобление стихов по объему (60,4 % составляют вольные размеры, от вольного ямба до вольного тактовика, еще 14,9 % — переходные метрические формы от равностопных / равноиктных размеров к вольным), причем среди вольных размеров треть безрифменные. Почти половина всех текстов написана вольным ямбом (49,2 %49) — размером, который был по-настоящему популярным лишь в XVIII веке, когда составлял в среднем 26,8 %,50 а его доля в метрическом репертуаре была выше лишь у И. А. Крылова. Важно при этом, что в русской поэзии белый вольный ямб не получил широкого распространения, хотя встречается, как отмечает С. А. Матяш, и в драматических, и в эпических, и в лирических жанрах: «…его источниками явились: во-первых, традиция безрифменного стиха русской народной поэзии; во-вторых, традиция немецкой поэзии <…>; в-третьих, традиция античного стихосложения, воспринятая русской поэзией как непосредственно, так и через европейскую культуру <…>; в-четвертых, „свободные ритмы“ <…> и другие формы „международного свободного стиха“».51 Вероятно, источниками стиха Вагинова явились две последние обозначенные традиции, определившие сознательно выбранную маргинальную позицию, которую он сформулировал в одном из писем: «…я резко расхожусь с современностью».52
Метрический репертуар поэта обнаруживает еще одну своеобразную константу, которую сложно однозначно интерпретировать, поскольку в русском литературном стихе нет примеров укрепления стиховой вертикали с помощью анакрузы. Это явление мы изредка встречаем лишь в стихе народном. Полный отказ от хорея и дактиля, использование исключительно односложной или двусложной анакрузы становится своеобразной «скрепой», восполняющей отсутствие рифмы («И дремлют львы, как изваянье…», «Да, целый год я взвешивал…», «Не лазоревый дождь…»).
Как известно, начало XX века отмечено экспериментами с твердыми стихотворными формами, цепными строфами, оригинальными авторскими строфами. Как ритмические единицы более высокого порядка строфы дополнительно упорядочивают стих, придают ему мерность. Поскольку 73 % произведений Вагинова строфичны, то следовало бы ожидать, что строфика будет выполнять своего рода компенсаторную функцию, укрепляя метрически расшатанную вертикаль стиха. Однако 97,1 % строфических текстов написаны с использованием нетождественных строф.53 Иными словами, расподобление стихов по тоническому объему находит прямую аналогию в строфическом строении — расподоблении строф по количеству стихов, чередованию рифм и/или клаузул («Бегут туманы в розовые дыры…», «В одежде из старинных слов…», «Пред Революцией громадной…», «Русалка пела, дичь ждала…», «Среди ночных блистательных блужданий…»).
Иную стратегию избирает Платонов, в стихе которого коэффициент разнообразия составляет 1,05, т. е. почти каждое произведение использует новую модель. Первое, что обращает на себя внимание, — нехарактерное для русского стиха преобладание хореических размеров (37,7 %) над ямбическими (27,9 %). Пожалуй, лишь у одного поэта начала XX века можно обнаружить столь же неожиданную рокировку двусложников — Саши Черного, в метрическом репертуаре которого хорей и ямб составляют — соответственно — 36,9 % и 25,4 %.54 Необычными выглядят и пропорции трехсложников: дактилические размеры составляют 9,0 %, в три раза превышая условную норму эпохи, а также опережая совокупную долю амфибрахиев и анапестов (по 4,1 %) в репертуаре самого Платонова. Подобное преобладание дактиля в истории русского стиха наблюдалось лишь в XVIII веке, когда на долю трехсложников приходилось всего 2,1%.55 Впрочем, специфику стиха Платонова характеризуют не столько пропорции метров и размеров, сколько беспрецедентная для эпохи доля переходных метрических форм. Начало ХХ века в значительной степени характеризуется увеличением количества и изменением качества переходных форм. Если в XVIII и XIX веках их доля крайне незначительна и ограничивается рамками классических размеров (преимущественно ямбических), то теперь переходные метрические формы составляют в среднем 16 % (от 7,7 % у Комаровского56 до 39,0 % у Вагинова57) и распространяются на неклассические размеры. В метрическом репертуаре Платонова они охватывают 44,7 % текстов и встречаются не только в классических 4-стопном, 5-стопном, 6-стопном хореях, 3-стопном и 4-стопном дактилях, но и в строчном логаэде («Птицы»), трехсложнике с переменной анакрузой («Без сна, без забвенья шуршат в тесноте…», «Стихи о человеческой сути», «Млеют в горячей весенней испарине…»), вольном дольнике («Последний день»). В этой связи показательно интересное наблюдение П. А. Ковалева над логикой развертывания стиховой вертикали: «…в развитии механизмов гетероморфности у Платонова наблюдается одна важная закономерность, которую можно назвать законом третьей позиции: значительное количество случаев изменения метрической и ритмической гомоморфности, системы стиховых окончаний приходится именно на третью в стихе или строфе позицию. <…> Закон трансформации на третьей позиции предполагает: 1) Изменение стопного объема строк. <…> 2) Изменение метрической природы строк».58
В отличие от Вагинова, Платонов редко использует белый («Мальчик») или полурифмованный («В эти дни земля горячее солнца…») стих, однако для 69,1 % текстов используются нетождественные нерегулярные строфы. Точно так же, как в развертывании стиховой вертикали третий стих нарушает заданную инерцию, в простых строфах постоянно меняется клаузула и схема рифмовки («Томится сила недр земного шара…», «Богомольцы», «Мы дума мира темного…», «Дети», «Ночь»).
В стихе Набокова коэффициент разнообразия составляет 1,5, т. е. соответствует средним данным по эпохе. Но в отличие от Вагинова и Платонова сложность и причудливость построения стиховой вертикали в его поэзии настолько неочевидны, что требуют именно корреляционного анализа. Едва ли не наиболее показательными и провокационными являются результаты корреляционного анализа метрики и каталектики, поскольку они позволяют поставить вопрос об уникальности системы стиха Набокова. В русском стихе сложилось определенное соотношение клаузул в классических метрах: поэты чаще выделяли конец стиха (строки) с помощью клаузулы, поэтому число акаталектических окончаний меньше суммарного числа окончаний каталектических (усеченных) и гиперкаталектических (с добавлением слогов).59 Сходная картина наблюдается в поэзии Набокова, однако доля акаталектических клаузул у него на 2,2–4,7 % меньше, чем во всех периодах истории русского стиха, что является чрезвычайно высоким показателем для клаузульных форм. Иными словами, для Набокова в большей степени характерно стремление маркировать границы между ритмическими отрезками (строками) с помощью клаузул. Важно подчеркнуть, что строки в поэтических текстах Набокова расподобляются, как правило, не за счет усечения, а за счет добавления слогов — каталектических окончаний у него в 8 раз меньше, чем гиперкаталектических. В перспективе развития русского стиха такое соотношение выглядит абсолютно нетрадиционным, поскольку доля каталектических клаузул от XVIII к ХХ веку кратно возрастала, а гипердактилических, напротив, заметно снижалась.
Нетипичные для русской поэзии корреляции метрических и клаузульных форм появляются у Набокова в каждом из классических метров. В хорее крайне низка доля гиперкаталектических окончаний (2,7 % при 9,3 % в среднем в русской поэзии). В ямбе гиперкаталектические клаузулы, напротив, встречаются чаще, чем в целом у русских авторов (56,9 % стихов на фоне среднестатистических 51,1 %). Столь же заметно расходятся с общими данными по русскому стиху данные по клаузулам в трехсложниках Набокова.60
Установкой на освобождение от влияния традиции и разработку непредсказуемых, «динамических» форм определяется также использование рифмы. Набоковские тексты, как правило, рифмованы: их доля составляет 90,7 %, тогда как написанных белым стихом — 6,7 %, полурифмованным (с регулярным чередованием рифмованных и холостых строк) — 2,6 %. Вместе с тем в белом стихе решены объемные произведения («Трагедия господина Морна», драмы «Смерть», «Дедушка», «Полюс» и др.), поэтому в статистике строк его доля достигает 24,6 %. В каждой из трех названных групп встречаются тексты с разнообразными ритмическими перебоями. Так, белый стих использован не только в сочетании с традиционным 5-стопным ямбом, но и с неравноударными ямбами, трехсложниками с переменной анакрузой, дольниками. Кроме того, помимо более простых структур, в которых встречаются окончания одного или двух родов, не раз появляются чередования клаузул трех видов («Снег», «Овцы» и др.). Аналогичным образом в полурифмованных стихотворениях эффект обманутого ожидания создается за счет изменения способа рифмовки, слогового объема окончаний, стихотворного размера («Кто меня повезет…», фрагмент «Полюбил я Лолиту, как Вирджинию — По…» из романа «Лолита» и др.). В рифмованном же стихе одним из выразительных способов преодоления ритмической инерции является включение холостых строк. Они появляются в нетождественных, одиночных строфах, вольнорифмованном стихе. Вольная рифмовка в таких произведениях неоднократно разрабатывается в сочетании с вольными размерами и переходными метрическими формами («О правителях», «Знаешь веру мою?» и др.).61
Нарушение ритмической инерции происходит и на уровне строфики — в нетождественных строфах, строфах сквозной рифмовки, твердых формах, их дериватах. Так, среди нетождественных строф встречаются исключительно редкие для русской поэзии маргинальные формы, в которых расподобление строф по одним параметрам (схеме рифмовки, роду окончаний, количеству строк, метрическому строению) сопровождается уподоблением по другим параметрам. Структуры такого типа обладают признаками как регулярных, так и нерегулярных нетождественных строф; в основе их композиции чаще лежит принцип не трансляционной симметрии, более привычной для русской поэзии, а симметрии зеркальной («Тихая осень», «Как я люблю тебя» и др.).62
Подсчеты, сделанные на основе полного корпуса всех доступных исследователям текстов Набокова, демонстрируют богатство его метрического репертуара: он включает 47 самостоятельных размеров, что кратно превышает аналогичные показатели по творчеству поэтов предшествующих эпох и сопоставимо с данными по разнообразию размеров у многих экспериментаторов начала ХХ века.
Обобщая сказанное, можно квалифицировать стих Набокова, Платонова и Вагинова не как экспериментальный, а именно как маргинальный, поскольку мы не найдем здесь тех ярких открытий, которые характерны для Серебряного века и в целом первой половины XX века: экзотических твердых стихотворных форм и строф, которые культивировали В. Я. Брюсов, И. Северянин и др.; обилия неравносложных, диссонансных и левосторонних рифм, которыми отличались футуристы и конструктивисты; разнообразия чистотонических размеров, являющихся настоящим завоеванием эпохи. Тем не менее именно в их поэзии сформулированный Ю. Н. Тыняновым конструктивный фактор стиха — «фактор сукцессивности речевого материала»63 — реализует себя максимально, делая почти непредсказуемой организацию каждой следующей ритмической единицы (стиха или строфы) за счет постоянно меняющихся параметров их организации (неожиданное увеличение или сокращение междуиктового интервала, смена анакрузы или клаузулы, появление холостых стихов в контексте рифмованных, изменение объема или структуры строфы).
Показательным представляется тот факт, что каждый из поэтов начинает свой творческий путь с подражания современной поэзии. В частности, первый сборник Набокова «Стихи» (1916) в метрическом отношении наиболее разнообразен (здесь использовано 23 самостоятельных размера) и, помимо 6-стопного и разностопного хореев, 4-стопного, 5-стопного, 6-стопного и вольного ямбов, дактилей, амфибрахиев и анапестов (все — 3-стопные, 4-стопные или разностопные), включает стопные 6-иктные логаэды, строчные логаэды, дольники и тактовики. Следующие сборники — «Два пути» (1918), «Гроздь» (1922/23), «Горний путь» (1923), «Стихотворения 1929–1951» (1952), «Poems and Problems» (1970) — демонстрируют постепенное сужение метрического репертуара; в последних двух сборниках отсутствуют хореи, крайне редки неклассические размеры. Подготовленный при жизни самим Набоковым, но опубликованный уже после его смерти итоговый сборник «Стихи» (1979) более разнообразен, однако за счет включения в него написанных ранее стихотворений.
Точно таким же путем идет Платонов, у которого стихи, датированные 1918 годом, метрически наиболее разнообразны: здесь нет «банального» 4-стопного хорея, но есть 3-стопный и 5-стопный, наряду с привычными ямбическими размерами — короткий 2-стопный ямб, все трехсложные метры, двусложник и трехсложник с переменной анакрузой, логаэд и разноиктный дольник. После 1921 года метрический репертуар резко сужается, поэт больше не использует трехсложные размеры, почти отказывается от неклассических, а к ямбу обращается лишь эпизодически в его вольном варианте.
У Вагинова максимально разнообразен также первый период творчества (1919–1922 годы). Как отмечает Г. Р. Монахова, «с точки зрения репертуара размеров — в I периоде происходит освоение как традиционных для русского стиха размеров»: 4-стопных, 5-стопных, вольных ямбов, 4-стопного амфибрахия, «так и размеров, активное использование которых началось только в „экспериментальном“ серебряном веке» — дольников, тактовиков, акцентного стиха. Соотношение классических и неклассических размеров в этом периоде «соответствует общим данным по стиху современников (3:1 и 4:1)», а в последующих периодах, как отмечает исследовательница, наблюдается только увеличение доли классических размеров, и в частности ямбов.64
Думается, именно стратегия интенсификации напряжения между стиховыми единицами, максимальное усиление сукцессивности восприятия, усложняющее понимание стихотворной речи, постепенно приводит каждого из поэтов к прозе, о «странности» и сложности которой написано немало и вполне обстоятельно. Будь то эклектика стиля, интертекстуальная перенасыщенность и «размытость сюжета <…> многослойной прозы»65 Вагинова; герметичный стиль реалистичной антиутопии Платонова, пишущего, по определению А. Г. Битова, «каким-то дохристианским языком первобытного зарождающегося сознания»;66 или постоянные нарушения установленной конвенции у Набокова с необычными поворотами сюжета, нарушениями логической связи между сюжетными положениями, смешением авторского «я» и «я» героя-повествователя, осложненные игрой созвучиями, парадоксальными в контексте прозаической наррации.
1 Битов А. Г. Трижды Платонов // Битов А. Г. Пятое измерение: На границе времени и пространства. 2-е изд. Владивосток, 2007. С. 75.
2 Эпштейн М. Н. Ирония идеала. Парадоксы русской литературы. М., 2015. С. 131.
3 Чуковский Н. К. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 338.
4 Цит. по: Никольская Т. Л. Трагедия чудаков // Вагинов К. К. Козлиная песнь. Труды и дни Свистонова. Бамбочада. М., 1989. С. 5.
5 См.: Кормилов С. И. Русская литература 20–90-х годов XX века: основные закономерности и тенденции // История русской литературы XX века (20–90-е годы): Основные имена. М., 1998. С. 12.
6 См.: Буренина О. Д. Литература — «остров мертвых» (Набоков и Вагинов) // В. В. Набоков: pro et contra. Материалы и исследования о жизни и творчестве В. В. Набокова. Антология: В 2 т. СПб., 2001. Т. 2. С. 471–484.
7 См.: Евлампиев И. И. А. Платонов и В. Набоков: два наследника философской традиции Ф. Достоевского // Русский логос — 2: Модерн — границы контроля. Материалы междунар. философской конф., Санкт-Петербург, 25–28 сентября 2019 г. СПб., 2019. С. 435–442; Эпштейн М. Н. Ирония идеала. Парадоксы русской литературы. С. 131–133.
8 См.: Григорьева Н. Спрессованная культура: Литературный «ресайклинг» в позднем авангарде и соцреализме // Новое литературное обозрение. 2021. № 3 (169). С. 33–47.
9 См.: Федотов О. И. Поэзия Владимира Набокова-Сирина. Ставрополь, 2010. С. 11, прим. 2.
10 Смит Дж. Русский стих Набокова // Смит Дж. Взгляд извне: Статьи о русской поэзии и поэтике. М., 2002. С. 115.
11 Давыдов Д. М. Русская наивная и примитивная поэзия: генезис, эволюция, поэтика. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Самара, 2004. С. 13.
12 Ковалев П. А. Заумь Хлебникова в традиции русской поэзии // Филологические исследования: Сб. науч. трудов в честь Г. Б. Курляндской. Орел, 2002. С. 109.
13 Брюсов В. Я. Среди книг // Печать и революция. 1923. № 6. С. 69.
14 См.: Ковалев П. А. Поэтический дискурс Андрея Платонова // Андрей Платонов и художественные искания XX века: Проблемы рецепции. Воронеж, 2019. С. 183.
15 Чертков Л. Н. Поэзия Константина Вагинова // Вагинов К. К. Собр. стихотворений. Мюнхен, 1982. С. 229.
16 Монахова Г. Р. Метрика и строфика К. К. Вагинова // Петербургская стихотворная культура: материалы по метрике, строфике и ритмике петербургских поэтов. СПб., 2008. С. 455.
17 Начало этим исследованиям, создавшим основы современного стиховедения, было положено статьями А. Белого о 4-стопном ямбе (см.: Белый А. Символизм. М., 1910), продолжено Б. В. Томашевским, впервые применившим данные ритмических параметров для атрибуции текста (см.: Томашевский Б. В. Пятистопный ямб Пушкина // Очерки по поэтике Пушкина. Берлин, 1923. С. 7–143), работами Г. А. Шенгели и К. Ф. Тарановского, который впервые ввел в научный оборот данные по ритмической эволюции всех равностопных русских двусложников (от 3-стопных до 6-стопных) (см.: Тарановски К. Руски дводелни ритмови. Београд, 1953).
18 Этот принцип окончательно сложился в работах М. Л. Гаспарова (см.: Гаспаров М. Л. 1) Современный русский стих: Метрика и ритмика. М., 1974; 2) Очерк истории русского стиха: Метрика, ритмика, рифма, строфика. М., 2000), был реализован в сборнике «Русское стихосложение XIX в.: Материалы по метрике и строфике русских поэтов» (М., 1979), использован для описания метрико-строфических репертуаров русских поэтов в целом ряде статей и коллективных монографий второй половины ХХ века (см. исследования П. А. Руднева, В. Е. Холшевникова, К. Д. Вишневского, М. Ю. Лотмана, О. И. Федотова, С. И. Кормилова, С. А. Матяш, Л. Е. Ляпиной и др.). На основе этого же принципа была сформулирована инструкция для описания метрики и строфики русского литературного стиха в изданиях: Петербургская стихотворная культура: материалы по метрике, строфике и ритмике петербургских поэтов. СПб., 2008; Петербургская стихотворная культура — II: Материалы по метрике, строфике и рифме петербургских поэтов. СПб., 2013.
19 См.: Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха. С. 316 (таблица 3). Для удобства сравнения абсолютные числа переведены в проценты.
20 Учтены данные по оригинальным текстам (см.: Бутовская С. А., Захарова В. М., Монахова Г. Р. Метрика и строфика И. Ф. Анненского // Петербургская стихотворная культура — II: Материалы по метрике, строфике и рифме петербургских поэтов. С. 109).
21 См.: Руднев П. А. Метрический репертуар А. Блока // Блоковский сборник. II: Труды Второй науч. конф., посвящ. изучению жизни и творчества А. А. Блока. Тарту, 1972. С. 261–265.
22 См.: Захарова В. М. Система стиха русского акмеизма. Выпускная квалификационная работа … магистра филологии. СПбГУ; филологический факультет; кафедра истории русской литературы. СПб., 2014. С. 67–68.
23 См.: Шерр Б. П. Метрика и строфика Черубины де Габриак (в печати). Выражаем искреннюю признательность Барри Шерру за возможность сослаться на его данные.
24 См.: Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха. С. 316 (таблица 3).
25 См.: Лалетина О. С. Метрика и строфика И. С. Рукавишникова // Петербургская стихотворная культура: Материалы по метрике, строфике и ритмике петербургских поэтов. С. 203.
26 См.: Чебучева Е. П. Метрико-строфический репертуар В. Ф. Ходасевича // Тверьянович К. Ю., Чебучева Е. П. Поэтика сборника Б. К. Лившица «Флейта Марсия». Метрико-строфический репертуар В. Ф. Ходасевича. СПб., 2004. С. 27.
27 См.: Ляпина Л. Е. Метрический и строфический репертуар К. Д. Бальмонта // Проблемы теории стиха. Л., 1984. С. 188–190.
28 См.: Захарова В. М. Система стиха русского акмеизма. С. 62–63.
29 См.: Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха. С. 316 (таблица 3).
30 См.: Гаспаров М. Л. Русский трехударный дольник XX в. // Теория стиха. Л., 1968. С. 66, 88–89.
31 См.: Захарова В. М. Система стиха русского акмеизма. С. 72–73.
32 См.: Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха. С. 316 (таблица 3).
33 См.: Монахова Г. Р. Метрика и строфика К. К. Вагинова. С. 434.
34 В настоящей статье здесь и далее использованы данные по метрике и строфике Платонова, полученные Лу Яцзе. Выражаем Лу Яцзе искреннюю благодарность за предоставленную возможность работы с данными до их публикации.
35 См.: Лалетина О. С., Хворостьянова Е. В. «Консервативный» стих В. В. Набокова: специфика построения стиховой вертикали // Научный диалог. 2022. Т. 11. № 9. С. 201.
36 См.: Вишневский К. Д. Русская метрика XVIII века // Вопросы литературы XVIII века. Пенза, 1972. С. 238–239 (Учен. зап. Пензенского гос. педагогического ин-та им. В. Г. Белинского. Т. 123. Сер. филологическая).
37 См.: Там же.
38 См.: Лотман М. Ю. Метрика и строфика А. Х. Востокова // Русское стихосложение XIX в.: Материалы по метрике и строфике русских поэтов. С. 115–144.
39 Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха. С. 216.
40 См.: Тверьянович К. Ю. Метрика и строфика Б. К. Лившица // Петербургская стихотворная культура: Материалы по метрике, строфике и ритмике петербургских поэтов. С. 363.
41 См.: Шерр Б. П. Метрика и строфика В. А. Комаровского // Петербургская стихотворная культура — II: Материалы по метрике, строфике и рифме петербургских поэтов. С. 257.
42 См.: Павлова М. М. Метрический и строфический репертуар Саши Черного // Проблемы теории стиха. С. 194.
43 См.: Шерр Б. П. Метрика и строфика В. А. Комаровского. С. 257.
44 См.: Павлова М. М. Метрический и строфический репертуар Саши Черного. С. 193.
45 Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха. С. 216.
46 См.: Захарова В. М. Метрика и строфика Г. В. Адамовича // Петербургская стихотворная культура — II: Материалы по метрике, строфике и рифме петербургских поэтов. С. 283–284.
47 См.: Тверьянович К. Ю. Метрика и строфика Б. К. Лившица. С. 415–417.
48 Данные о стихе Гумилева см.: Захарова В. М. Система стиха русского акмеизма. С. 42. О показателе разнообразия стиховых форм подробнее см.: Лалетина О. С., Хворостьянова Е. В. «Консервативный» стих В. В. Набокова: квантитативные методы исследования и проблема интерпретации результатов (Статья первая) // Новый филологический вестник. 2022. № 1 (60). С. 114–123.
49 См.: Монахова Г. Р. Метрика и строфика К. К. Вагинова. С. 434.
50 См.: Вишневский К. Д. Русская метрика XVIII века. С. 236.
51 Матяш С. А. Вольный ямб русской поэзии XVIII–XIX вв.: жанр, стиль, стих. СПб., 2011. С. 57.
52 Цит. по: Чертков Л. Н. Поэзия Константина Вагинова. С. 217.
53 См.: Монахова Г. Р. Метрика и строфика К. К. Вагинова. С. 449.
54 См.: Павлова М. М. Метрический и строфический репертуар Саши Черного. С. 193.
55 См.: Вишневский К. Д. Русская метрика XVIII века. С. 239.
56 См.: Шерр Б. П. Метрика и строфика В. А. Комаровского. С. 277.
57 См.: Монахова Г. Р. Метрика и строфика К. К. Вагинова. С. 435.
58 Ковалев П. А. Поэтический дискурс Андрея Платонова. С. 181–182.
59 Подробнее см.: Хворостьянова Е. В. Корреляция метрики и каталектики в русской силлаботонике XVIII — начала XXI вв. // Проблемы поэтики и стиховедения: Материалы VIII Международной науч.-теоретической конф., посвященной 90-летию КазНПУ имени Абая (24–26 мая 2018 г.). Алматы, 2018. С. 254.
60 Подробнее см.: Laletina O. S., Khvorostyanova E. V. Catalectics of V. V. Nabokov’s Classical Verse in the Context of Russian Poetic Tradition // Proceedings of the International Conference «Process Management and Scientific Developments» (Birmingham, United Kingdom, July 21, 2021). Melbourne, 2021. Part 1. P. 47–51.
61 Подробнее см.: Лалетина О. С., Хворостьянова Е. В. «Консервативный» стих В. В. Набокова: специфика построения стиховой вертикали. С. 204–207.
62 Подробнее см.: Лалетина О. С., Хворостьянова Е. В. Нетождественная строфика В. В. Набокова в контексте русского стиха XIX–XX веков // Научный диалог. 2022. Т. 11. № 4. С. 300–317.
63 Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка // Тынянов Ю. Н. Литературный факт. М., 1993. С. 54.
64 Монахова Г. Р. Метрика и строфика К. К. Вагинова. С. 452.
65 Никольская Т. Л. Трагедия чудаков. С. 11, 17.
66 Битов А. Г. Трижды Платонов. С. 80.
About the authors
Olga S. Laletina
St. Petersburg State University
Author for correspondence.
Email: olalet@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-7482-4502
Associate Professor, Department of History of Russian Literature
Russian Federation, St. PetersburgElena V. Khvorostianova
St. Petersburg State University
Email: ekhvorost@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-8277-5085
Professor, Department of History of Russian Literature
Russian Federation, St. PetersburgReferences
- Bitov A. G. Trizhdy Platonov // Bitov A. G. Piatoe izmerenie: Na granitse vremeni i prostranstva. 2-e izd. Vladivostok, 2007.
- Burenina O. D. Literatura — «ostrov mertvykh» (Nabokov i Vaginov) // V. V. Nabokov: pro et contra. Materialy i issledovaniia o zhizni i tvorchestve V. V. Nabokova. Antologiia: V 2 t. SPb., 2001. T. 2.
- Butovskaia S. A., Zakharova V. M., Monakhova G. R. Metrika i strofika I. F. Annenskogo // Peterburgskaia stikhotvornaia kul’tura — II: Materialy po metrike, strofike i rifme peterburgskikh poetov. SPb., 2013.
- Chebucheva E. P. Metriko-stroficheskii repertuar V. F. Khodasevicha // Tver’ianovich K. Iu., Chebucheva E. P. Poetika sbornika B. K. Livshitsa «Fleita Marsiia». Metriko-stroficheskii repertuar V. F. Khodasevicha. SPb., 2004.
- Chertkov L. N. Poeziia Konstantina Vaginova // Vaginov K. K. Sobr. stikhotvorenii. Miunkhen, 1982.
- Chukovskii N. K. Literaturnye vospominaniia. M., 1989.
- Davydov D. M. Russkaia naivnaia i primitivnaia poeziia: genezis evoliutsiia, poetika. Avtoref. dis. … kand. filol. nauk. Samara, 2004.
- Epshtein M. N. Ironiia ideala. Paradoksy russkoi literatury. M., 2015.
- Evlampiev I. I. A. Platonov i V. Nabokov: dva naslednika filosofskoi traditsii F. Dostoevskogo // Russkii logos — 2: Modern — granitsy kontrolia. Materialy mezhdunar. filosofskoi konf., Sankt-Peterburg, 25–28 sentiabria 2019 g. SPb., 2019.
- Fedotov O. I. Poeziia Vladimira Nabokova-Sirina. Stavropol’, 2010.
- Gasparov M. L. Ocherk istorii russkogo stikha: Metrika, ritmika, rifma, strofika. M., 2000.
- Gasparov M. L. Russkii trekhudarnyi dol’nik XX v. // Teoriia stikha. L., 1968.
- Gasparov M. L. Sovremennyi russkii stikh: Metrika i ritmika. M., 1974.
- Grigor’eva N. Spressovannaia kul’tura: Literaturnyi «resaikling» v pozdnem avangarde i sotsrealizme // Novoe literaturnoe obozrenie. 2021. № 3 (169).
- Khvorost’ianova E. V. Korreliatsiia metriki i katalektiki v russkoi sillabotonike XVIII — nachala XXI vv. // Problemy poetiki i stikhovedeniia: Materialy VIII Mezhdunarodnoi nauch.-teoreticheskoi konf., posviashchennoi 90-letiiu KazNPU imeni Abaia (24–26 maia 2018 g.). Almaty, 2018.
- Kormilov S. I. Russkaia literatura 20–90-kh godov XX veka: osnovnye zakonomernosti i tendentsii // Istoriia russkoi literatury XX veka (20–90-e gody): Osnovnye imena. M., 1998.
- Kovalev P. A. Poeticheskii diskurs Andreia Platonova // Andrei Platonov i khudozhestvennye iskaniia XX veka: Problemy retseptsii. Voronezh, 2019.
- Kovalev P. A. Zaum’ Khlebnikova v traditsii russkoi poezii // Filologicheskie issledovaniia: Sb. nauch. trudov v chest’ G. B. Kurliandskoi. Orel, 2002.
- Laletina O. S. Metrika i strofika I. S. Rukavishnikova // Peterburgskaia stikhotvornaia kul’tura: materialy po metrike, strofike i ritmike peterburgskikh poetov. SPb., 2008.
- Laletina O. S., Khvorost’ianova E. V. «Konservativnyi» stikh V. V. Nabokova: kvantitativnye metody issledovaniia i problema interpretatsii rezul’tatov (Stat’ia pervaia) // Novyi filologicheskii vestnik. 2022. № 1 (60).
- Laletina O. S., Khvorost’ianova E. V. «Konservativnyi» stikh V. V. Nabokova: spetsifika postroeniia stikhovoi vertikali // Nauchnyi dialog. 2022. T. 11. № 9.
- Laletina O. S., Khvorost’ianova E. V. Netozhdestvennaia strofika V. V. Nabokova v kontekste russkogo stikha XIX–XX vekov // Nauchnyi dialog. 2022. T. 11. № 4.
- Laletina O. S., Khvorostyanova E. V. Catalectics of V. V. Nabokov’s Classical Verse in the Context of Russian Poetic Tradition // Proceedings of the International Conference «Process Management and Scientific Developments» (Birmingham, United Kingdom, July 21, 2021). Melbourne, 2021. Part 1.
- Liapina L. E. Metricheskii i stroficheskii repertuar K. D. Bal’monta // Problemy teorii stikha. L., 1984.
- Lotman M. Iu. Metrika i strofika A. Kh. Vostokova // Russkoe stikhoslozhenie XIX v.: Materialy po metrike i strofike russkikh poetov. M., 1979.
- Matiash S. A. Vol’nyi iamb russkoi poezii XVIII–XIX vv.: zhanr, stil’, stikh. SPb., 2011.
- Monakhova G. R. Metrika i strofika K. K. Vaginova // Peterburgskaia stikhotvornaia kul’tura: materialy po metrike, strofike i ritmike peterburgskikh poetov. SPb., 2008.
- Nikol’skaia T. L. Tragediia chudakov // Vaginov K. K. Kozlinaia pesn’. Trudy i dni Svistonova. Bambochada. M., 1989.
- Pavlova M. M. Metricheskii i stroficheskii repertuar Sashi Chernogo // Problemy teorii stikha. L., 1984.
- Peterburgskaia stikhotvornaia kul’tura — II: Materialy po metrike, strofike i rifme peterburgskikh poetov. SPb., 2013.
- Peterburgskaia stikhotvornaia kul’tura: Materialy po metrike, strofike i ritmike peterburgskikh poetov. SPb., 2008.
- Rudnev P. A. Metricheskii repertuar A. Bloka // Blokovskii sbornik. II: Trudy Vtoroi nauch. konf., posviashch. izucheniiu zhizni i tvorchestva A. A. Bloka. Tartu, 1972.
- Russkoe stikhoslozhenie XIX v.: Materialy po metrike i strofike russkikh poetov. M., 1979.
- Sherr B. P. Metrika i strofika V. A. Komarovskogo // Peterburgskaia stikhotvornaia kul’tura — II: Materialy po metrike, strofike i rifme peterburgskikh poetov. SPb., 2013.
- Smit Dzh. Russkii stikh Nabokova // Smit Dzh. Vzgliad izvne: Stat’i o russkoi poezii i poetike. M., 2002.
- Taranovski K. Ruski dvodelni ritmovi. Beograd, 1953.
- Tver’ianovich K. Iu. Metrika i strofika B. K. Livshitsa // Peterburgskaia stikhotvornaia kul’tura: Materialy po metrike, strofike i ritmike peterburgskikh poetov. SPb., 2008.
- Tynianov Iu. N. Problema stikhotvornogo iazyka // Tynianov Iu. N. Literaturnyi fakt. M., 1993.
- Vishnevskii K. D. Russkaia metrika XVIII veka // Voprosy literatury XVIII veka. Penza, 1972 (Uchen. zap. Penzenskogo gos. pedagogicheskogo in-ta im. V. G. Belinskogo. T. 123. Ser. filologicheskaia).
- Zakharova V. M. Metrika i strofika G. V. Adamovicha // Peterburgskaia stikhotvornaia kul’tura — II: Materialy po metrike, strofike i rifme peterburgskikh poetov. SPb., 2013.
- Zakharova V. M. Sistema stikha russkogo akmeizma. Vypusknaia kvalifikatsionnaia rabota… magistra filologii. SPbGU; filologicheskii fakul’tet; kafedra istorii russkoi literatury. SPb., 2014.