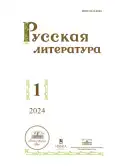On a writers’ friendship: M. M. Prishvin and S. T. Grigoryev
- Authors: Nikitin E.N.1
-
Affiliations:
- A. M. Gorky Institute of World Literature, Russian Academy of Sciences
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 220-227
- Section: Публикации и сообщения
- URL: https://journal-vniispk.ru/0131-6095/article/view/257543
- DOI: https://doi.org/10.31860/0131-6095-2024-1-220-227
- ID: 257543
Full Text
Abstract
The article outlines the story of the relationship between M. M. Prishvin and S. T. Grigoryev (based on their correspondence). S. T. Grigoryev was published a lot, until the Rapp critic S. Gavrilov made a public statement that S. T. Grigoriev’s artistic pursuits were hostile to the Marxist-Leninist theory. Gorky helped the writer to make a literary comeback. Grigoriev resumed his correspondence with him through the mediation of Prishvin. The friendship between the two writers continued until S. T. Grigoriev’s death in 1953. The data presented in the article offer new insights into the personality of M. M. Prishvin.
Keywords
Full Text
Творчество Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954) всегда вызывало интерес у широкого круга читателей. Этот интерес еще больше усилился после того, как в 1991–2019 годах были впервые полностью напечатаны дневники Пришвина.
Один из современных исследователей справедливо отметил, что особенностью творческой биографии Пришвина является тесное переплетение его жизненного пути «с деятельностью целого ряда представителей отечественной культуры, науки и политики».1 Круг общения Пришвина был широким. Однако число лиц, входивших в его близкое окружение, — невелико. Мы расскажем о дружбе Пришвина, продолжавшейся более четверти века, — с Сергеем Тимофеевичем Григорьевым (наст. фам. Григорьев-Патрашкин; 1875–1953). Это писатель с не очень громким именем, но его книги, адресованные юношеству, востребованы до сих пор. Георгий Шторм в предисловии к очередному изданию исторической повести Григорьева «Александр Суворов» (1939) писал: «В 1899 году он (С. Т. Григорьев. — Е. Н.) познакомился с Алексеем Максимовичем Горьким, печатавшим свои фельетоны в „Самарской газете“. Вскоре (4 декабря 1899 года. — Е. Н.) и Григорьев поместил там рассказ „Нюта“, задуманный им и для взрослых, и для детей.
До 1917 года Григорьев жил во многих городах Поволжья. „Нанесенный на карту Российской империи, мой жизненный путь, — писал в автобиографии Сергей Тимофеевич, — очень затейливо по ней петляет“. А с 1922 года он прочно осел под Москвой, в Сергиевом Посаде, городе, переименованном в 1930 году в Загорск».2
В мае 1926 года в Сергиевом, получившем статус города в 1925 году, купил себе дом Пришвин. Вскоре два литератора подружились. Впервые имя Григорьева встречается в дневнике Пришвина 12 июля 1926 года: «С. Т. Григорьеву, высокому боярину Берендеева царства с глубоким уважением и преданностью. Михаил Пришвин».3 Это копия дарственной надписи, сделанной Пришвиным на его книге «Родники Берендея» (М.; Л., 1926). Следующее упоминание появляется через три месяца — 11 октября — и связано с пребыванием в гостях у Пришвина приехавшего из Москвы поэта В. А. Пяста (Пестовского): «Пяст, влюбленный, попал в сумасшедший дом: ведь один волосок бы — и я попал. Потом его Прекрасная Дама (Н. А. Омельянович. — Е. Н.) явилась спасать его и вернула к жизни, а тетка уговорила ее для здоровья поэта сделаться его женой, и она вышла за него и настояла, чтобы он спал с ней. Оба ринулись в ад и воспитали в себе друг к другу величайшую ненависть. <…> Как страшно смеется Пяст: в тот момент, когда всякий другой, здоровый человек начинает смеяться, он задумывается и, сообразив там где-то что-то, потом с опозданием разражается смехом отдельным, непонятным и страшным другому, потому что нормального смеха уже и время пропущено. <…> Вечером пришли Григорьевы и нас исцелили от Пяста».4
Друзья-писатели навещали друг друга по разным поводам, например в связи с полным лунным затмением. Об этом свидетельствует пригласительная записка Пришвина от 7 декабря 1927 года:
«Дорогой Сергей Тимофеевич,
Еф<росинье> П<авловне>5 сделали операцию (восп<аление> надкостницы) и теперь она в состоянии жарить зайцев. А завтра полное лунное затмение. Мне пришло в голову по случаю полного лунного устроить нам частичное солнечное с клюквенной под зайцев и студень, который Вы так любите.
Начало затмения лунного без 8 м<инут> в 6 ч<асов> в<ечера>, к этому времени ждем Вас с Еленой Алексеевной,6 чтобы одновременно приступить к своему солнечному затмению частичному, и к середине лунного затмения в 7.35 м. достигнуть храбрости приветствовать луну словами, принятыми в Берендеевом царстве: — „Будьте уверены!“ — скажем луне. И когда она покажется: „выход луны из полутени“ в 10 ч. 17 мин. — будем приветствовать ее словами: „Что задумали, загадали“.
Ждем. М. Пришвин».7
Григорьев был не только участником дружеских застолий, но и первым слушателем написанного Пришвиным. Об этом говорит письмо критику Н. И. Замошкину от 24 января 1928 года: «Боюсь, дорогой Николай Иванович, свою статью читал я только Григорьеву, который ее не одобрил. Я ее не осознал и послал под контроль любящего Горького редактора сборника Груздева. Я знаю, что статья дефектна, но сомневаюсь, что она именно такая, какая нужна».8 Речь идет о мемуарном очерке «Мятежный наказ», который в итоге был напечатан в вышедшей под редакцией И. А. Груздева книге «Горький: Сборник статей и воспоминаний о М. Горьком» (М.; Л., 1928), хотя одно время автор допускал возможность его опубликования и в журнале «Новый мир», секретарем редакции которого был Н. И. Замошкин.
Встречи друзей происходили не только у них дома, но и у других жителей Сергиева. В январе 1928 года Пришвин написал Григорьеву:
«Дорогой Сергей Тимофеевич,
Александровы просят сегодня Вас с Еленой Алексеевной в 7 ч. вечера на блины. Мне поручено пригласить.
Будут Горский (писатель) с женой и другом, и мы с <Ефросиньей> Павловной.
Привет Елене Алексеевне.
М. Пришвин».9
Супруги Александровы (Анатолий Александрович и Евдокия (Авдотья) Тарасовна, ее Пришвин часто называл по-простецки — Тарасиха) — старожилы Сергиева, поселились здесь в 1910 году. В дневнике писателя чаще упоминается Евдокия Тарасовна, возможно, из-за ее некоторой схожести характером с автором записей. 9 апреля 1927 года Пришвин отметил: «Тарасиха — елецкий человек, специфически елецкое что-то: пренебрежение к идеологии (своим умом обойдемся); два типа умных купцов: „своим умом обойдемся“ (елецкие), и, напротив, вера в энциклопедию Брокгауза (белевские); в моей природе есть то и другое.
В моей природе есть от елецких купцов10 некоторое пренебрежение к ученому миру: „своим умом обойдемся“, и есть от белевских Игнатовых11 слепое доверие к ученым умам».12
Интересна дневниковая запись об Александровой, сделанная 18 мая 1927 года: «Розанов звал Тарасиху „бабой ягой“. Это понятно: она груба, форсирует-де „Мадам сан жен“, а он любил внутренних, извне стыдливых людей. Розанов был сам нежный, тихий человек с таким сильным чувством трагического, что не понимал даже шуток, сатиры и т. п. Розанов мог быть, однако, очень злым.
Тарасиха, деревенская баба, и знает всех писателей, Толстого близко даже. <…>
Тарасиха о Толстом: „У него была голова развращенная, потому он и требовал много любви от Софьи Андреевны, а здоровому телу не нужно много любви, и ум легко справляется при здоровом теле со страстью“».13
Обширные литературные знакомства Александрова приобрела через мужа. Анатолий Александрович еще в юности, в 1878 году, находясь на лечении в Старой Руссе, встретился с Ф. М. Достоевским, шестью годами позже познакомился с К. Н. Леонтьевым, по рекомендации которого в 1888 году был приглашен Л. Н. Толстым в репетиторы к сыну Андрею. В 1892–1898 годах Александров был издателем и ответственным редактором московского журнала «Русское обозрение», а с 1895 года — издателем газеты «Русское слово», что расширило круг его литературных знакомств. Он был не чужд литературному творчеству: Александров — автор ряда статей, напечатанных в различных периодических изданиях, а также книги «Стихотворения» (М., 1912).
Приглашенный к Александровым вместе с Пришвиными и Григорьевыми А. К. Горский сочинял стихи, выпустил книжку «Глубоким утром (Песнопения)» (М., 1913), но, главное, был философом, последователем учения Н. Ф. Федорова, вместе с Н. А. Сетницким написал исследование «Смертобожничество: Корень ересей, разделений и извращений истинного учения церкви. Догматические очерки. Ч. 1. Борьба со словом». Оно было напечатано в 1926 году в Харбине тиражом 100 экземпляров. С этой работой были знакомы Горький и Пришвин. 27 сентября 1926 года Горький написал О. Д. Форш: «Обрадован письмом Вашим, Ольга Дмитриевна, и буду очень благодарен, если Вы найдете свободный час, чтоб поделиться со мною мыслями Вашими о Федорове. Первый том статей его — редкость, был издан лет 20 тому назад в г. Верном. Третий подготовляется к изданию в Харбине почитателями Фед<орова>; во главе их стоит некто Н. А. Сетницкий. Группа эта выпустила в свет под титулом „Смертобожничество“ анонимную книжку в 80 страниц; цель книжки — реформа православия в духе „активности“. Ход мысли обнаруживает явное влияние Фед<орова> и, на мой взгляд, нечто языческое от В. В. Розанова. В критической части книжки немало интересного, но, к сожалению, „новая вера“ закончена пятикратной анафемой инако верующим. <…> А, в общем, как признак неугасающей сердечной мысли, весьма интересно и гораздо ценнее малокровных размышлений князя Трубецкого о „евразийстве“, размышлений, тоже позаимствованных у Федорова, о чем князь и соратники его — молчат».14
Пришвин в день встречи у Александровых, 13 января 1928 года, записал в дневник: «Читал книгу „Смертобожничество“, в которой автор, примыкая к Федорову, говорит, что истинная христианская идея — это победа человеком смерти, тогда как обычная <1 нрзб.> религий это, наоборот, обожествление смерти.
Горский говорит, что острое отношение Толстого к смерти явилось у него через Федорова. И еще, что уход Толстого есть очень сложное явление, до сих пор не разгаданное. Этим уходом Толстой будто бы зачеркивал все свое толстовство.
Тарасиха сказала: „Умрем-то, конечно, уж мы все, это никого не обойдет“. Горский сквозь зубы: „Все ли?“ Тарасиха странно посмотрела на него и продолжала: „Я себе место дешево купила в Лавре. Кто вам его охранять будет? — спрашивают меня. — Сама, — говорю. И правда, что мне стоит <1 нрзб.>, а дешево. Вот бы теперь, когда дешево продают места, всем бы…“ — Горский сквозь зубы: „Всем ли это нужно?“ Тарасиха вздрогнула: „Всем, батюшка, всем это“. — „Всем ли?“ — „Да в уме ли вы?“».15
«Смертобожничество» (как и один из его авторов), определенно, произвело на Пришвина впечатление — об этом свидетельствуют записи в дневнике писателя — от 31 июня 1928 года: «Был у меня Горский. Из этой беседы мне стало понятно, почему я не пишу романов («Кащеева цепь» — не роман, это жизнь). Начиная с „Онегина“ Пушкина русский роман отрицает роман (мысль Горского). Происхождение этого в распаде религии…»;16 от 9 июля: «Сегодня от мысли о болотах я каким-то образом перешел к босякам Максима Горького, а потом смертобожного Горского. Долго потом я распутывал этот клубок, в котором сошлись: я — певец болот, Горький — босяков, Горский — отщепенцев церкви. <…>
А Горький? разве его возвеличение босяка не есть, с одной стороны, гримаса человека, желающего попасть в хорошее общество: „Вы меня не принимаете, вы мерзавцы, нате вам босяка, и тот лучше вас!“ <…> Не забыть мне тоже Горского у Авдотьи Тарасовны, когда она попросту сказала: „Что другое, а помереть, батюшка, все помрем!“, в это время Горский поразил ее своим вопросом больше, чем Горький босяками, он спросил: „Все ли?“».17
Отношения, сложившиеся между супругами Григорьевыми, показывает дневниковая запись, сделанная Пришвиным 8 июня 1928 года: «Во вторник (5 Июня — 23 Мая) мы с <Ефросиньей> Павловной праздновали свои именины. Аленушка (Е. А. Григорьева. — Е. Н.) все испортила, вдруг взяла и выпалила: „Через восемь месяцев я умру“. Григорьев: „Ну, этого не говорят на именинах“. — „Мне надо лечиться“, — говорит она. — „И лечитесь! — отвечаю, — поезжайте“. — „Надо работать с Серг<еем> Тим<офеевичем>“. — „И работайте там“. — „А он может только на месте… ах, как он меня держит!“
Именины расстроились, и мы понимали все пружины их жизни: ему перевели 2 тысячи от Гиза аванс за то, что закабалился писать повесть для юношества в 30 листов в один год, полученные деньги возбудили в ней стремление ехать куда-то лечиться. Совсем глупенькая, а ему она одна; он перегружен невоплощенными мыслями, одиночеством, он держится ею за жизнь. Вот уж где видно-то происхождение творчества: такая глупенькая, некрасивая бабенка и это ему „Елена“!»18
В 1920-е годы Григорьев был популярным писателем. Регулярно выходили его книги, предназначенные, прежде всего, юношеству: повести «С мешком за смертью» (М.; Л., 1924), «Мальчий бунт» (М.; Л., 1925), «Тайна Ани Гай» (М.; Л., 1925), «Гибель Британии» (М.; Л., 1926), «Амба полосатый» (М.; Л., 1927), «Берко-кантонист» (М.; Л., 1927), сборник рассказов «Сигналы великанов» (М.; Л., 1925) и др. Названные произведения неоднократно переиздавались. В 1927 году московское кооперативное издательство «Никитинские субботники» выпустило «Собрание сочинений» Григорьева (увидели свет тома 1–4, 8). В том же году на экраны страны вышел фильм «Аня», снятый режиссером О. И. Преображенской по мотивам повестей Григорьева «С мешком за смертью» и «Тайна Ани Гай».
В это время Пришвин, помимо очерков о природе, пишет и печатает свое самое масштабное произведение — роман «Кащеева цепь». Его первые три звена были напечатаны в 1923 году в «Красной нови» (№ 3–5), звенья с четвертого по десятое — в «Новом мире» (1926. № 2–5; 1927. № 1, 11–12; 1928. № 4–7).
Ситуация для Григорьева изменилась после того, как критик С. Гаврилов в журнале «На литературном посту» постарался доказать, что «теоретические и художественные искания» писателя «враждебны марксистско-ленинской теории».19 Печататься стало трудно. Помощь Григорьев надеялся получить от Горького. Для этого необходимо было возобновить с ним переписку, активную в 1925–1926 годах, но затем прерванную. Содействовать в этом деле взялся Пришвин. Он написал автору «Жизни Клима Самгина» 4 мая 1932 года:
«Дорогой Алексей Максимович,
хорошо, приятно просить за человека, который сделает непременно больше, чем ему дадут: это известный Вам Сергей Тимофеевич Григорьев. В лице его остается теперь чуть ли не единственный писатель, способный дать нам эпопею русской жизни, накануне революции. Речь идет не о романе, подобном Вашему последнему, а о мемуарах, фактическом, драгоценнейшем материале, который хранит в себе такой умный, образованный и вообще очень способный и необыкновенный человек, как Григорьев. Бывают люди, которым не везет — вот он такой. Спасался он 14 лет революции в детской литературе, много там написал, стал знаменит там, но вдруг был „разъяснен“ и остался без куска хлеба, без работы, живет распродажей вещей. Я почему вздумал [обратиться] к Вам: не раз слышал от Григорьева о том, что Вы ему советовали и ждали от него эту эпопею. Переписка у Вас с ним оборвалась, и Вы поймете, что самому Григорьеву теперь неловко по личному делу обращаться к Вам. Между тем, Вы единственный, кто может понять, какую замечательную работу может сделать Григорьев. Не всем же служить, не всем ездить и писать очерки: очерки теперь могут все писать. Надо поддержать С<ергея> Т<имофеевича> таким образом: устроить ему заказ от Госуд<арственного> издательства — это раз. Но, к сожалению, сейчас на одном авансе трудно засесть за большую работу. Вот мне, напр<имер>, дают из Москвы хороший паек, просто дали за имя (сам даже не просил), и это очень хорошо, просто спасает. Григорьев при Вашем содействии мог бы получать такой же паек. <…>
Алексей Максимович! Как это будет хорошо, если большому, честному, способному человеку Вы дадите возможность делать свое дело!»20
Горький ответил через 9 дней, 13 мая:
«Дорогой Михаил Михайлович —
для того, чтоб предложить Гизу книгу С. Т. Григорьева, необходимо знать — хотя бы приблизительно — план или тему книги. Не можете ли Вы попросить его дать мне какие-нибудь коротенькие сведения по этому поводу?
Не отвечал так долго потому, что хотелось устроить дело с пайком для С<ергея> Т<имофеевича>, кажется, удалось».21
Вскоре после этого, 19 мая, Григорьев написал Горькому: «Письмо М<ихаила> М<ихайловича> к вам обо мне вышло из моего разговора с ним. Я малодушно пожаловался ему на свою суровую литературную судьбу, что вот — все иду околицей, тропочками…
М<ихаил> М<ихайлович> взялся мне помочь и написал вам, Алексей Максимович.
Вещь, о которой теперь идет речь, в целом едва ли выполнима — потому что сроки мои стали коротки (рабочие сроки). Задуманная мною поэма — о судьбах в революции русской технической интеллигенции. Только фрагменты — инженеры в литературе (раньше).
Гарин-Михайловский сам себя не видел в целом, так, как мы его видим теперь в отдалении. А что, кроме Гарина? Инженер Матиец Сергеева-Ценского?22 Кажется, и все.
Начало моей поэмы благодаря отваге Д. М. Ханина23 мне удалось протащить (с большим уроном) контрабандой через отдел детской литературы ГИЗа в 1930 году (три тома под общим заглавием «Революция на рельсах»). Теперь я должен бы написать еще 4 романа:
1) от воцарения Н<иколая> II, промышленное государство, Дальний Восток, Витте, японская война — до революции 1903–1906 гг. включительно; 2) ликвидация поместного дворянства — 1906–1913; 3) война, 1917 год, до октября — определеннее: постройка Мурманской дороги в условиях войны и революции; 4) 1917–1923. Поэма кончается гудками паровозов — воют над гробом Ленина».24
Реализовать замысел — «написать 4 романа» — Григорьеву не удалось. Но обращение к Горькому помогло — произведения Григорьева опять стали печатать.
Дружба двух живущих в Загорске писателей продолжалась.
7 октября 1932 года, накануне именин Григорьева, Пришвин написал коллеге по перу:
«Дорогой Сергей Тимофеевич,
к завтрашнему Вашему дню на жареное посылаю трех вальдшнепов от своей бедовой охоты. Водки нет в Сергиеве, если уедете с Еленой Алексеевной куда-нибудь, где водка есть, то, закусывая вальдшнепами, примите в себя и наше с Е<фросиньей> Павловной и всеми нашими поздравление и „будьте уверены“.
Будьте же уверены, не хворайте.
М. Пришвин».25
В феврале 1934 года, даря другу только что вышедшее в свет первое отдельное издание повести «Жень-шень» (М., 1934) и вспоминая о его участии в работе над сценарием кинофильма «Аня», Пришвин написал:
«Дорогой Сергей Тимофеевич!
Посылаю Вам свою новую книгу. Я получил предложение, если не повеление (от ЦК), к 1-му мая написать сценарий по этой книге. Пришлите, если можно, дельные книги по кино. Очень буду благодарен. Если возвратитесь к работе над сценариями, теперь я, вероятно, в состоянии помочь Вам при устройстве: мне теперь бабушка ворожит.
Привет Елене Алексеевне.
М. Пришвин».26
Кинофильм «Хижина старого Лувена», снятый по сценарию Пришвина режиссером А. А. Литвиновым, вышел на экраны в 1935 году.
В 1937 году Пришвин получил четырехкомнатную квартиру в Москве в писательском доме в Лаврушинском переулке. В 1938 году перебрался в столицу Григорьев.
Наступило 22 июня 1941 года. Началась Великая Отечественная война. Оба писателя по возрасту не подлежали призыву в армию, но каждый из них, в меру своих сил, стремился приблизить победу.
Григорьев заканчивает исторический роман о героической обороне Севастополя во время Крымской войны 1853–1856 годов — «Малахов курган». Его сокращенный вариант в 1941 году напечатал журнал «Пионер» (№ 3–6). Полный текст романа вышел в 1944 году в Военмориздате. Затем писатель принимается за повесть «Победа моря», рассказывающую о детстве адмирала С. О. Макарова. Она вышла отдельным изданием в 1945 году.
Незадолго перед войной, в 1940 году, Пришвин создает одно из самых лиричных своих произведений — книгу «Лесная капель». Она состоит из двух частей: первая — поэма «Фацелия», вторая часть сначала имела название «Мой дом», в окончательном варианте получила то же имя, что и вся книга — «Лесная капель». Это произведение в 1940 году стал печатать «Новый мир». В № 9 появилась «Фацелия». В № 10 — начало «Лесной капели». Затем произошло неожиданное: в сдвоенном № 11–12 вместо окончания «Лесной капели» читатели увидели статью С. Д. Мстиславского «Мастерство жизни и мастер слова». В ней критик обвинил Пришвина в аполитичности и назвал его мировоззрение «органически и непримиримо чуждым мироощущению человека, живущего подлинной, не отгороженной от борьбы и строительства жизнью».27
Но то, что некоторым показалось ненужным перед войной, в пору лихолетья стало необходимым для всех. В 1943 году «Советский писатель» выпустил обе части «Лесной капели» отдельным изданием.
О пикировке с Григорьевым (каких у них было немало за время многолетней дружбы) и о метаморфозе, произошедшей с «Лесной капелью», Пришвин сделал запись в дневнике 4 ноября 1943 года: «Русский неглупый и дельный человек в старину любил умом своим поиграть и вызвать на игру такую собеседника. Так вот вчера затащил меня Лева28 к Григорьеву Сергею Тимофеевичу; тот пригляделся ко мне, и вижу — до смерти ему хочется узнать, как я ориентируюсь в современности. Старый умник, чтобы выведать мои позиции, а потом повести свое наступление, так начал: — За время войны я пытался пророчествовать и у меня это не раз выходило, а теперь все спуталось <…> — Знаю, — подумал я, — старый умник — и хорошо понимаю тебя: никаким расчетом тут теперь ты не возьмешь, и не тебе быть пророком по нашему времени. — Как вы ориентируетесь? — спрашивает он. — Вы, наверно, о конце войны? — сказал я. И чтобы сразу сбить его, выпалил: — Думаю, что до конца столетия война не кончится.
Выстрел мой попал в цель. Старик взыграл: — Вот это так! — Но я не удручаюсь, — продолжал я, — концы войны вижу часто. Вот баба одна ждала, ждала… Да зачем тебе конец-то, спрашиваю, как зачем, говорит, хозяина жду. Вскоре после этого разговора приходит хозяин без руки и с белым билетом, вчистую. Ну вот, говорю ей, хозяин пришел, вот, значит, тебе и ждать нечего конца, кончилась твоя война. Кончилась, отвечает радостная баба, теперь опять будем жить. И я за нее порадовался. А вчера прихожу в „Советский писатель“, там мне говорят, что книжка моя о радости „Фацелия“ напечатана, та самая книжка, которую именно за радость и запретили перед войной. Война на носу, писали о ней, а он радуется. Теперь же понадобилась радость и книжку напечатали <…>.
Но, выйдя на улицу, я вспомнил себя всего, как писателя: именно, что я все свои 40 лет писательства писал о радости. Знаю, и всегда это знал и терзался, что меньше, много меньше давал, чем дано мне, но теперь ясно мне было, что может быть потому и мало давал, что писал только о радости, что, может быть, в этом я единственный писатель, и что быть таким очень трудно.
Да, да! Теперь понимаю вполне ад таких людей, как Григорьев. Он по природе своей рационалист и стремится для спасения людей что-то выдумать, изобрести. В сущности, он на тех же пружинах стоит, как большевики, но не большевик и не личник, как я: он не может быть личником, потому что по природе своей умник, изобретатель, строитель и втайне хочет господствовать».29
Увиденное и пережитое Григорьевым во время войны отразилось в созданной им в 1943–1944 годах «Повести нашего времени». Посылая ее рукопись в октябре 1944 года в редакцию журнала «Знамя», в сопроводительном письме Пришвин сказал: «Автор вовсе и не берет задачу изображения войны и тем самым не противопоставляет страдание мужеству. Автор изображает главным образом женщин в тылу <…>
Не пассивное чувство страданья действует в повести, а состраданье — источник активной любви.
Может быть, и вся повесть написана именно затем, чтобы против ожесточения нравов, порожденного войной, выставить творчески организующую силу любви».30
Но в журнале «Знамя» печатать произведение не стали. «Повесть нашего времени» впервые была опубликована Ярославским областным издательством в 1957 году.
В 1945 году война закончилась. Жизнь продолжалась. Идти по ней двум немолодым писателям становилось все труднее и труднее. Но узы дружбы, их связывающей, не разрывались. 23 августа 1951 года Пришвин написал Григорьеву:
«Дорогой Сергей Тимофеевич!
Услышал от Левы, что Вы болеете, хотел бы очень Вас навестить, но сам лежу с грыжей.
Здоровья желаю, конечно, и Вам и себе, но не это же для нас с Вами главное. Желаю Вам мира душевного.
Любящие Вас
Михаил и Валерия31
Пришвины».32
Сергея Тимофеевича Григорьева не стало 20 марта 1953 года. Эту смерть скрывали от Пришвина, не желая его волновать. Он узнал о случившемся почти через неделю, 26 марта записал в дневник: «20-го Марта умер С. Т. Григорьев, и Ершов33 вчера сказал, что меня сознательно не известили, чтобы не беспокоить. Русский был он человек, и до того русский, что позволил себе написать благодушную книгу о еврее (Берко-кантонист)».34
Михаил Михайлович Пришвин не на долго пережил друга — на не полных 10 месяцев. Автор светлой поэмы «Фацелия» окончил свое земное существование 16 января 1954 года. В поэме писатель признался: «Я был счастлив, и единственно чего мне еще не хватало, это чтобы счастливы, как я, были все».35 И каждый, кто сегодня читает Пришвина, становится хоть немного счастливее.
1 Подоксенов А. М. М. М. Пришвин и Б. Э. Калмыков (к истории несостоявшейся повести о «настоящем большевике») // Русская литература. 2020. № 2. С. 201.
2 Шторм Г. Сергей Тимофеевич Григорьев (1875–1953) // Григорьев С. Т. Александр Суворов. М., 2013. С. 6.
3 Пришвин М. М. Дневники. 1926–1927 / Подг. текста Л. А. Рязановой; комм. Я. З. Гришиной и Л. А. Рязановой. М., 2003. С. 102.
4 Там же. С. 144.
5 Жена Пришвина — Ефросинья Павловна (урожд. Бадыкина; 1883–1953).
6 Жена С. Т. Григорьева.
7 РГАЛИ. Ф. 2194. Оп. 1. Ед. хр. 392. Л. 11.
8 Там же. Ф. 2569. Оп. 1. Ед. хр. 352. Л. 2.
9 Там же. Ф. 2194. Оп. 1. Ед. хр. 392. Л. 6.
10 Елецким купцом был дед писателя — Дмитрий Иванович Пришвин.
11 Мать Пришвина Мария Ивановна (урожд. Игнатова; 1842–1914).
12 Пришвин М. М. Дневники. 1926–1927. С. 246.
13 Там же. С. 296–298.
14 Горький М. Полн. собр. соч. Письма: В 24 т. М., 2013. Т. 16. С. 142.
15 Пришвин М. М. Дневники. 1928–1929 / Подг. текста Л. А. Рязановой; комм. Я. З. Гришиной и Л. А. Рязановой. М., 2004. С. 10.
16 Там же. С. 85.
17 Там же. С. 103.
18 Там же. С. 65–66.
19 Гаврилов С. Творчество С. Григорьева // На литературном посту. 1931. № 4. С. 28.
20 «Писательство — трудное и ответственное дело»: Переписка М. Горького с М. Пришвиным / Вступ. статья, подг. текста и прим. Е. Н. Никитина // М. Горький: Материалы и исследования. М., 2014. Вып. 12. Горький. Неизвестные страницы истории (материалы и исследования). С. 381–382.
21 Горький М. Полн. собр. соч. Письма: В 24 т. Т. 21. С. 143–144.
22 Имеется в виду персонаж повестей С. Н. Сергеева-Ценского «Наклонная Елена» и «Суд» Матийцев.
23 Д. М. Ханин (1903–1937) — заведующий отделом детской и юношеской литературы Госиздата.
24 Горький — С. Т. Григорьев: Переписка / Подг. текста Р. П. Пантелеевой // Лит. наследство. 1963. Т. 70. Горький и советские писатели. Неизданная переписка. С. 140.
25 РГАЛИ. Ф. 2194. Оп. 1. Ед. хр. 392. Л. 3.
26 Там же. Л. 8. Скажем также о сохранившейся в архиве Григорьева записке без даты, относящейся, вероятно, к 1930-м годам: «С праздником, с Новым Годом, дорогие приятнейшие люди Елена Алексеевна и Сергей Тимофеевич, пожалуйте к нам сейчас есть гуся. / М. Пришвин» (Там же. Л. 12).
27 Мстиславский С. Мастерство жизни и мастер слова // Новый мир. 1940. № 11–12. С. 272.
28 Сын Пришвина Лев (1906–1957).
29 Пришвин М. М. Дневники. 1942–1943 / Подг. текста Я. З. Гришиной, А. В. Киселевой, Л. А. Рязановой; статья, комм. Я. З. Гришиной. М., 2012. С. 617–619.
30 Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. М., 1957. Т. 6. С. 802.
31 Вторая жена Пришвина — Валерия Дмитриевна (урожд. Ливорко; 1899–1979).
32 РГАЛИ. Ф. 2194. Оп. 1. Ед. хр. 392. Л. 21.
33 Ершов Григорий Александрович (1914–1998) — писатель, биограф Пришвина.
34 Пришвин М. М. Дневники. 1952–1954 / Подг. текста Я. З. Гришиной, Л. А. Рязановой; комм. Я. З. Гришиной. СПб., 2017. С. 318.
35 Пришвин М. М. Фацелия: Поэма // Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. М., 1983. Т. 5. С. 11.
About the authors
Evgenii N. Nikitin
A. M. Gorky Institute of World Literature, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: nikitin18@yandex.ru
Senior Researcher
Russian FederationReferences
- Gor’kii — S. T. Grigor’ev: Perepiska / Podg. R. P. Panteleeva // Lit. nasledstvo. 1963. T. 70. Gor’kii i sovetskie pisateli. Neizdannaia perepiska.
- Gor’kii M. Poln. sobr. soch. Pis’ma: V 24 t. M., 2013–2019. T. 16, 21.
- «Pisatel’stvo — trudnoe i otvetstvennoe delo»: Perepiska M. Gor’kogo s M. Prishvinym / Vstup. stat’ia, podg. teksta i prim. E. N. Nikitina // M. Gor’kii: Materialy i issledovaniia. M., 2014. Vyp. 12. Gor’kii. Neizvestnye stranitsy istorii (materialy i issledovaniia).
- Podoksenov A. M. M. M. Prishvin i B. E. Kalmykov (k istorii nesostoiavsheisia povesti o «nastoiashchem bol’shevike») // Russkaia literatura. 2020. № 2.
- Prishvin M. M. Dnevniki. 1926–1927 / Podg. teksta L. A. Riazanovoi; komm. Ia. Z. Grishinoi i L. A. Riazanovoi. M., 2003.
- Prishvin M. M. Dnevniki. 1928–1929 / Podg. teksta L. A. Riazanovoi; komm. Ia. Z. Grishinoi i L. A. Riazanovoi. M., 2004.
- Prishvin M. M. Dnevniki. 1942–1943 / Podg. teksta Ia. Z. Grishinoi, A. V. Kiselevoi, L. A. Riazanovoi; stat’ia, komm. Ia. Z. Grishinoi. M., 2012.
- Prishvin M. M. Dnevniki. 1952–1954 / Podg. teksta Ia. Z. Grishinoi, L. A. Riazanovoi; komm. Ia. Z. Grishinoi. SPb., 2017.
- Prishvin M. M. Sobr. soch.: V 6 t. M., 1957. T. 6.
- Prishvin M. M. Sobr. soch.: V 8 t. M., 1983. T. 5.
- Shtorm G. Sergei Timofeevich Grigor’ev (1875–1953) // Grigor’ev S. T. Aleksandr Suvorov. M., 2013.