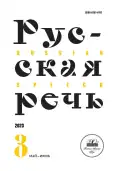“They Don’t Choose the Times...”: an Essay on the Alexander Kushner’s Doxa and Paradoxes (Idiomatics and Ideology)
- Authors: Uspenskij P.F.1
-
Affiliations:
- University for Foreigners of Siena
- Issue: No 3 (2023)
- Pages: 102-116
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0131-6117/article/view/128700
- DOI: https://doi.org/10.31857/S013161170026403-2
- ID: 128700
Full Text
Abstract
The article is focused on the Alexander Kushner’s poem “They don’t Choose the Times...”. We analyze the whole text and its first lines “They don't choose the times, / They live and die in them”, which have been fixed in the Russian proverbial and quotation fund. Based on the linguistic analysis of the text, in particular, on the idiomatic approach, I attempt to deconstruct the poem. As it is shown, the key maxim oscillates between universal and situational meaning. The text of the poem realizes a rhetorical system of arguments to accept modernity and turns the paradoxical maxim into a rhetorical argument. The final stanza deserves special attention. The phrase from the criminal procedural discourse “to take fingerprints” plays the main role in it. The use of this figure of speech betrays the subject’s specific understanding of history and modernity. The system of text arguments appears to be disordered and contradictory. In my opinion, it can be explained by the traumatic nature of the Stalin’s era. The subject convinces to accept modernity not an imaginary interlocutor (a reader) as of himself, because he feels the danger of political persecution for having different views. The linguistic analysis of the poem “They don't Choose the Times... ” allows us to attribute this text to the official Soviet poetry only judging by immanent features.
Full Text
«Времена не выбирают, / В них живут и умирают» – самые известные строки А. Кушнера, которые в России цитируются особенно часто. С момента публикации стихотворения в сборнике Кушнера «Голос» 1978 г. сентенция закрепилась в провербиальном фонде, а после появления в 1988 г. песни Т. и С. Никитиных стала всенародно известной.1 Популярность афоризма (а вместе с ним и всего стихотворения) позволяет считать, что высказывание Кушнера резонирует с читательским сознанием и называет нечто, для чего нет более подходящего имени, что это – своего рода «безымянное узнаваемое», по удачной характеристике М. Гронаса [Гронас 2001].Однако что именно называют эти строки? Вопрос только кажется тривиальным. В этой статье, опираясь на лингвистические подходы к тексту, в частности на анализ идиоматики [Успенский, Файнберг 2020; Красильникова, Успенский 2021], я постараюсь показать, что смысл ключевой сентенции стихов колеблется между универсальным и ситуативным значением, выступая одновременно остроумным афоризмом и риторическим аргументом в длинном ряду доводов квазифилософского характера. Все стихотворение в целом, претендуя на «философскую» универсальность, не только оказывается слабо выстроенной системой аргументов в пользу любой современности, но и выдает – прежде всего, на языковом уровне – страхи и историческую травму лирического «я». Предпринятый в статье своего рода опыт лингвистической деконструкции поэтического текста приводит к проблематизации поэтического субъекта советского времени. Чтобы быть верно понятным, я бы хотел вкратце очертить мой подход к проблеме субъекта.Если строки Кушнера закреплены в читательском сознании и постоянно в нем отзываются, если они часто приходятся к слову в спорах и рассуждениях, резонно полагать, что по ним можно судить не только о фигуре читателя, но и о проявленном в стихах субъекте. Как мне представляется, здесь, иными словами, уместно совершить транспозицию: канонический статус произведения, его растворенность в языке дает возможность считать, что воспринятые читателями смысловые конфигурации точно отражают смысловые конфигурации самого произведения.2 Такой взгляд дает возможность миновать сложно определяемую и уходящую в философские размышления категорию субъекта, но позволяет говорить об этом субъекте в «практическом» измерении – как о слепке «я» с набором как проговоренных, но также и непроговоренных (в опредленном смысле бессознательных) идей, впечатлений и ассоциаций, выраженных в тексте. Это «я» феноменологически явлено в произведении и существует только в нем. Поэтому утверждать, что поэтический субъект тождественен реальному автору как человеку определенной эпохи, будет неверным; «я» закрепляет в тексте определенную конфигурацию значений, тогда как творческое сознание реальной личности изменчиво и включает в себя больше смыслов, ассоциаций и впечатлений.3 Вместе с тем субъект текста соотнесен со своей эпохой, и ряд смыслов стихотворения, как я покажу ниже, открывается только в этом соотнесении.Хотя вокруг стихов сформировался ореол стоической позиции человека по отношению к современности, я хотел бы показать, что это верно только в определенной модальности прочтения, той, на которой настаивает сам текст. Одновременно в нем есть имплицитный план – план политического, и в его свете стоицизм оборачивается ограничением агентности «я», пассивностью субъекта (и это, как я покажу ниже, также входит в рецептивный горизонт произведения). Чтобы проиллюстрировать эти положения, мне нужно будет подробно остановиться на начале и конце стихотворения, но чтобы общий ход рассуждений был ясен, я приведу этот хрестоматийный текст целиком:Времена не выбирают, В них живут и умирают. Большей пошлости на свете Нет, чем клянчить и пенять. Будто можно те на эти, Как на рынке, поменять.Что ни век, то век железный. Но дымится сад чудесный, Блещет тучка; я в пять лет Должен был от скарлатины Умереть, живи в невинный Век, в котором горя нет.Ты себя в счастливцы прочишь, А при Грозном жить не хочешь? Не мечтаешь о чуме Флорентийской и проказе? Хочешь ехать в первом классе, А не в трюме, в полутьме?Что ни век, то век железный. Но дымится сад чудесный, Блещет тучка; обниму Век мой, рок мой на прощанье. Время – это испытанье. Не завидуй никому.Крепко тесное объятье. Время – кожа, а не платье. Глубока его печать. Словно с пальцев отпечатки, С нас – его черты и складки, Приглядевшись, можно взять. [Кушнер 1978: 24]Открывающая текст сентенция – двусоставное утверждение, значение которого сводится к констатации очевидного положения вещей. В языковом плане она совмещает два коротких фразеологических словосочетания, две фраземы: X не выбирают и живут и умирают, которая, в свою очередь, типична для ряда характерных выражений. Чтобы точнее описать семантику сентенции Кушнера, необходимо рассмотреть составляющие ее компоненты.Фразема Х не выбирают частотна в литературном языке и обладает набором отличительных характеристик. Во-первых, из-за грамматической формы (безличная конструкция с глаголом в наст. вр. в 3 л. мн. ч.) она утверждает нечто, справедливое для всех людей. Во-вторых, она, как правило, называет такой объект, с которым говорящий априорно связан и который он в самом деле не может выбрать в силу предзаданности этой связи. Говоря чуть проще, фразема всегда выражает общеизвестную истину (трюизм). Из этого, в-третьих, выводится ее прагматическая особенность: в контексте коммуникации фразема служит репликой, возражающей собеседнику и указывающей на очевидную невозможность изменить порядок вещей; в случае письменного текста семантика немного сдвигается в сторону большей риторической эффектности, но также служит как бы мысленным опровержением чужой точки зрения. В целом, значение Х не выбирают содержит утверждение, что Х является таким Х, который невозможно изменить и потому приходится мириться с его особенностями. Используя эту конструкцию, мы вынужденно напоминаем собеседнику об очевидном порядке вещей. В определенном смысле, Х не выбирают семантичеки близко к таким выражениям, как Х есть Х; что поделать? такой вот Х и др.Валентность фраземы может заполняться разными лексемами. Согласно НКРЯ, в конструкции Х не выбирают на месте Х могут находиться: происхождение, вера, Бог, родина, судьба, правила игры, сослуживцы, соседи по лагерной пересылке, семья, а также многочисленные родственники – мать, дети, братья по крови. Проиллюстрирую сказанное списком примеров из корпуса русского языка:А происхождение свое и веру не выбирают (Н. Воронель. «Без прикрас. Воспоминания». 1975–2003);Бога не выбирают, как не выбирают солнечный свет (И. Сан-Францисский (Шаховской). «Истоки материализма». 1948–1954);Говорят, что родину не выбирают (В. Астафьев. «Последний поклон». 1968–1991);Во-первых, он – твоя судьба, / которую не выбирают… (Б. Слуцкий. «Во-первых, он – твоя судьба…». 1970–1975);– Правила игры не выбирают, – флегматично отозвался Круминь (А. Вайнер, Г. Вайнер. «Я, следователь…». 1968);Ничего не попишешь, сослуживцев, как и родственников, не выбирают… (Э. Рязанов, Э. Брагинский. «Служебный роман». 1977);Соседей на пересылке не выбирают (В. Шаламов. «Колымские рассказы». 1954–1961);А ведь семью не выбирают, в ней рождаются и принимают ее такой, какая есть (З. Масленикова. «Жизнь отца А. Меня». 1992);Мать не выбирают и от нее не отказываются (И. Эренбург. «Портреты современных поэтов». 1922);Да и детей не выбирают, они на свет являются сами (В. Астафьев. «Последний поклон». 1968–1991);…ибо братьев по крови не выбирают (А. Крон. «О первой дружбе, о первой пьесе…». 1969).Конечно, конструкция Х не выбирают может быть реализована и со словами с темпоральным значением. Не выбирают (год) рождения, эпохи, время, причем в последнем случае как время для рождения и смерти, так и время жить. Вот несколько примеров из литературных текстов:Год рождения не выбирают… (Д. Самойлов, 1978);Этого просто не выбирают, как не выбирают рождения (М. Харитонов. «Стенография конца века. Из дневниковых записей». 1981);Но есть эпоха детства и эпоха зрелости, а эпохи не входят в ассортимент товаров – их не выбирают (И. Эренбург. «Люди, годы, жизнь». 1960–1965);В народе говорят, что для рождения и смерти время не выбирают (В. Ардаматский. «Ленинградская зима». 1971);Страшная досталась нам эпоха, но, к сожалению, время жить не выбирают (Н. Дежнев. «В концертном исполнении». 1993).Таким образом, на фоне узуса русского языка в строке Кушнера «времена не выбирают» заполняется вполне ожидаемая и семантически закрепленная в языковой картине мира валентность конструкции. В этом утверждении поэт следует за логикой языка.Вторая часть сентенции Кушнера основана на синтагме живут и умирают, которая обладает бытийственным смыслом и позволяет отстраненно посмотреть на жизнь других людей, часто – в трагическом ключе:...в Сибири, на каторге, в подземельях живут и умирают люди, которые менее виноваты, менее преступны, чем ты! (И. Тургенев. «Часы». 1850);Так отходят миллионы людей: живут незаметно и умирают незаметно (Ф. Достоевский. «Дневник писателя. 1876 год». 1876);Да и вся жизнь – шутка! Шутя люди живут и умирают… (А. Островский, Н. Соловьев. «Женитьба Белугина». 1877);Живут люди и умирают и не знают нынче о том, что завтра умрут (Л. Андреев. «У окна». 1899);...поколения за поколениями рождаются, живут и умирают в том одуренном состоянии, в котором их держат духовенство и правительство… (Л. Толстой. «Что такое религия и в чем сущность ее?». 1902);Он чувствовал: в ночной темноте живут, мучаются, умирают миллионы миллионов людей (А. Толстой. «Хождение по мукам. Кн. 1. Сестры». 1922).Смысловое ядро синтагмы вне зависимости от контекстов, в которых могут появляться дополнительные семантические компоненты, называет общеизвестное – люди, в самом деле, живут и умирают. Как и в прошлом случае, здесь мы сталкиваемся с констатацией очевидного положения вещей.Смысловой прирост афоризма «Времена не выбирают, / В них живут и умирают» возникает, таким образом, не благодаря оригинальным утверждениям составляющих его высказываний, а за счет монтажной склейки двух трюизмов, которые приводят к поэтической тавтологии. Дополнение «в них» обеспечивает бесшовный монтаж и придает темпоральному плану пространственные черты. Смысл же расширяется за счет глаголов: в строках в один ряд ставятся глагол выбора и бытийственные глаголы со значением биологического существования. В результате возникает резкая смысловая перефокусировка – вместо возможного активного действия человеку предлагается обобщенная схема жизни, из которой выбор исключен; хотя грамматически пассив и не возникает, контраст устанавливается именно на основе активного – пассивного действия.По закону семантической согласованности, два утверждения уравновешивают высказывание во всеобщем, бытийственном смысле, придают ему свойство универсального утверждения: ‘времена никогда не выбирают, в них всегда и только живут и умирают, [и никаких других вариантов не существует]’. Именно такое согласование происходит благодаря ассоциации афоризма с поэтикой пословиц, всегда претендующих на всеобщность; ср. цыплят по осени считают; соловья баснями не кормят; дареному коню в зубы не смотрят; клин клином вышибают; в Тулу со своим самоваром не ездят и т. п.Вместе с тем строки могли бы быть согласованы и на основе конкретной ситуации, и, сохраняя универсальное значение, могли бы делать акцент на ситуативных исторических обстоятельствах. Ср.: ‘Ты сейчас жалуешься, что время сейчас тяжелое, и ты хотел бы жить в других исторических обстоятельствах. Но что поделать? Надо смириться. Как ты знаешь, времена не выбирают. Обычно в разные времена люди живут и умирают, и наше время – не исключение’. Такая возможность как будто бы вытесняется и подавляется автономным смыслом первых двух строк, однако занятным образом – поскольку афоризм не закончил, а, напротив, открыл стихотворение – последовательно проступает дальше.В самом деле, склеенные трюизмы обеспечивают смысловую развертку текста, которая, в определенном смысле, происходит уже по инерции. Так, использование фраземы живут и умирают применительно ко времени/временам естественным образом придает темпоральной категории отрицательные черты, и эта негативная семантика дальше возникнет в стихах в соответствии с ореолом произнесенного утверждения: «Что ни век, то век железный», «Время – это испытанье», «Время – кожа, а не платье».Прагматический аспект Х не выбирают хотя и остается нереализованным в самом начале, дальше прямо проступает в риторической развертке подразумеваемой ситуации, в рамках которой собеседник субъекта как раз хотел бы выбирать времена, а субъект, в свою очередь, предлагает ему риторическое объяснение, почему это невозможно.Прагматическая интенция фраземы настолько сильна, что заставляет поэта восстанавливать бытовой контекст ситуации, в которой такое утверждение могло бы быть произнесено! Несколько перефразируя, можно сказать, что развитие основной части стихотворения идет на поводу языка: раз узуальная фразема появилась в тексте, стихотворение должно обеспечить ей такой языковой контекст, в котором она реализует нормативное значение.Универсальный и ситуативный смыслы афоризма по-разному определяют утверждения и исторические иллюстрации стихотворения. Текст как будто настаивает на универсальном значении, но в таком случае стихотворение оказывается тавтологичным и ровным счетом ничего не прибавляет к основному обобщенному утверждению. Усиливать любыми риторическими средствами идею, что Х – при условии, что он априорно с тобой связан, – не выбирают, идет ли речь о временах или о родственниках, не имеет смысла даже в поэтической речи, – эта идея была выражена с самого начала и не нуждается в каких-либо доказательствах, помимо произнесения самого утверждения. Усиление мысли необходимо только в том случае, если ситуативный смысл в конкретных исторических обстоятельствах оказывается важнее. Именно по этому пути и идет дальнейшее развитие текста.В самом деле, все последующие аргументы стихотворения – скупые примеры из истории, осуждение самой разговорной практики фантазировать о других эпохах, учительские нравоучения – могут успешно реализовываться только в ситуации, когда конкретное время настолько тяжело, что хочется оказаться в другом. Внутри такого дискурса претендующая на универсальность сентенция только открывает ряд риторических доводов, почему же это невозможно: ‘[во-первых], времена не выбирают; [во-вторых], нет большей пошлости, чем хотеть поменять время; [в-третьих], каждый век не идеален’ и т. п.Исходная универсальность утверждения растворяется в риторике, а потому из точного и абсолютного суждения оно становится как бы относительным (от полной трансформации его спасает семантическое ядро, не позволяющее совершить такой переход). Акцент, иными словами, смещается с безусловной истинности высказывания на его прагматический, ситуативный характер.В плане разыгрывания риторики убеждения – а именно этим, по сути, и занят текст – совершается смысловая подмена. В изначальном афоризме сообщается, что люди неизбежно живут и умирают в тех временах, в которых им выпало жить, однако ничего не говорится о том, как они живут и какими возможностями действия обладают. В коннотативном плане текста всякий человек оказывается лишенным какой-то либо агентности и способности к каким-либо поступкам, которые потенциально эти времена как раз могли бы изменить. Несколько обобщая, можно сказать, что политическое составляет слепое пятно этого стихотворения.Конкретные иллюстрации только подкрепляют общую установку стихотворения. Из исторических периодов выбрано два весьма эмблематичных – эпидемия чумы середины XIV в. и страшное время Ивана Грозного. Характерно, однако, что для субъекта предъявления этих зловещих эмблем достаточно, чтобы считать, что аргумент состоялся. Предъявляются они также с двойным искажением. Во-первых, субъект подменяет желание собеседника жить в другом, более симпатичном времени, рассуждением о вероятности оказаться во времени еще более страшном, чем нынешнее. Во-вторых, размышление субъекта исходит из того, что каждый век «железный», но в любом времени есть область вненаходимости – «но дымится сад чудесный, / блещет тучка». В таком ракурсе акцент смещается с выбора времени на умение его воспринимать, а значит, и предъявленные в качестве довода страшные эпохи потенциально «обитаемы» при определенных навыках игнорирования, избегания неприглядных сторон реальности.Отдельно стоит отметить, что выбранные субъектом эмблематичные эпохи относятся к давно прошедшему времени, тогда как недавнее актуальное прошлое – эпоха сталинизма – в исторической части стихотворения остается в зоне умолчания. С моей точки зрения, оно вытесняется, однако, как я покажу далее, все же косвенно проступает в финале стихотворения. Здесь же отмечу, что текст, разыгрывая риторические аргументы, игнорирует социальные проблемы прошлого и предпочитает имитировать универсальность и даже некоторую наивность доводов, что, как мне кажется, также объясняется избеганием политического.Приведенные субъектом аргументы, конечно, далеки от философского осмысления истории. Однако и характеристики сегодняшнего дня в тексте сложно квалифицировать как проницательную критику современности. Субъект остался жив, потому что в ХХ веке скарлатину научились лечить, и этот век лучше предыдущего потому, что можно ехать в «первом классе, а не в трюме, в полутьме». Прогресс в области повседневной жизни подается как историческое достижение, что отчасти справедливо, но вновь искажает ход аргументации. Предъявленные только что примеры из прошлого переходят друг в друга на основе идеи стихийного бедствия – эпоха Грозного ассоциативно тянет за собой флорентийскую чуму именно по признаку природной катастрофы. Отсюда вытекает и медицинская ремарка о скарлатине, и, шире, вера в научный и цивилизационный прогресс, как будто он может купировать страшные социальные процессы в современности. Однако к 1978 году опыт мировой истории показал, что диктатуры напрямую не зависят от медицинских достижений и комфортабельности повседневной жизни. Во всяком случае, стратификация корабельных кают и повсеместный опыт лечения детских болезней не уберегли жителей Советского Союза от большого террора.Причудливость логической аргументации становится понятнее именно в свете вытеснения политического. Субъект стихотворения старается доказать, что все времена по-своему плохи, хотя бывают эпохи особо страшные, и при этом, за исключением этих эпох, все времена более или менее одинаковые («Что ни век, то век железный»). В ход идут самые разные аргументы, которые старательно обходят политическое и которые исключают какое-либо проявление агентности субъекта, возможность поступка (единственное, что он может сделать, – это принять свое время: «обниму / век мой, рок мой»).В языковом плане это риторическое убеждение разворачивается с помощью целого ряда узуальных конструкций и фразеологизмов. Здесь необходимо остановиться на последней строфе. В ней «готовые» элементы языка – наряду с яркими метафорами – служат финальными аргументами и одновременно вскрывают изнанку всего построения.Строка «время – кожа, а не платье» предлагает читателю сильную, хотя и очевидную, смысловую перефокусировку, значение которой сводится к тому, что время не декорации, в которых мы живем, а часть нас самих. Хотя в строке совершается переопределение (нечто – Y, а не Х), отмененный компонент «одежда» ассоциативно проступает ниже: «с нас его черты и складки». Это обеспечивает семантическую связность строфы и увязывает между собой ее метафорические компоненты.Остальные утверждения финала стихотворения зиждутся на узуальных конструкциях.Фраза «Крепко тесное объятье» на поверхностном лексическом уровне основана на двух фраземах крепкое объятье и тесное объятье. Однако, учитывая подчеркнутые физиологические ощущения, можно предположить, что на глубинном уровне строка соотносится с переносным значением слова тиски из конструкции тиски Х-а (‘то, что стесняет, сковывает, лишает свободы’; ср. тиски нужды; тиски цензуры).Строка «Глубока его печать», конечно, перифраз идиомы печать времени. Близкая к ней коллокация черта (примета) времени частично проступит ниже в синтагме «черты и складки».Но самое неожиданное в метафорическом ряду последней строфы – это использование оборота из уголовно-правового дискурса взять (снять) отпечатки пальцев. Хотя это выражение приводится в сравнительной конструкции, на мой взгляд, его употребление без каких-либо изменений вскрывает логику всего текста.Восстановим «сухой остаток» строфы: ‘время это не декорация, а кожа; на нас всех наше время оставило свою печать; оставленные на нас черты времени можно взять как отпечатки пальцев’. Финал, таким образом, предлагает развернутую телесную метафору, в которой абстрактные черты времени становятся индивидуальными отличительными чертами субъекта, соотнесенными с его потенциальным уголовно-правовым статусом. Утверждая одно, финальная строфа метафорически проговаривает совсем другое: вместо, например, будущего историка, изучающего черты и приметы времени, агентом внимания к субъекту оказывается власть, и в этом плане весьма показательно, что этот агент остается неназванной безличной силой.Развернутая биополитическая метафора, в рамках которой соединяются утверждения «время – кожа» и пассаж о возможности взять отпечатки пальцев – подчеркивает, на мой взгляд, глубинное ощущение исторической пассивности субъекта текста. Здесь стоит обратить внимание на еще один возможный идиоматический эффект. Утверждение «время – кожа» в соседстве с устойчивым оборотом взять (снять) отпечатки пальцев может активизировать еще одну идиому: снять кожу в силу вариативности глагола взять/снять в уголовно-правовом речении. Если это верно, то, конечно, оборот снять кожу оказывается одним из глубинных мотиваторов строфы и придает всему финалу дополнительный, хотя и смутно осознаваемый, ужасающий ореол телесного насилия со стороны государства.Согласно ассоциативному плану последней строфы, любое политическое действие – тема, текстом обходящаяся, – неизбежно ведет к реакции со стороны властей (ассоциативная тема ареста и, возможно, насилия). В свете этой неявной, случайно проговоренной угрозы становится понятнее и устройство риторики текста: она не просто избегает острых тем, но запутывает сама себя в разных уровнях аргументации, подменяя и передергивая утверждения. Субъект стихотворения готов абстрактно рассуждать об эмблематичных страшных временах Ивана Грозного или эпидемии чумы, но старательно вытесняет недавнее страшное прошлое, которое, однако, возвращается «с черного хода» – в эффектном сравнительном обороте. Пассивность субъекта, убеждающего не столько собеседника, сколько самого себя в том, что настоящее время не такое уж плохое и в чем-то даже лучше прошлых эпох, объясняется не философией истории или размышлениями о проблеме свободы выбора, а коллективной травмой недавнего прошлого.Отсюда – понимание существования во времени как биологического существования, в рамках которого можно только жить и умирать, – не просто любой поступок видится обреченным на провал и влечет неизбежное возмездие со стороны государства, но даже сама фантазия о том, что конфигурация повседневных практик, ценностей, типов коммуникации и проч. может быть принципиально иной, осуждается как «пошлость». Между тем само желание «поменять» время, как бы ни было оно наивно в повседневной жизни, всегда содержит зерно социальной критики современности, а воображение, как известно, является двигателем социальных изменений [Рансьер 2018].Афоризм Талейрана гласит: «язык дан человеку, чтобы скрывать свои мысли». К стихам он применяется редко, но в данном случае это можно сделать. Стихотворение «Времена не выбирают…» начинается с мастерского парадоксального утверждения, претендующего на универсальность, но сразу же переводит его в разряд относительных аргументов в длинной цепочке доводов о приемлемости настоящего времени. Стоит признать, что, если бы стихотворение осталось двустишием, его смысловая провокационность была бы более сильной. В этом смысле две строки, ушедшие «в народ» и бытующие отдельно от всего стихотворения, то есть двустишие как текст цитатного фонда, более парадоксальное высказывание нежели текст целиком, который размывает семантическую неожиданность начальной сентенции. Автономно существующие две строки при этом недвусмысленно выражают идею пассивности субъекта, однако лишают ее мотивировки, развернутой в целом стихотворении.Разыгранная стихотворением риторика, во многом определенная использованием узуальных конструкций, в финале выдает сама себя: она обращается к последнему сравнению, которое, надо полагать, было задумано как точная деталь, но которое проявилось как точный политический слепок субъекта. Для него область политического, как и область поступка, оказывается почти полностью вытесненными, и в этом можно увидеть действие недавнего – а не давно прошедшего – травматического прошлого.В конце концов, дело не в том, что субъект именно таким образом воспринимает эпоху и человека внутри нее, как и не в том, что он не предполагает какого-либо активного участия в истории, – темперамент и поведенческая система координат у всех людей разные. На мой взгляд, проблема заключается в том, что восприятие эпохи и отведенной человеку роли внутри нее подаются как нормативные и универсальные, и стихотворение последовательно эту универсальность и обязательную всеобщность пытается доказать, хотя и не достигает в этом успехов (во всяком случае, при внимательном рассмотрении его доводов). Во многом следуя за идиоматическим пластом языка, текст оказывается в зоне противоречий и смысловых зияний, чтобы в финале невольно проговориться и выдать глубинную мотивировку своей риторики.Сама открытость стихотворения объяснению, основанному на идее манифестируемых смыслов и бессознательных, случайно проговоренных мыслей, на мой взгляд, свидетельствует о его весьма характерном устройстве: предпринятный анализ позволяет исключительно на имманентных основаниях квалифицировать стихотворение «Времена не выбирают…» как образец советской официальной поэзии.Все эти сложно формализуемые смыслы стихотворения, несомненно, входят в рецептивный фон всего текста, а не только его первых строк и бессознательно нередко считываются как нечто справедливое до сих пор, поскольку череда сложных эпизодов российской истории не кончается.×
References
- Гронас М. Безымянное узнаваемое, или Канон под микроскопом // Новое литературное обозрение. 2001. № 5. С. 68–95.
- Красильникова Т., Успенский П. Поэтический язык Пастернака. «Сестра моя – жизнь» сквозь призму идиоматики. М.: Издательский дом ЯСК, 2021. 176 с.
- Рансьер Ж. Эмансипированный зритель. Нижний Новгород: Красная ласточка, 2018. 128 с.
- Успенский П., Файнберг В. К русской речи: Идиоматика и семантика поэтического языка О. Мандельштама. М.: НЛО, 2020. 360 с.