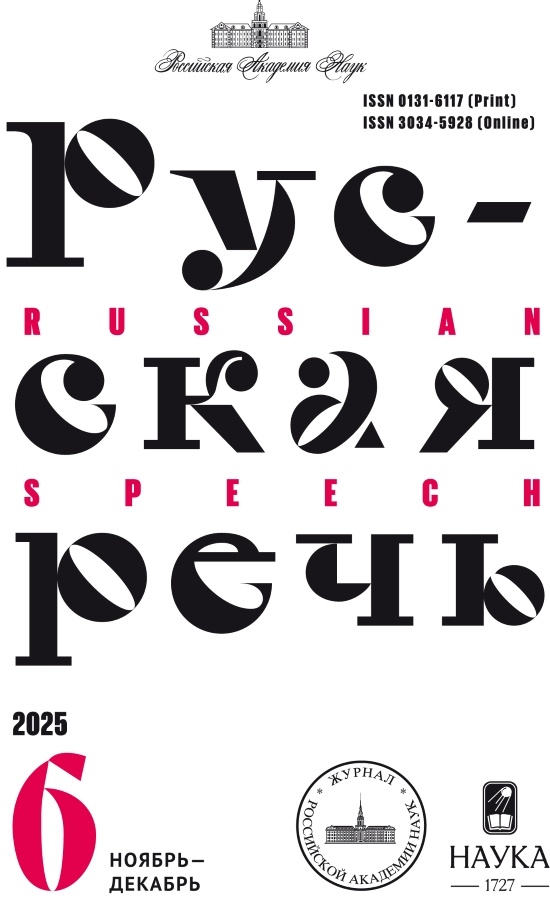Период в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»
- Авторы: Шутан М.И.1
-
Учреждения:
- Нижегородский институт развития образования
- Выпуск: № 1 (2024)
- Страницы: 107-123
- Раздел: Язык художественной литературы
- URL: https://journal-vniispk.ru/0131-6117/article/view/255743
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0131611724010095
- ID: 255743
Полный текст
Аннотация
В статье представлена группировка периодов, входящих в текст романа-эпопеи Л. Н. Толстого «Война и мир». При этом за основу классификации берется характер логико-смысловых отношений между двумя основными элементами конкретного периода. Это 1) обобщение на основе приведенных фактов (с детализацией интерьера или портрета литературного героя); 2) причинно-следственные отношения между двумя компонентами периода (воспоминания, влияющие на нравственно-психологическое состояние героя; влияние окружающего мира на психологическое состояние героя; последовательность действий и психологических реакций героя, следствием которой является определенное душевное состояние; фиксация факторов, влияющих на действия героя, о которых говорится во втором компоненте периода); 3) уступительные отношения (решение, принимаемое героем вопреки собственным размышлениям; реальность, противопоставленная интерпретации событий; несоответствие между реальностью и тем, что должно было случиться); 4) вторая часть периода, синтезирующая информацию, представленную в первой части. При этом в статье подчеркивается, что в романе-эпопее «Война и мир» период является одним из приемов акцентирования внимания читателя на художественной информации, приобретающей в произведении особую значимость (образы Андрея Болконского, Пьера Безухова, Николая Ростова, Наполеона, капитана Тушина, полкового командира, авторские отступления).
Полный текст
Что собой представляет период? Период — «это небольшой связный текст, умещающийся в одном предложении». Следовательно, он может представлять собой описание, повествование, рассуждение [Филин (гл. ред.) 1979: 202]. Обычно это сложноподчиненные предложения с однородными придаточными или простые предложения с однородными членами. При этом однородные компоненты предшествуют основной части, то есть период характеризуется интонационным членением на две части: «Первая часть произносится с повышением тона и убыстрением темпа, вторая после глубокой паузы — с понижением тона и замедлением темпа <...> Встречаются периоды, компоненты которых представлены предложениями, связанными бессоюзно или при помощи сочинительных союзов» [Лекант (ред.) 1982: 385]. Вторая часть нередко распадается на ряд произносимых с однородной интонацией один за другим членов [Гвоздев 1952: 321]. По содержанию «период представляет одно целое, развивает одну тему, раскрывая ее с известной полнотой и разносторонностью» [Голуб 2003: 430].
Отметим, что поэтический синтаксис Л. Н. Толстого серьезно исследовал В. В. Виноградов [Виноградов 1982: 443], подчеркивая в нем охват «явления во всей его комплексной полноте» и в то же время отмечая «принцип разложения сложного, составного понятия» [Виноградов 2010].
В лингвистике, исходя из характера грамматических и логических отношений между двумя компонентами, выделяют следующие виды периодов: заключительный (в понижении указывается на следствие из сказанного в повышении; это может быть конструкция с придаточным следствия или с придаточным степени с дополнительным значением следствия), определительный (обычно с соотношением союзных средств кто... тот), предикативный (в повышении подлежащее, в понижении — сказуемое), причинный, противительный, соединительный (в понижении содержится добавочная информация), сопоставительный (обычно с соотношением союзных средств чем... тем), сравнительный (пояснение через сравнение, обычно с соотношением союзных средств как... так), условный, уступительный [Розенталь, Теленкова 1976: 279–283]. Приведенная выше типология в основном скоординирована с типологией придаточных предложений, но к ней не сводится.
В статье за основу группировки периодов мы возьмем характер логико-смысловых отношений между их двумя основными компонентами, хотя предметами осмысления будут и синтаксическая структура первого компонента, и художественная функция периода, в том числе его место в тексте произведения.
I. Обобщение на основе приведенных фактов. Имеется в виду раскрытие сущности человека на основе детализации его действий, поступков или реалий предметного мира. В этом случае на основе содержания первой части периода, информационно насыщенной, во второй части делается вывод нравственно-психологического характера.
А. В первой части периода может быть представлен детализированный интерьер, выступающий средством характеристики персонажа.
«Большой стол, на котором лежали книги и планы, высокие стеклянные шкафы библиотеки с ключами в дверцах, высокий стол для писания в стоячем положении, на котором лежала открытая тетрадь, токарный станок, с разложенными инструментами и с рассыпанными кругом стружками, — все выказывало постоянную, разнообразную и порядочную деятельность» [Толстой 2008, т. I–II: 114].
Перед нами объективированное описание пространства через его детализацию (книги, планы, шкафы, стол с тетрадью, токарный станок с инструментами и стружками). В первой части периода нагнетаются однородные подлежащие, распространенные придаточным определительным и обособленными несогласованными определениями. Определительное местоимение «все» выполняет функцию обобщающего слова при однородных членах. Противоречия между двумя смысловыми блоками периода нет, о чем свидетельствуют такие эпитеты при имени существительном «деятельность», как «постоянная», «разнообразная», «порядочная». Период представляет собой описание интерьера как средства характеристики внутреннего мира Николая Андреевича Болконского, отличающегося склонностью к интеллектуальной деятельности и любовью к физическому труду.
Б. Первая часть периода — детализированный портрет, раскрывающий внутренний мир персонажа.
«По тому, как полковой командир салютовал главнокомандующему, впиваясь в него глазами, вытягиваясь и подбираясь, как, наклоненный вперед, ходил за генералами по рядам, едва удерживая подрагивающее движение, как подскакивал при каждом слове и движении главнокомандующего, — видно было, что он исполнял свои обязанности подчиненного еще с большим наслаждением, чем обязанности начальника» [Толстой 2008, т. I–II: 149].
На основе трех детализированных характеристик действий полкового командира, выраженных однородными местоименно-определительными придаточными, повествователем делается вывод нравственно-психологической направленности. При этом следует особо указать на глаголы (салютовал, ходил, подскакивал), деепричастия (впиваясь, вытягиваясь, подбираясь, удерживая) и причастия (наклоненный, подрагивающее), которые подчеркивают подобострастность толстовского персонажа, подавая это его качество при помощи словосочетания «с большим наслаждением» в ироническом ключе. Причем придаточные предложения разрывают главное (по тому... видно было...), наполняя указательное местоимение предельно конкретным содержанием. Такое изображение полкового командира в полной мере соответствует следующим его характеристикам: «Полковой командир каждый раз при этом забегал вперед, боясь упустить слово главнокомандующего касательно полка», «Полковой командир испугался, не виноват ли он в этом, и ничего не ответил».
II. Причинно-следственные отношения между двумя компонентами. Отметим, что причина и следствие — философские категории, которые фиксируют генетическую связь между явлениями.
А. Воспоминания, о которых говорится в первой части периода, предопределяют нравственно-психологическое состояние героя.
«Он вспоминал свои хлопоты, искательства, историю своего проекта военного устава, который был принят к сведению и о котором старались умолчать единственно потому, что другая работа, очень дурная, была уже сделана и представлена государю; вспомнил о заседаниях комитета, членом которого был Берг; вспомнил, как в этих заседаниях старательно и продолжительно обсуживалось все касающееся формы и процесса заседания комитета и как старательно и кратко обходилось все, что касалось сущности дела. Он вспомнил о своей законодательной работе, о том, как он озабоченно переводил на русский язык статьи римского и французского свода, и ему стало совестно за себя» [Толстой 2008, т. I–II: 595].
Опорными следует назвать глаголы «вспоминал» и «вспомнил» (последний глагол употребляется три раза). При этом первая часть периода осложняется однородными сказуемыми, дополнениями и определениями, придаточным причины с разрывом составного союза, однородными изъяснительными и определительными придаточными. Но нельзя пройти мимо того, что глагол «вспоминал», употребляемый в третий раз, входит в синтаксическую конструкцию, оформленную как самостоятельное сложное предложение с сочинительной и подчинительной связью. Налицо прием парцелляции (употребление части предложения как отдельного предложения), который по смыслу и интонационно выделяет информацию, содержащуюся в этой конструкции.
Таким способом Л. Н. Толстой показывает целый комплекс поступков самого Андрея Болконского и тех людей, которые работали в комиссиях Сперанского. При этом в представленных автором характеристиках присутствует негативная оценка этой деятельности (дурная работа, игнорирование сущности дела, бесполезные переводы текстов с латинского и французского языков на русский язык). И самое главное: воспоминания пробуждают совесть, о которой говорится в заключительном компоненте периода.
Сам период предваряет фраза, содержание которой далее конкретизируется («Вернувшись домой, князь Андрей стал вспоминать свою петербургскую жизнь за эти четыре месяца, как будто что-то новое»). А после периода автор употребляет предложение, в котором вся «многоплановая» деятельность Болконского в Петербурге рассматривается в контексте обыденной, реальной жизни, знаки которой — Богучарово, деревня, Рязань, мужики, Дрон-староста. Следствием этого является удивление, «как он мог так долго заниматься такой праздной работой».
«Когда он перебирал в воображении всю эту странную русскую кампанию, в которой не было выиграно ни одного сраженья, в которой в два месяца не взято ни знамен, ни пушек, ни корпусов войск, когда глядел на скрытно печальные лица окружающих и слушал донесения о том, что русские все стоят, — страшное чувство, подобное чувству, испытываемому в сновидениях, охватывало его, и ему приходили в голову все несчастные случайности, могущие погубить его» [Толстой 2008, т. III–IV: 261].
Структуру первого компонента периода определяют два однородных придаточных времени, но он осложнен и двумя однородными определительными придаточными, что в ритмическом плане делает художественную речь более организованной. В связи с этим нельзя не упомянуть о союзе «когда» и относительном местоимении с непроизводным предлогом «в которую», выполняющими анафорическую функцию. Между двумя компонентами периода действует причинно-следственная связь: мысли о странной русской кампании, «скрытно печальные лица окружающих» и донесения, свидетельствующие об упорстве русских, предопределяют «страшное чувство», подводящее Наполеона к мысли о гибели, катастрофе.
Период раскрывает психологическое состояние Наполеона во время Бородинского сражения, передавая прежде всего содержание его размышлений, вызванных и картинами памяти, и восприятием внешности и речи окружающих его людей. Далее конкретизируется мысль об опасности русских, способных «напасть на его левое крыло», «разорвать его середину», кроме того, «шальное ядро могло убить его самого». То есть определяющим является мотив случайности, встречающийся в периоде.
Но следует обратить внимание и на мотив сна («страшное чувство, подобное чувству, испытываемому в сновидениях»): «Да, это было, как во сне, когда человеку представляется наступающий на него злодей, и человек во сне размахнулся и ударил своего злодея с тем страшным усилием, которое, он знает, должно уничтожить его, и чувствует, что рука его, бессильная и мягкая, падает, как тряпка, и ужас неотразимой погибели обхватывает беспомощного человека» [Толстой 2008, т. III–IV: 261–262]. Курсивом мы выделили эпитеты и сравнение, которые по своему смыслу соотносятся со словосочетанием «страшное чувство», употребленным в заключительной части периода.
Б. Период нередко показывает влияние окружающего мира на психологическое состояние персонажа.
«Из-за оглушающих со всех сторон звуков своих орудий, из-за свиста и ударов снарядов неприятеля, из-за вида вспотевшей, раскрасневшейся, торопящейся около орудий прислуги, из-за вида крови людей и лошадей, из-за вида дымков неприятеля на той стороне (после которых всякий раз прилетало ядро и било в землю, в человека, в орудие или в лошадь), — из-за вида всех этих предметов у него в голове установился свой фантастический мир, который составлял его наслаждение в эту минуту» [Толстой 2008, т. I–II: 245].
Между двумя компонентами — причинно-следственные отношения, реализуемые при помощи однородных обстоятельств причины с непроизводным предлогом «из-за». При этом в заключительной части также употребляется обстоятельство причины, приобретая обобщающее значение: из-за звуков, из-за свиста и ударов, из-за вида прислуги, из-за вида дымков (конструкция распространена вставным придаточным определительным) > из-за вида всех этих предметов.
Отметим, что в центре внимания — восприятие окружающего мира капитаном Тушиным, выстраивавшим на его основе и на основе новых впечатлений совершенно особый, чуть ли не сказочный мир, детали которого позднее раскрывает писатель: Матвеевной представлялась ему старинного литья пушка, муравьями — французы около своих орудий, дядей — первый нумер второго орудия, красавец и пьяница; звук ружейной перестрелки, то замиравший, то усиливающийся, казался ему чьим-то дыханием, а себя он воспринимал как богатыря, обеими руками швыряющего французам ядра. То есть период подготавливает ту картину, которая возникает в сознании толстовского персонажа, мыслящего яркими образами. Психологический ракурс в подаче события является здесь определяющим, несмотря на выразительные детали, имеющие отношение к Шенграбенскому сражению.
«Когда он [Ростов] увидал первого гусара в расстегнутом мундире своего полка, когда он узнал рыжего Дементьева, увидал коновязи рыжих лошадей, когда Лаврушка радостно закричал своему барину: “Граф приехал!” — и лохматый Денисов, спавший на постели, выбежал из землянки, обнял его и офицеры сошлись к приезжему, — Ростов испытывал такое же чувство, как когда его обнимала мать, отец и сестры, и слезы радости, подступившие ему к горлу, помешали ему говорить» [Толстой 2008, т. I–II: 505–506].
В первой части периода употребляются три однородных придаточных времени1, называющих ситуации (их участники — гусар, Дементьев, рыжие лошади, Лаврушка, обнявший Николая Денисов, подошедшие к приезжему офицеры), которые повлияли на психологическое состояние Ростова, ассоциирующего родной полк с домом и в силу молодости склонного к сентиментальным реакциям на окружающий мир. Отметим, что во второй части периода присутствуют причинно-следственные отношения: чувство, знакомое Николаю по объятьям матери, отца, сестер, как бы провоцирует слезы радости. Но эти же смысловые отношения существуют и между двумя компонентами периода, несмотря на то что автор активно употребляет придаточные времени.
Далее сформулированная в конце периода тема получает свое развитие: «Вступив снова в эти определенные условия полковой жизни, Ростов испытал радость и успокоение, подобные тем, которые чувствует усталый человек, ложась на отдых». При этом это психологическое состояние предопределяет чрезвычайно важное намерение толстовского персонажа, проигравшего огромную сумму Долохову в Москве, — «загладить свою вину, служить хорошо и быть вполне отличным товарищем и офицером, то есть прекрасным человеком, что представлялось трудным в миру, а в полку столь возможным». И самое главное — за пять лет заплатить долг родителям. Иначе говоря, речь идет о попытке нравственного очищения человека. А ранее охарактеризованное психологическое состояние Ростова предваряет и обусловливает начало этого процесса.
«Когда он в первый день, встав рано утром, вышел на заре из балагана и увидал сначала темные купола, кресты Новодевичьего монастыря, увидал морозную росу на пыльной траве, увидал холмы Воробьевых гор и извивающийся над рекою и скрывающийся в лиловой дали лесистый берег, когда ощутил прикосновение свежего воздуха и услыхал звуки летевших из Москвы через поле галок и когда потом вдруг брызнуло светом с востока и торжественно выплыл край солнца из-за тучи, и купола, и кресты, и роса, и даль, и река, все заиграло в радостном свете, — Пьер почувствовал новое, не испытанное им чувство радости и крепости жизни» [Толстой 2008, т. III–IV: 526–527].
В первый компонент периода входит пять однородных придаточных времени, связанных со вторым компонентом причинно-следственной связью. Причем в первых трех случаях употребляется подчинительный союз «когда», а далее он опускается. Нельзя не отметить, что в первом придаточном предложении три раза употребляется глагол-сказуемое «увидал», являющийся опорным при перечислении объектов восприятия, то есть темных куполов, крестов Новодевичьего монастыря, морозной росы, холмов Воробьевых гор, лесистого берега, который характеризуется при помощи однородных согласованных определений, выраженных причастными оборотами. Участвуют в создании панорамной картины, возникающей в сознании Пьера Безухова, и усиливают ритмическую организацию периода однородные подлежащие с повторяющимся соединительным союзом («купола, и кресты, и роса, и даль, и река»), после которых стоит обобщающее слово «все».
В изображении природы присутствует динамика: стоило брызнуть светом с востока и выплыть краю солнца из-за тучи, как «все заиграло в радостном свете». Роль глаголов-сказуемых совершенного вида, фиксирующих чуть ли не мгновенные изменения в мире природы, является определяющей: «брызнуло» > «выплыл» > «заиграло». В последнем случае при помощи приставки «за-» указывается лишь на начало процесса, предельная граница которого не устанавливается.
Восприятие панорамной картины влияет на психологическое состояние Пьера Безухова, о чем свидетельствует употребление однокоренных слов в разных компонентах периода: «в радостном свете» — «чувство радости и крепости жизни». Далее само это чувство показывается в развитии: «И чувство это не только не покидало его во все время плена, но, напротив, возрастало в нем по мере того, как увеличивались трудности его положения». В следующей фразе это чувство подается в этическом ракурсе: «Чувство это готовности на все, нравственной подобранности еще более поддерживалось в Пьере тем высоким мнением, которое вскоре по его вступлении в балаган установилось о нем между его товарищами». При этом подчеркивается значение людей, окружающих человека в трудные минуты жизни.
Как мы видим, период фиксирует перелом во внутреннем мире персонажа, определяющий новый этап в его жизни.
В. Период может передавать последовательность действий и психологических реакций героя, следствием которой является его определенное душевное состояние.
«Явившись к полковому командиру, получив назначение в прежний эскадрон, сходивши на дежурство и на фуражировку, войдя во все маленькие интересы полка и почувствовав себя лишенным свободы и закованным в одну узкую неизменную рамку, Ростов испытал то же успокоение, ту же опору и то же сознание того, что он здесь дома, на своем месте, которые он чувствовал и под родительским кровом» [Толстой 2008, т. I–II: 506].
Причинно-следственные отношения между двумя компонентами периода и здесь являются определяющими: при помощи пяти обособленных однородных обстоятельств причины, выраженных деепричастными оборотами, автор называет действия Николая Ростова и знакомит нас с его психологической реакцией на то, что он видит, появившись в своем полку. И далее целый комплекс впечатлений и чувств, ими вызванных, обусловливает успокоение и ассоциацию с тем душевным состоянием, которое ему знакомо тогда, когда он находится «под родительским кровом».
Нельзя не отметить, что по смыслу как бы «рифмуются» образы «узкая неизменная рамка» и «дом», «родительский кров». Но возвращение Николая Ростова в Павлоградский полк означает и возвращение в своеобразный монастырь, освобождающий человека от «безурядицы вольного света», где, по мнению Ростова, все вздор и пустота, от жизни в миру [Бочаров 1985: 233].
Г. Фиксация факторов, влияющих на действия героя, о которых говорится во втором компоненте периода.
«В Совет платилось около восьмидесяти тысяч по всем имениям; около тридцати тысяч стоило содержание подмосковной, московского дома и княжон; около пятнадцати тысяч выходило на пенсии, столько же на богоугодные заведения; графине на прожитье посылалось сто пятьдесят тысяч; процентов платилось за долги около семидесяти тысяч; постройка начатой церкви стоила эти два года около десяти тысяч; остальное, около ста тысяч, расходилось — он сам не знал как, и почти каждый год он принужден был занимать» [Толстой 2008, т. I–II: 84].
Период наполняет конкретным смыслом предшествующую фразу: «В общих чертах он смутно чувствовал следующий бюджет». Первый компонент представляет собой бессоюзное сложное предложение2, состоящее из восьми частей, которые перечисляют «статьи» расходов Пьера Безухова, занимающегося практической деятельностью после получения гигантского наследства от отца. Второй же компонент непосредственно связан по смыслу с предыдущей предикативной частью («расходилось — он сам не знал как») и со всем первым компонентом («и почти каждый год он принужден был занимать»). Кода развернутого высказывания не может не восприниматься как вывод и в то же время как фиксация следствия того, о чем говорится в первых восьми предикативных частях.
За рамки рассмотренного периода выходит следующая фраза, которая содержит дополнительную информацию: «Кроме того, каждый год главноуправляющий писал то о пожарах, то о неурожаях, то о необходимости перестроек фабрик и заводов».
III. Уступительные отношения. Первый компонент периода называет комплекс причин, вопреки которому формируется ситуация, характеризуемая во втором компоненте.
А. В первой части периода передается содержание размышлений героя, вопреки которым он принимает решение.
«Как ни трудно и странно было ему [Ростову] думать, что он уедет и не узнает из штаба того, что особенно интересно было ему, произведен ли он будет в ротмистры, или получит Анну за последние маневры; как ни странно было думать, что он так и уедет, не продав графу Голуховскому тройку саврасых, которых польский граф торговал у него и которых Ростов на пари бил, что продаст за две тысячи; как ни непонятно казалось, что без него будет тот бал, который гусары должны были дать панне Пшаздецкой в пику уланам, дававшим бал своей панне Боржозовской, — он знал, что надо ехать из этого ясного, хорошего мира куда-то туда, где все было вздор и путаница» [Толстой 2008, т. I–II: 626].
В первый компонент периода автор включил три однородных придаточных уступительных с сочетанием относительного наречия «как» и частицы «ни». При этом к первому придаточному присоединяются три придаточных изъяснительных на основе последовательного подчинения; ко второму — два придаточных изъяснительных с последовательным подчинением и два однородных придаточных определительных; к третьему — придаточные изъяснительное и определительное при последовательном подчинении. При этом анафорическую позицию занимают следующие вариативные структуры, выполняющие опорную функцию: «как ни трудно и странно было ему думать, что», «как ни странно было думать, что», «как ни непонятно казалось, что».
Глаголам «думал» и «казалось» резко противостоит глагол из второго компонента периода «знал», сигнализирующий читателям о результате мыслительного процесса Николая Ростова. Это результат, отрицающий те искушения, которым он должен был бы поддаться: узнать о воинском звании или награде, продать графу тройку саврасых, развлекаться на предстоящем балу. В своеобразном «монастыре» (а это полк) все ясно и хорошо, а «в миру», куда должен на некоторое время Николай вернуться, «все было вздор и путаница».
Решение Николая Ростова не может не восприниматься как следствие письма его матери, в котором говорится о том, «что ежели Николай не приедет и не возьмется за дело, то все имение пойдет с молотка и все пойдут по миру». Период, рассмотренный выше, доказывает, что письмо подействовало на Николая: «У него был тот здравый смысл посредственности, который показывал ему, что было должно».
Б. Вариантам интерпретации событий противопоставляется сама реальность.
«Как ни странны исторические описания того, как какой-нибудь король или император, поссорившись с другим императором или королем, собрал войско, сразился с войском врага, одержал победу, убил три, пять, десять тысяч человек и вследствие того покорил государство и целый народ в несколько миллионов; как ни непонятно, почему поражение одной армии, одной сотой всех сил народа, заставило покориться народ, — все факты истории (насколько она нам известна) подтверждают справедливость того, что бо́льшие или ме́ньшие успехи войска одного народа против войска другого народа суть причины или по крайней мере существенные признаки увеличения или уменьшения силы народа» [Толстой 2008, т. III–IV: 548].
Философское рассуждение автора об увеличении или уменьшении силы народа в результате бо́льших или ме́ньших успехов войска в военных действиях строится на основе противопоставления содержания второго компонента периода первому, представляющего собой два однородных придаточных уступки, к каждому из которых присоединяется по придаточному изъяснительному: «как ни странны исторические описания того, как...», «как ни непонятно, почему...» > «все факты истории подтверждают справедливость того, что...». Придаточное изъяснительное входит в структуру и второго компонента периода, который отражает содержание первого компонента: «бо́льшие или ме́ньшие успехи», «увеличение или уменьшение сил народа» — «как ни странны...» (речь идет о победе армии) и «как ни непонятны...» (говорится о ее поражении).
В состав первой синтаксической структуры, начинающейся придаточным уступительным, входит целый комплекс однородных сказуемых (собрал, сразился, одержал, убил и покорил), фиксирующих последовательность действий короля или императора-агрессора, и однородных прямых дополнений с именами числительными (три, пять, десять тысяч человек), расположенными в соответствии с принципом градации. Причем явно преобладает бессоюзие, делающее речь в интонационном плане более жесткой, резкой, что в полной мере соответствует содержанию высказывания. Во второй конструкции с придаточным уступительным встречается обособленное согласованное распространенное приложение, выполняющее уточняющую функцию («одной сотой всех сил народа») и по своему смыслу соотносящееся со словом «непонятно».
Какое место занимает этот период в тексте авторского отступления? Рассмотренное выше рассуждение предшествует следующему утверждению, подкрепляемому примерами из военной истории: «Так было (по истории) с древнейших времен и до настоящего времени. Все войны Наполеона служат подтверждением этого правила. По степени поражения австрийских войск — Австрия лишается своих прав, и увеличиваются права и силы Франции. Победа французов под Иеной и Ауерштетом уничтожает самостоятельное существование Пруссии».
В. Несоответствие между тем, что должно было случиться, и реальностью.
«Несмотря на то, что войска были раздеты, изнурены, на одну треть ослаблены отсталыми, ранеными, убитыми и больными; несмотря на то, что на той стороне Дуная были оставлены больные и раненые с письмом Кутузова, поручавшим их человеколюбию неприятеля; несмотря на то, что большие госпитали и дома в Кремсе, обращенные в лазареты, не могли уже вмещать в себе всех больных и раненых, — несмотря на все это, остановка при Кремсе и победа над Мортье значительно подняли дух войска» [Толстой 2008, т. I–II: 191].
Три однородных придаточных уступки в первой части называют обстоятельства, вопреки которым поднялся дух русского войска. Иначе говоря, налицо перечисление различных факторов, не сыгравших своей, казалось бы, очевидной роли.
Отметим следующие синтаксические особенности периода: составной союз во всех трех случаях разрывается (следствие этого разрыва: придаточное уступки присоединяется при помощи союза к сочетанию производного предлога с указательным местоимением, наполняя последнее конкретным содержанием); во второй части периода употребляется конструкция с производным предлогом с обобщающим значением (несмотря на все это); внутри придаточных частей употребляются однородные составные именные сказуемые (раздеты, изнурены, ослаблены), подлежащие (больные и раненые), дополнения (отсталыми, ранеными, убитыми и больными; больных и раненых); в двух случаях употребляются обособленные согласованные определения, которые выражены причастными оборотами, фиксирующими цель письма Кутузова и судьбу домов в Кремсе. Указанные выше синтаксические особенности положительно влияют не только на содержание периода (ощутимо стремление повествователя к полноте передаваемой исторической информации), но и на ритмическую организацию фразы.
IV. Вторая часть периода, синтезирующая информацию (комплекс воспоминаний), которая представлена в первой части.
«И Аустерлиц с высоким небом, и мертвое укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотою ночи, и эта ночь, и луна — и все это вдруг вспомнилось ему» [Толстой 2008, т. I–II: 540].
Перед нами простое предложение с шестью однородными подлежащими, соединенными повторяющимся соединительным союзом, и обобщающим словом. При этом в первых четырех случаях подчеркиваются детали (см. курсив), при помощи которых в сознании Андрея Болконского оживают воспоминания.
Если рассматривать период в контексте главы, в которую он включается автором, то необходимо отметить следующее: 1) чуть ранее минуты жизни, о которых вспомнил Андрей, названы лучшими; 2) воспоминания вызваны созерцанием преображенного дуба с сочными, молодыми листьями; 3) воспоминания подводят толстовского героя к решению, названному окончательным и беспеременным: «Нет, жизнь не кончена в тридцать один год <...> но надо, чтобы и все знали это...». Налицо перелом во внутреннем мире Болконского, свидетельствующий о выходе из духовного и душевного кризиса.
Неизбежен следующий вывод: первые компоненты периодов, употребляемых Л. Н. Толстым в романе «Война и мир», отличаются синтаксическим разнообразием. Это 1) однородные члены предложения, в том числе и обособленные, выраженные деепричастными оборотами; 2) однородные придаточные времени; 3) однородные придаточные уступки с разрывом составного союза и с сочетанием относительного наречия с частицей; 4) однородные придаточные местоименно-определительные; 5) бессоюзное сложное предложение с предикативными частями, выражающими перечислительные отношения.
Соотнесем логику периода с художественной логикой романа «Война и мир».
Дело в том, что «Война и мир» — не просто роман, а роман-эпопея, претендующий, в силу своих жанровых особенностей, на создание целостной картины мира, бытия, в связи с чем вспомним об одном из символических образов, встречающемся в четвертом томе произведения. Имеется в виду шар, в центре которого Бог, а его окружают капли, стремящиеся в наибольшей степени его отразить. Период также представляет собой целостную структуру, некую модель персонажа, ситуации, явления и т. п. Но роман-эпопея немыслим без развернутой детализации жизни и предметного мира, и живой интерес к деталям, фактам и факторам проявляется в первом компоненте периода, а за этим стоит сложность, многообразие мира и самой жизни. Ритмическая же организация этого компонента, основанная в большинстве случаев на сочинительной связи, то есть однородных конструкциях, и усиленная анафорами, отражает по-своему упорядоченный ритм самой реальности.
Таким образом, период может рассматриваться как способ акцентирования внимания читателя на художественной информации, приобретающей в произведении особую значимость. Это жизненная активность Николая Андреевича Болконского; психологический мир Николая Ростова, в сознании которого сближаются понятия «дом» и «полк», хотя толстовский герой и представляет жизнь в полку как жизнь в монастыре, но ни в коем случае не в миру; перелом во внутреннем мире Андрея Болконского, обусловливающий содержание нового этапа его жизни под воздействием Наташи (ночь в Отрадном, танец с Наташей); отсутствие практицизма у Пьера и перелом в его сознании и душе во время плена под воздействием Платона Каратаева; переживания Наполеона во время Бородинского сражения; негативная характеристика полкового командира, близкая к сатирической, и поэтическая натура капитана Тушина, представляющего мир «простоты, добра и правды»; авторские мысли о духе русского войска и о факторах увеличения или уменьшения «силы народа».
Источники
Толстой Л. Н. Война и мир. М.: Эксмо, 2008. Т. I–II. 768 с.; Т. III–IV. 800 с.
1 «Сложноподчиненные предложения с придаточными времени играют значительную роль в целостной текстовой организации и в создании образов романа» [Поспелова 2011: 117].
2 Периоды с бессоюзными сложными предложениями — нечастое явление. Такая синтаксическая структура встречается, например, в стихотворении А. С. Пушкина «Мне вас не жаль, года весны моей...» [Бабайцева, Максимов 1981: 260].
Об авторах
Мстислав Исаакович Шутан
Нижегородский институт развития образования
Автор, ответственный за переписку.
Email: mshutan@mail.ru
Россия, Нижний Новгород
Список литературы
- Бабайцева В. В., Максимов Л. Ю. Современный русский язык в 3 ч. Ч. 3. Синтаксис. Пунктуация: Учебное пособие для студентов. М.: Просвещение, 1981. 271 с.
- Бочаров С. Г. О художественных мирах. М.: Советская Россия, 1985. 296 с.
- Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX веков: Учебник. 3-е изд. М.: Высшая школа, 1982. 528 с.
- Виноградов В. В. О языке Толстого (50–60-е годы) [Электронный ресурс]. URL: http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/kritika-o-tolstom/vinogradov-o-yazyke-tolstogo/glava-vtoraya.htm (дата обращения: 25.03.2023).
- Гвоздев А. Н. Очерки по стилистике русского языка. М.: Издательство АПН РСФСР, 1952. 356 с.
- Голуб И. Б. Стилистика русского языка. 4-е изд. М.: Айрис-пресс, 2003. 448 с.
- Лекант П. А. (ред.). Современный русский литературный язык: Учебник. М.: Высшая школа, 1982. 399 с.
- Поспелова Ю. О. Композиционно-синтаксическая специфика изображения времени в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. Филология, 2011. С. 113–118.
- Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов: Пособие для учителя. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Просвещение, 1976. 543 с.
- Филин Ф. П. (гл. ред.). Русский язык. Энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1979. 432 с.
- Чичерин А. В. О языке и стиле романа-эпопеи «Война и мир». Львов: Издательство Львовского университета, 1956. 73 с.