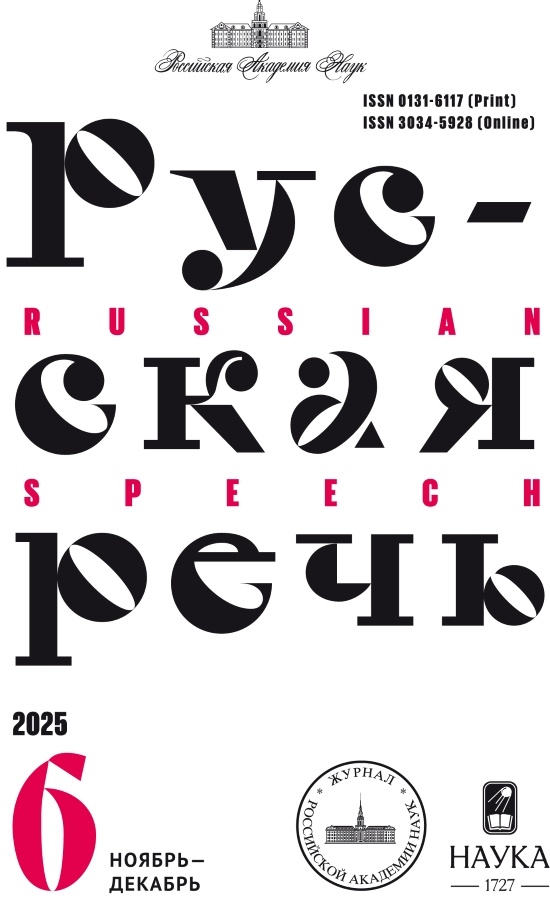«Задумчиво и кротко». За строкой песни Окуджавы «Заезжий музыкант»
- Авторы: Кулагин А.В.1
-
Учреждения:
- Государственный социально-гуманитарный университет
- Выпуск: № 3 (2024)
- Страницы: 53-66
- Раздел: Язык художественной литературы
- URL: https://journal-vniispk.ru/0131-6117/article/view/259422
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0131611724030056
- ID: 259422
Полный текст
Аннотация
Статья представляет собой комментарий к выражению «задумчиво и кротко» из песни Булата Окуджавы «Заезжий музыкант» (1971). В качестве возможных источников строки предлагаются не опубликованное до сего дня и распространенное в 1960-х годах в машинописных копиях стихотворение Александра Кушнера «В зоологический музей...» (1962) и стихотворение Василия Казанцева «Мы пили с ним у автомата...» (первая публикация — 1964). Первое из них могло привлечь Окуджаву своей потенциальной песенностью (фрагмент его в самом деле прозвучал в песенном исполнении в фильме «Два воскресенья», 1963) и отсутствием чуждого обоим поэтам советского оптимизма; второе — предстающим в городской повседневности образом поэта, сочетанием высокого и низкого. С Кушнером Окуджава тесно дружил; с Казанцевым он участвовал в праздновании Дня поэзии в Новосибирске в 1964 году. Попутно в статье кратко прослеживается литературная судьба этого выражения, встречающегося и у других авторов; некоторые из них обратились к нему уже под влиянием Окуджавы (Владимир Ковенацкий, Вероника Долина и другие). В качестве приложения к статье публикуется (впервые) стихотворение А. Кушнера «Воспоминание» (1984), посвященное Окуджаве.
Полный текст
Песня Булата Окуджавы «Заезжий музыкант» датируется 1971 годом. Напомним, что наиболее авторитетным источником датировки песен поэта является второй том самиздатского собрания его сочинений, предпринятого участниками московского Клуба самодеятельной песни (КСП) в 1984 году; материалы этого тома были авторизованы поэтом [Окуджава 1984, т. 2]. В 1975-м стихотворение получило авторскую мелодию, стало песней. Оно уже привлекало внимание интерпретаторов и комментаторов, в том числе с точки зрения литературного фона и возможных реминисценций [Крылов 2002: 182–185; Быков 2009: 380–382; Арсуага-Герра 2011: 32; Крылов 2012: 182–185; Бойко 2013: 253–259]. Мы в данной статье хотим высказать версию о потенциальном источнике (или источниках) строки «Ты слушаешь его задумчиво и кротко» [Окуджава 2001: 341].
Нам видится, что одним из источников могло стать стихотворение Александра Кушнера «В зоологический музей...», написанное, как сообщил нам по нашей просьбе сам поэт, 18 октября 1962 года и сохранившееся в авторизованной машинописи — точнее, в ксерокопии, снятой с авторизованной машинописи. История текста такова. В 1960-х годах среди любителей поэзии имела хождение подборка ксерокопий машинописных листов со стихами Кушнера, по большей части неопубликованными, с точки зрения советской цензуры сомнительными. Экземпляр такой подборки (на одном из листов которой виден автограф поэта) был обнаружен несколько лет назад библиофилом И. А. Некрасовым при разборе архива покойного московского литератора Анатолия Преловского. Эту подборку И. А. Некрасов передал нам. А. С. Кушнер, которого мы ознакомили с ней, подтвердил, что стихи — и не только стихи, но и пишущая машинка, на которой они были отпечатаны, — именно его и что в 60-е годы эти стихи «многим нравились и ходили <...> по рукам» (из письма к автору статьи от 12.02.2019). Стихи вполне могли оказаться в руках Окуджавы. Более того — старший поэт мог получить их из рук самого Кушнера. В 1962–1965 годах Окуджава жил в Ленинграде (в семье своей новой жены, Ольги Арцимович), и Кушнер был у него дома. Довелось им и выступить вместе на одном из поэтических вечеров в Ленинграде [Кушнер 2001: 71]. Да и вообще, два поэта были дружны; Окуджава не раз называл Кушнера в числе любимых своих авторов [Окуджава 1997: 177–179, 183]. Так вот, в упомянутую подборку входит и интересующее нас стихотворение. Приведем его здесь (с разрешения автора) полностью, тем более что оно в печати никогда не воспроизводилось:
В зоологический музей
Пойди тоску свою рассей.
Там аспирантка в пиджаке
Гуляет с палочкой в руке.
— Вот жук — теперь уж не летает,
— Вот чиж — теперь уж не поет,
— Вот морж — теперь уж не ныряет,
— Вот уж — теперь уж не ползет.
Глядим задумчиво и кротко.
Не очень весело им тут.
— Постой, постой, экскурсоводка,
Неженской мудрости сосуд!
А ты летаешь? — не летаешь?
А ты ныряешь? — не ныряешь?
А ты поешь? — ведь не поешь?
А тем не менее — живешь!
Так вот, жуки и бегемоты
И все другие экспонаты
Мертвы, но странно так глядят,
Как будто съесть тебя хотят.
Для того чтобы Окуджава обратил внимание на выражение «задумчиво и кротко», нужно было, чтобы его привлекло стихотворение в целом. Чем оно могло его привлечь?
Прежде всего — своей поэтической формой и интонацией, своей, если можно так сказать, потенциальной песенностью. Кстати, оно и в самом деле превратилось в песню: в фильме В. Шределя по сценарию А. Гребнева «Два воскресенья» (1963) молодежная компания в вагоне поезда распевает первые четыре строки стихотворения (в качестве композитора в титрах указан Андрей Петров; для фильма им были написаны еще две песни, в том числе ставшая популярной «Голубые города» на стихи Льва Куклина).
Невольная, может быть, ориентация стихотворения Кушнера на песню ощущается в обильном использовании параллельных синтаксических конструкций: «Вот жук — теперь уж не летает, // Вот чиж — теперь уж не поет» и т. п. Более того: сами эти конструкции в перефразированном виде в тексте повторяются: «А ты летаешь? — не летаешь?» Это позволяет видеть в четверостишиях втором и четвертом своеобразный потенциальный припев. Отметим и прием анафоры («Вот...» во второй и «А ты...» в четвертой строфе), и внутреннюю рифму («летаешь — ныряешь»), тоже как бы располагающие к пению этого текста. В четвертой строфе внутренней рифмы хотя и нет, но стоящие перед цезурой, в сильной позиции, названия представителей фауны: «жук — чиж — морж — уж» — созвучны между собой благодаря своей односложности и аллитерации. Заметим кстати, что в тексте звучит и сам мотив «пения». Конечно, в буквальном смысле он относится к чижу, но вопрос, обращенный к «экскурсоводке», и подразумеваемый ответ на этот вопрос: «А ты поешь? — ведь не поешь?» поневоле ассоциируются и с пением человеческим.
Черты песенности придает тексту Кушнера и использование простых, глагольных рифм: «летает — ныряет», «поет — ползет» и т. д. При этом стоящее в конце интересующей нас строки слово «кротко» довольно изысканно рифмуется со словом «экскурсоводка», которое само по себе является остроумным — с учетом «гендерного» смыслового оттенка («Неженской мудрости сосуд») неологизмом. Кстати, и Окуджава найдет для слова «кротко» неожиданную и эмоционально контрастную, снижающую лирический пафос рифму «глотка» («Его большой трубы простуженная глотка...»).
Любопытно, что приметы песенности мы обнаруживаем у поэта, от авторской песни в целом далекого и вообще относящегося к ней не без скепсиса [Кушнер 1992: 3]. Но не забудем, что стихи написаны Кушнером в молодости, когда аура бардовского творчества широко охватила молодую интеллигенцию и пройти мимо нее, творчески ее «не заметив», было, наверное, невозможно.
Здесь мы подходим к вопросу о том, что «песенное» стихотворение Кушнера по своему смыслу и своей поэтической форме близко песенному творчеству — преимущественно раннему — самого Окуджавы. Александр Семенович сообщил нам, что некоторые ранние произведения барда он помнит и сейчас, что не удивительно при популярности песен Окуджавы среди интеллигенции в 1960-е годы. О своем первом знакомстве с творчеством барда в годы оттепели он вспоминает в мемуарном очерке «Несколько слов о Булате» [Кушнер 2001: 70–72]. Слегка отступая от темы, позволим себе привести полностью (в Приложении к нашей статье) тоже с разрешения автора и тоже в открытой печати никогда не воспроизводившееся, а помещенное только в стенгазете московского КСП «Менестрель» в 1984 году (данный выпуск был посвящен юбилею Окуджавы [Крылов 2005: 36–38]) стихотворение Кушнера «Воспоминание». Поэт написал его, судя по всему, специально к юбилею по просьбе редколлегии «Менестреля». Можно предположить, что присланное Окуджавой вместе с книгой «Стихотворения» (1984) Кушнеру стихотворение «Ленинград» («Год от года пышней позолота...», с концовкой «Саша Кушнер и Шура Володин — // вот и все из полка моего» [Окуджава 2001: 574]) было как бы поэтическим ответом на кушнеровское «Воспоминание» (юбилейный номер «Менестреля» был подготовлен к маю 1984-го, а автографы в присланном Кушнеру стихотворении Окуджавы и на титульном листе датированы 7 октября того же года [Кушнер 2001: 72]). Но вернемся к интересующему нас стихотворению про зоологический музей.
Нам думается, Окуджава должен был расслышать в нем нечто близкое ему самому (особенно его сравнительно ранним песням) еще и за счет проступающей в тексте шутливым намеком любовной темы, сопровождаемой демократичной, «уличной» интонацией. Напомним некоторые его произведения оттепельной поры: «Ванька Морозов», «Из окон корочкой несет поджаристой...», «Дежурный по апрелю». Эти песни связывает, помимо прочего, образ недоступной (или, может быть, труднодоступной) лирическому герою возлюбленной: циркачка, которую полюбил Ванька; водитель автобуса Надя; некая «она», что «забыла и знать не хочет» героя. Например, Надя: «Она в спецовочке, в такой промасленной, // берет немыслимый такой на ней... // Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы... // Куда же гонишь ты своих коней!» [Окуджава 2001: 152]. Лирический герой Кушнера, видя «аспирантку в пиджаке» (чем эта «униформа» хуже «промасленной спецовочки»?), вполне «в духе Окуджавы», восклицает (кстати, в той самой строфе, что содержит слова «задумчиво и кротко»): «Постой, постой, экскурсоводка, // Неженской мудрости сосуд!» Затаенный подтекст этих строк (не отменяющий их основного, «палеонтологического», смысла) не в том ли состоит, что, дескать, мы, экскурсоводка, были б счастливы, куда же гонишь ты своих коней (моржей, ужей...), постой... Забудь, что ты аспирантка и экскурсоводка, вспомни, что ты женщина. Потенциальная любовная нота — лучше сказать, нота шутливого флирта — в этом стихотворении подкрепляется и его концовкой: «Как будто съесть тебя хотят». Напрямую эти стихи относятся, конечно, к экспонатам, но в то же время не поедают ли девушку-гида взглядом заглянувшие в музей молодые мужчины? Сам Александр Семенович признался нам, что такого содержания в эти стихи не вкладывал, но оно проступает поневоле в силу самой расстановки персонажей и вполне могло быть расслышано Окуджавой независимо от авторского намерения.
Некоторую «любовную» легкомысленность придает лирическому сюжету Кушнера и глагол «гуляешь» — по отношению к экскурсоводу, казалось бы, не очень уместный (да и слово «палочка» вместо ожидаемого «указка» тоже звучит не вполне серьезно и по-своему отвлекает «экскурсантов» от научной информации, которую они вроде бы выслушивают). А ведь этот глагол — очень «окуджавский», он не раз звучит в его поэзии и до написания стихотворения Кушнера, и позже и связан обычно с темами молодости, любви и беспечности: «по делам или так, погулять» («Король»); «Что же ты гуляешь, мой сыночек, // одинокий, / одинокий?» («Дежурный по апрелю»); «Бывали дни такие — гулял я молодой» («Арбатский романс») [Окуджава 2001: 140, 202, 318].
Любопытно, наконец, совпадение мотива экскурсии с «любовным» подтекстом в стихах Кушнера и в более раннем — важно, что ленинградском (лишняя косвенная ассоциация «в сторону Кушнера») — стихотворении Окуджавы «Нева Петровна, возле вас всё львы...» (1957): «Я с женщинами не бывал счастливым, // вы — первая. Я чувствую, что — вы. // Послушайте, не ускоряйте бег, // банальным славословьем вас не трону: // ведь я не экскурсант, Нева Петровна, // я просто одинокий человек» [Окуджава 2001: 137]. Здесь есть и нечто аналогичное будущему кушнеровскому «Постой, постой...» («не ускоряйте бег»), и своеобразный «отказ от экскурсии» во имя чего-то более значимого; неважно, что здесь это серьезное признание в любви реке, а там — шутливое заигрывание с «экскурсоводкой».
Мог привлечь старшего поэта и мотив фауны, и, в частности, энтомологии («жук») — тоже вполне «окуджавский». Опять-таки неважно, что у Кушнера фауна не живая, а «музейная», а у Окуджавы — иносказательная. Назовем ранние его произведения: «Песенка про Черного кота», «Что нужно муравью, когда он голоден?..», «Песенка о московском муравье», «О кузнечиках»; позже появятся и жуки — в детской повести «Прелестные приключения» (Железные Жуки), в стихотворении 1974 года «Весна» («Улыбается жук на тростинке»). Ведь и у Кушнера мотив фауны в итоге нацелен на человека: «А ты летаешь? — не летаешь?» и т. д. Характерны для Окуджавы и многочисленные поэтические обращения к собеседнику во втором лице, какой бы теме стихи ни были посвящены, — от тех же ранних произведений о муравье («Две жирных тли. Паси, дурак, паси...») или о Наде-Наденьке (см. выше) до известных позднейших «А мы с тобой, брат, из пехоты...» или «Поздравьте меня, дорогая: я рад, что остался в живых...» [Окуджава 2001: 346, 509, 348, 408].
Но самое, может быть, главное, что Окуджава расслышал в стихотворении Кушнера и что было творчески близко ему самому, — отказ от оптимизма, который в советские времена неизбежно получал официальную окраску: ведь, согласно советскому искусству, «с каждым днем все радостнее жить». Не раз отмечалось, что герои уже раннего Окуджавы чаще грустят и страдают, чем радуются: «Когда мне невмочь пересилить беду, // когда подступает отчаянье...»; «Девочка плачет: шарик улетел...»; «Вот несчастный человек — это видно по всему...» [Окуджава 2001: 140, 143, 190]. Вот и у лирического героя Кушнера (пусть здесь и полушутка) сходный настрой: «тоску свою рассей», и главное для нас: «Глядим задумчиво и кротко» (а вовсе не жизнерадостно).
Короче говоря, у Окуджавы были свои творческие мотивы для того, чтобы обратить внимание на стихи младшего собрата по перу — по нашей версии, прочитанные им в машинописи. Мы вовсе не считаем, что отклик одного поэта на стихи другого был сознательным. Скорее всего, стихи Кушнера понравились Окуджаве и остались где-то в «подкорке» творческой памяти, а в какой-то момент неосознанно отозвались в «Заезжем музыканте». Более того, нам думается, что если бы Окуджава точно помнил, что это строка Кушнера, он, скорее всего, избежал бы заимствования, чтобы оно не выглядело как плагиат. Но в том-то и дело, что вряд ли он помнил это точно. Между тем, в стихотворении о зоологическом музее, как видим, немало «окуджавского», родственного его поэтическому миру.
Другим источником выражения «задумчиво и кротко» могло стать стихотворение Василия Казанцева «Мы пили с ним у автомата...», опубликованное в девятом номере журнала «Юность» за 1964 год. Его герой — поэт, живущий, в отличие от «простых смертных», своей внутренней жизнью, хотя внешне он вроде бы такой же, как все: пьет газировку «у автомата», ходит в кино, зевает в фойе перед сеансом... Поэт как-никак сродни (заезжему) музыканту; кстати, у обоих авторов поэт или музыкант (то есть в любом случае художник) противопоставлен «обычному» (лишенному творческого дара) лирическому герою — пусть даже с разным оценочным знаком (окуджавский музыкант лирическому герою как бы враждебен, он — его соперник в любви). В этом сопряжении высокого и низкого, выраженном через мотивы городской повседневности, в том числе городских зрелищ, тоже есть нечто «окуджавское» (ср. с уже написанными к этому моменту песнями «Мне нужно на кого-нибудь молиться...», «Тьмою здесь все занавешено...» и др.). Приведем несколько финальных строк стихотворения Казанцева:
Да как же так? Мы были вместе!
Проспектом шли. Входили в зал.
Я был на том же самом месте.
А вот стихов не написал. <...>
Когда с задумчивостью кроткой
Вздымал он ввысь лицо свое,
То видел высь и нечто кроме.
А я не видел. Вот и всё [Казанцев 1964: 40].
Здесь, правда, фраза звучит несколько иначе: «с задумчивостью кроткой», хотя смысл при этом не меняется. За популярным в шестидесятые годы журналом «Юность» Окуджава, сам к тому времени уже один из его авторов, безусловно, следил. Более того, как раз в 1964 году, в марте, Окуджава и Казанцев, живший в ту пору в Томске (в 1971 году он переедет в Подмосковье), участвовали в Дне поэзии в Новосибирске, куда Булат Шалвович приехал в составе писательской бригады «Юности» [Раппопорт 2008: 22–46]; они вполне могли познакомиться лично. Возможно, публикация в «Юности» стихов Казанцева была следствием этой встречи москвичей и сибиряков (хотя в «Юности» он печатался и прежде) и более того — следствием прочтения поэтом данного стихотворения на одном из поэтических вечеров в Новосибирске, где Окуджава мог его услышать. Но если о читательском интересе Окуджавы к Кушнеру мы знаем точно, то о его интересе к Казанцеву сказать ничего не можем. Окуджава мог, конечно, обратить внимание на стихи, вспомнив имя их автора. Да, к моменту написания «Заезжего музыканта» с 1964 года прошло уже много времени — семь лет. Но понравившееся Окуджаве стихотворение — кстати, вошедшее между 1964-м и 1971-м годами в несколько книг Казанцева, одна из которых была издана в столице [Казанцев 1969], — могло ему запомниться. Ведь и стихотворение Кушнера, если Окуджава его помнил, прочитано им было вряд ли прямо накануне написания «Заезжего музыканта».
Но могло быть и так: интересующее нас выражение Окуджава встретил сначала у одного поэта, затем у другого, и это позволило ему (выражению) «осесть» и закрепиться в творческом сознании барда, а затем и понадобиться в собственной творческой работе. И вообще в этой фразе заложена некоторая «романсовость», традиционность, ощущается легкое стилизационное начало — Окуджаве, конечно же, близкое. Возможно, отозвалась и есенинская интонация. У Есенина хотя и нет именно выражения «задумчиво и кротко», но сама эта лексика — в его духе: «Мой край, задумчивый и нежный!» («Я снова здесь, в семье родной...»); «Но люблю тебя, родина кроткая!» («Русь»; курсив наш. — А. К.) [Есенин 1956: 84, 72]. Кстати, та же есенинская интонация, как нам кажется, повлияла на соответствующий образ («задумчиво и кротко») в строках орловского стихотворца местного масштаба, написанных до «Заезжего музыканта» и едва ли не напрашивающихся на пародию, Окуджаве же наверняка неизвестных: «Просияв задумчиво и кротко, // Входит в город полная луна. // Анны Керн летучая походка // На вечерней улице слышна» [Катанов 1968: 50].
Нужно сказать, что выражение «задумчиво-кротко» (именно так, через дефис) встречается в рассказе художника Константина Коровина «Этот самый Пушкин...», в котором появляется сын великого поэта (художник был знаком с Александром Александровичем Пушкиным): «В его образе, в голове, когда он читал страницы книги, было что-то другое: лицо его было внимательно и задумчиво-кротко» [Константин Коровин вспоминает... 1971: 563]. Рассказ был опубликован в парижском журнале «Иллюстрированная Россия» в 1935 году (21 декабря), а в России был впервые перепечатан в 1971 году, в только что процитированном нами издании. Кушнер прочитать его в начале 1960-х вряд ли мог; мог ли прочитать в 1971-м — а значит, позаимствовать выражение у Коровина — Окуджава? Теоретически это допустимо, хотя дата в выходных данных книги Коровина (30.09.1971; обычно в советских изданиях указывались две даты — сдачи в набор и подписания в печать; здесь скорее всего дата подписания в печать как более значимая) подсказывает, что к читателям книга при неторопливости советской книжно-полиграфической системы могла попасть лишь к концу года; точная же дата (число и месяц) написания «Заезжего музыканта» нам не известна. Но даже если бы Окуджава и читал его, все равно поэтическая строчка, ритмичная и зарифмованная, скорее останется в памяти поэта-читателя, чем строчка прозаическая, «теряющаяся» в контексте. Так что шансов считаться источником окуджавского выражения у рассказа Коровина мало — во всяком случае меньше, чем у стихов Кушнера и Казанцева.
Любопытно, что поэтическая история выражения «задумчиво и кротко» продолжилась — и вероятно, с подачи Окуджавы, ибо песня «Заезжий музыкант» звучала в позднесоветские времена широко и интеллигенции была хорошо известна по магнитофонным записям (на пластинке она будет издана в 1980-м). В 1977 году, то есть спустя два года после появления у стихов Окуджавы авторской мелодии, поэт андеграунда Владимир Ковенацкий написал стихотворение «Вечер на ипподроме», лирический герой которого переживает неразделенную любовь, страдает от одиночества и неожиданно находит утешение среди... лошадей. Поэтому лошади у него оказываются наделены человеческими качествами:
И я нашел в конюшне ипподрома
Душе необходимое тепло.
Там было все так мило и знакомо,
Уютно, чисто, хоть и не светло.
Из темноты задумчиво и кротко
Там рысаки глядели на меня,
Копытом бухая в перегородку
И шеи лебединые клоня [Ковенацкий 2007: 176].
Может быть, в этих стихах невольно отозвалось «Хорошее отношение к лошадям» Маяковского, только здесь ситуация как бы вывернута наизнанку («хорошее отношение лошадей»). Но главное: стихи Ковенацкого, с характерной для него иронической постмодернистской игрой (хотя здесь она, кажется, приглушена в пользу серьезного тона: «А сколько было в этой животине // Спокойствия и нежной доброты!»), отражают неприкаянность и маргинальность лирического героя. Герой Ковенацкого — из того же ряда, в котором находятся Веничка из поэмы «Москва — Петушки» или герой довлатовского «Заповедника». В таком контексте и возникла — возможно, невольно, безотчетно — в его (героя) сознании звучащая строчка Окуджавы (впрочем, к 77-му году стихотворение Окуджавы было уже дважды напечатано — сначала в московском «Дне поэзии» 1972 года, а затем, в 1976-м, в авторском сборнике «Арбат, мой Арбат»). Ведь мотив «маргинальности» слегка ощутим и в «Заезжем музыканте» («Дождусь я лучших дней // И новый плащ одену...»).
И можно почти наверняка утверждать, что из песни Окуджавы выражение «задумчиво и кротко» попало в песню Вероники Долиной «Я нищая сиротка...» («И в небо синее смотрю // Задумчиво и кротко» [Долина 2001: 188]; здесь же есть еще и почти окуджавское «вздыхаю тяжко»; напомним в «Заезжем музыканте»: «вздыхает тяжело»), — а также в выложенные в Сети стихи Лау Голдман: «И темнота у каждого своя... // Она как кошка легкою походкой, // Как лань, задумчиво и кротко, // Приходит, чтоб сказать мне: Я твоя...» [Голдман]. Здесь, как видим, возникает новый «зоологический» мотив («как лань»; ср. с «рысаками» Ковенацкого), при этом способностью приходить «задумчиво и кротко» наделен не человек, а аллегорическая «темнота».
ПРИЛОЖЕНИЕ
А. Кушнер
ВОСПОМИНАНИЕ
Я думал, вы — японец, Окуджава,
когда впервые кто-то произнес
фамилию при мне. Летела слава
быстрее пчел, стремительней стрекоз.
Потом я вас увидел, слава богу.
Я в «Литгазету» как-то заглянул.
Вы и тогда, насколько помню, ногу
красивым жестом ставили на стул.
Вот вы ее поставили, по струнам
рукой так чудно, тихо провели –
и нам, в ту пору пасмурным и юным,
жизнь улыбнулась: в комнату вошли
печаль и радость, вера и волненье,
и в первый раз явились, а не вновь,
и божество, и — как там? — вдохновенье?
и к вашим песням вечная любовь...
(Менестрель: Стен. газ. Моск. КСП. 1984. № 2–3 (23–24). С. 20)
Об авторах
Анатолий Валентинович Кулагин
Государственный социально-гуманитарный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: kula-mariya@yandex.ru
Россия, Коломна, Московская область
Список литературы
- Арсуага-Герра М. Образ музыканта и символы судьбы и надежды в поэзии Б. Ш. Окуджавы // Булат Окуджава. Опыты молодых / Сост.: Е. А. Семенова. М.: Изд-во Сев.-Вост. гос. ун-та; Магадан, 2011. С. 30–35.
- Бойко С. С. Творчество Булата Окуджавы и русская литература второй половины ХХ века. М.: РГГУ, 2013. 608 с.
- Быков Д. Л. Булат Окуджава. М.: Молодая гвардия, 2009. 784 с.
- Голдман Л. И тишина у каждого своя... [Электронный ресурс]. URL: https://stihi.ru/2014/ 10/03/3010 (дата обращения: 27.05.2023).
- Долина В. А. Сэляви: Стихотворения. М.: Эксмо-Пресс, 2001. 414 с.
- Есенин С. А. Стихотворения и поэмы. Л.: Совет. писатель, 1956. 440 с.
- Казанцев В. И. «Мы пили с ним у автомата...» // Юность. 1964. № 9. С. 40.
- Казанцев В. И. Русло: Стихи. М.: Совет. Россия, 1969. 96 с.
- Катанов В. М. Всегда со мной: Стихи. Тула: Приок. кн. изд-во, 1968. 56 с.
- Ковенацкий В. А. Альбом стихов, рисунков и гравюр. М.: Культурная революция, 2007. 282 с.
- Константин Коровин вспоминает... / Сост. И. С. Зильберштейн и В. А. Самков. М.: Искусство, 1971. 912 с.
- Крылов А. Е. Из запасных файлов // Вопросы литературы. 2012. № 1. С. 399–417.
- Крылов А. Е. Мои воспоминания о Мастере, или Как я стал агентом КГБ. М.: Булат, 2005. 160 с.
- Крылов А. Е. О задачах и особенностях текстологии поэтических произведений Окуджавы: К постановке проблемы // Окуджава. Проблемы поэтики и текстологии / Сост. А. Е. Крылов. М.: ГКЦМ В. С. Высоцкого, 2002. С. 163–193.
- Кушнер А. С. Несколько слов о Булате // Творчество Булата Окуджавы в контексте культуры ХХ века / Ред.-сост.: И. И. Ришина. М.: Соль, 2001. С. 70–72.
- Кушнер А. С. Рискуя вызвать негодование... // ЛГ-Досье: Приложение к «Литературной газете». 1992. № 11. С. 3.
- Окуджава Б. Ш. Собр. соч.: В 11 т. / Подгот. коллективом под рук. А. Гербовицкого. М., 1984 [отпечат. на множит. аппарате].
- Окуджава Б. Ш. Стихотворения / Сост. и подгот. текста В. Н. Сажина и Д. В. Сажина. СПб.: Гуманит. агентство «Академич. проект», 2001. 712 с.
- Окуджава Б. Ш. «Я никому ничего не навязывал...» / Сост. А. Е. Петраков. М.: Кн. магазин «Москва», 1997. 288 с.
- Раппопорт А. Г. Окуджава в Новосибирске // Голос надежды: Новое о Булате / Сост. А. Е. Крылов. Вып. 5. М.: Булат, 2008. С. 22–46.