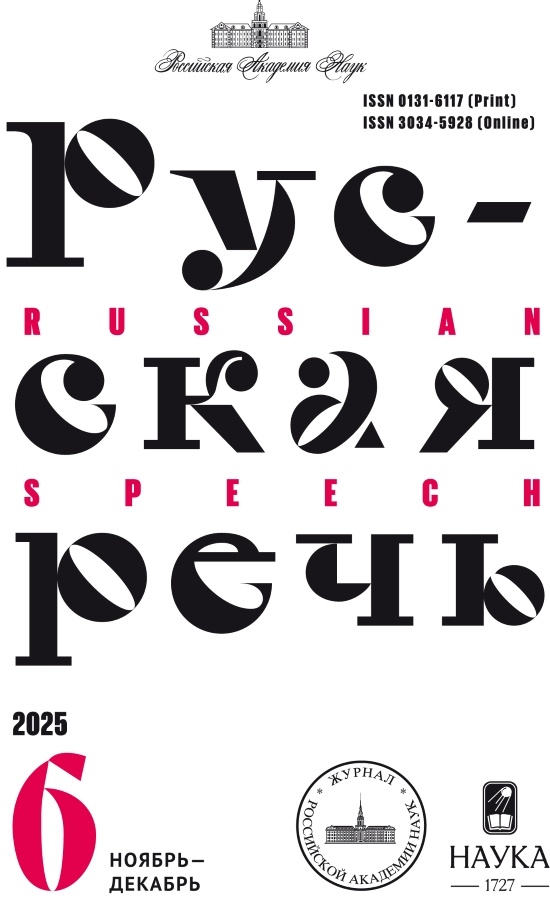Примечания Н. М. Карамзина к письму Д. И. Фонвизина — реплика в споре о языке
- Авторы: Трахтенберг Л.А.1
-
Учреждения:
- Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
- Выпуск: № 5 (2024)
- Страницы: 48-60
- Раздел: Из истории русского языка
- URL: https://journal-vniispk.ru/0131-6117/article/view/266034
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0131611724050044
- ID: 266034
Полный текст
Аннотация
Полемика о языке играет важнейшую роль в истории русской литературы первой четверти XIX в. Начало ей дают статья Н. М. Карамзина «Отчего в России мало авторских талантов?» (1802) и книга А. С. Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» (1803), где позиция Карамзина подвергается критике. Традиционно считается, что Карамзин Шишкову не отвечает. В статье аргументируется предположение о том, что Карамзин все же выражает свою позицию в печати, но в завуалированной форме. Репликой Карамзина в споре о языке становятся примечания к осуществляемой им в октябре 1803 г. публикации письма Д. И. Фонвизина О. П. Козодавлеву, посвященного «Словарю Академии Российской», в работе над которым автор «Недоросля» принимает активное участие.
В письме, а вслед за ним в примечаниях Карамзина затрагивается вопрос о месте заимствований в русском языке — центральная проблема в книге Шишкова. Карамзин занимает умеренную позицию, рекомендуя отказ от тех заимствований, которые уже имеют исконно русские смысловые эквиваленты. Однако в целом заимствования он считает полезными постольку, поскольку они позволяют выразить понятия, русскому языку еще незнакомые. Эта позиция противостоит стремлению Шишкова избавить русский язык от заимствований.
За разногласиями по этому вопросу стоит различие концепций языка в целом. Карамзин смотрит на язык как на средство выражения понятий, которые могут носить интернациональный характер, заимствоваться так же, как и слова, и при необходимости — вместе с ними. Для Шишкова первичны слова, а не понятия; каждое слово выступает во всей совокупности своих значений, словообразовательных и семантических связей с другими лексическими единицами. Эти характеристики национально-специфичны, вследствие чего заимствования, по мысли Шишкова, не обогащают, а разрушают язык, навязывая чуждые ему черты.
Полный текст
Полемика о языке — важнейшее событие в русской литературе первых десятилетий XIX века. Ее началом становится публикация статьи Н. М. Карамзина «Отчего в России мало авторских талантов?» в основанном им журнале «Вестник Европы» в июле 1802 г. и трактата А. С. Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» — в 1803 г. Книга Шишкова вызывает ожесточенные споры; против нее выступают многочисленные сторонники Карамзина.
Считается, что сам Карамзин на критику Шишкова не отвечает. После 1803 г. он отходит от литературной борьбы и сосредоточивается на работе над «Историей государства Российского».
Между тем существует сочинение Карамзина, которое можно рассматривать как реплику в споре о языке и тем самым как ответ Шишкову. Это примечания к «Письму Дениса Ивановича Фонвизина к приятелю о плане российского словаря», впервые опубликованному в «Вестнике Европы» в октябре 1803 г. [Фонвизин 1803].
Примечаний к статье десять. Все они подписаны литерой К. Последняя фраза первого по счету примечания: «Издатель <...> благодарит почтенную особу, от которой получил его» (т. е. публикуемое письмо) [Там же: 163] — подтверждает, что издатель журнала и автор примечаний — одно лицо. На авторство Карамзина вскоре после публикации указывает епископ Евгений (Болховитинов) [Евгений 1805: 254]. Эта атрибуция принята в литературоведении [Ефремов 1866: 680; Макогоненко 1959: 622].
Публикация письма Д. И. Фонвизина в «Вестнике Европы» давно введена в научный оборот. Однако примечания Карамзина обычно не рассматриваются в контексте полемики о языке. Лишь учитывает, но не разбирает их В. В. Виноградов в одной из сносок к монографии «Язык Пушкина» [Виноградов 1935: 381] (см. также: [Виноградов 1994: 1032–1033]). Задача статьи — проанализировать эти примечания и показать, какие выводы о позиции Карамзина в споре с Шишковым они позволяют сделать.
Письмо Фонвизина связано с работой над «Словарем Академии Российской» ([САР1], переиздание — [САР 2001–2006]). Его предыстория такова. С момента создания Академии, членом которой становится Фонвизин, ее важнейшая задача — подготовка словаря [Вомперский 1992: 5–8]. В качестве руководства для работы над этим изданием создается инструкция — «Начертание для составления толкового словаря славяно-российского языка», датируемое 1783 годом. Это коллективный труд, но Г. П. Макогоненко доказывает, что наиболее значительный вклад в работу внесен Фонвизиным. Другой член Академии, историк И. Н. Болтин, не соглашается с некоторыми принципами, сформулированными в «Начертании...». Ответом на его замечания и становится письмо Фонвизина, адресованное О. П. Козодавлеву, также члену Академии, в котором автор защищает и в то же время уточняет ранее высказанные положения. Оно относится к началу 1784 г. [Сухомлинов 1885: 11–18; Макогоненко 1958: 143–144; Макогоненко 1959: 622; Кочеткова 1984: 193–197].
В момент публикации письмо Фонвизина приобретает актуальность. С 1801 г. Российская академия работает над новым изданием словаря [САР2 1806–1822] (см.: [Сухомлинов 1887: 181–195]). Шишков, член академии с 1796 г., принимает в ее работе деятельное участие; на ее заседаниях он читает «Рассуждение о старом и новом слоге...» [Сухомлинов 1885: 188–189]. Таким образом, публикация, подготовленная Карамзиным, обращена одновременно к двум сторонам филологической деятельности Шишкова — литературно-полемической и лексикографической.
Функции примечаний Карамзина различны. Некоторые проясняют неизвестный читателю «Вестника Европы» историко-литературный контекст. Но другие делаются к концептуальным утверждениям Фонвизина, смысл которых вполне понятен и в разъяснении не нуждается. Семантическая избыточность по отношению к комментируемому тексту дает основания полагать, что значение подобных примечаний не служебное, а самостоятельное: в них Карамзин формулирует собственную точку зрения по тем вопросам, которые обсуждает Фонвизин. Именно они важны в контексте полемики о языке.
Первое из таких примечаний, по общему счету сносок третье, сделано к слову резон, употребленному Фонвизиным. Этот галлицизм означает ‘причину’. В XVIII веке, как видно из данных Национального корпуса русского языка, он широко распространен. В частности, сам Фонвизин неоднократно использует это слово в переписке, а также один раз — в «Чистосердечном признании в делах моих и помышлениях». Но в его художественных текстах слово резон употреблено лишь один раз — в «Бригадире», в комически стилизованной речи Советницы. Эта героиня представляет типаж кокетки, одна из отличительных черт которого — пристрастие к галлицизмам [Биржакова 1981: 106–122]. В «Словаре Академии Российской» статьи резон нет.
Карамзин говорит: «Разумеется, что Фонвизин не употребил бы слова резон, если бы он писал для публики и для печати» [Фонвизин 1803: 165]. Как видно из примеров, этот комментарий не противоречит языковой практике Фонвизина, хотя в целом на фоне традиций XVIII в. означает сдвиг в сторону пуризма. Тем самым Карамзин солидаризируется с мнением о необходимости сокращать употребление заимствований в тех случаях, когда есть исконно русский синоним.
Свою позицию по вопросу о заимствованиях Карамзин проясняет в другом примечании — к тому месту, где Фонвизин рассуждает о включении в словарь специальных терминов. Согласно «Начертанию...», в «Словарь Академии Российской» не должны входить «названия технические», известные лишь специалистам [Фонвизин 1959: 240–241]. Болтин возражает против исключения терминов [Болтин 1869: 398]. Фонвизин в ответ разъясняет, что те из них, которые знают не только специалисты, должны занять место в словаре, и приводит примеры: «...многим не астрономам известны аберрация и перигей; многим не хронологам знакома эпакта; многие не архитекторы знают, что архитрава» [Фонвизин 1803: 172]. В «Словарь Академии Российской» включены не все эти слова: там есть епакта [САР1, ч. 2: 1009] и архитрав (м. р.) [САР1, ч. 1: 34–35], но нет ни аберрации, ни перигея.
Карамзин делает к слову эпакта сноску: «Смысл аберрации выражается русским словом уклонение: следственно можно и не ставить латинского слова; но греческие эпакта и перигей должны без сомнения войти в лексикон» [Фонвизин 1803: 172]. Здесь Карамзин отвечает, строго говоря, не на тот вопрос, который ставит Фонвизин, поскольку речь идет о классификациях слов по разным основаниям. В комментируемом тексте ставится вопрос о сфере употребления лексем и, соответственно, о тематическом ограничении словника, а в примечании — об этимологии и ограничении нормативно-стилистическом.
Комментарий еще раз подтверждает, что, по мнению Карамзина, заимствований желательно избегать в тех случаях, когда можно найти русский аналог. Однако отсюда видно и то, что при отсутствии аналога заимствования необходимы.
В спорах о языке начала XIX в. главным противником заимствований выступает Шишков. Но, как показывает дальнейшая полемика, сторонники Карамзина также не настаивают на употреблении любых заимствований вне зависимости от контекста и смысла. Они лишь доказывают пользу такой лексики в тех случаях, когда отсутствует русский эквивалент. Впрочем, по их мнению, подобных случаев очень много, так как развитие общества порождает новые явления, требующие и новых слов. Именно такую концепцию отстаивает П. И. Макаров в «Критике на книгу под названием “Рассуждение о старом и новом слоге российского языка”», опубликованной в журнале «Московский Меркурий» [Макаров 1803: 162–167]. Статья Макарова — один из первых и в то же время наиболее значительных откликов на сочинение Шишкова. Она выходит всего через два месяца после статьи Фонвизина с примечаниями Карамзина — в декабре 1803 г. Естественно предположить, что публикация Карамзина известна Макарову, и вполне возможно, что высказанные в комментариях к письму Фонвизина суждения служат для критика ориентиром.
Шишкову же эти идеи чужды по двум причинам. Во-первых, в силу своих убеждений он не склонен идеализировать развитие общества [Альтшуллер 2007: 28–43]. Во-вторых, в случае отсутствия необходимого слова он предпочитает заимствованиям неологизмы на основе русских морфем.
Более того, Шишков не оставляет в стороне вопроса о терминах, рекомендуя по возможности заменять русскими эквивалентами и их. В «Рассуждении...» он не только признает желательным предпочтение заимствованному исконно русского термина, если он уже существует, но и советует конструировать термины. В этом он следует образцу своих учителей по Морскому кадетскому корпусу П. И. Суворова и В. В. Никитина (см.: [Руднев 2020]), ссылаясь на выполненный ими перевод «Начал» Евклида, где, например, «параллельные линии названы минующими чертами» и т. д. [Шишков 1813: 175].
Таким образом, в комментариях к словам резон и эпакта Карамзин занимает умеренную позицию по вопросу о заимствованиях. Он солидаризируется со своим противником в традиционном для русской литературы отрицании бездумного подражания французскому языку. Однако в то же время Карамзин настаивает на пользе заимствований в тех случаях, когда в русском языке нет подходящих слов для обозначения выражаемых ими понятий. Соглашаясь с тем, что в сфере терминологии при сосуществовании двух слов следует выбирать исконно русское, он отвергает крайний пуризм Шишкова, требующий отказа от уже закрепившегося в языке заимствования в пользу неологизма. Тем самым Карамзин задает направление, в котором концепцию будут в дальнейшем развивать его сторонники.
Близкой теме посвящен еще один комментарий, в котором речь идет уже не о языке-объекте, а о языке описания: обсуждается лексикологическая терминология, необходимая в словаре. Для обозначения синонима в «Начертании...» предлагается термин-калька сослово [Фонвизин 1959: 243]. Болтин, прочитав его несколько иначе — сослов, считает такой неологизм неуместным и рекомендует использовать термин синоним [Болтин 1869: 402]. Фонвизин в письме Козодавлеву защищает свое предложение; слова синоним он не рассматривает. В «Словаре Академии Российской» принят вариант мужского рода — сослов [САР1, ч. 5: 544]; статья синоним отсутствует.
Карамзин замечает: «И сослов, и сослово равно неудачны и едва ли когда-нибудь войдут в употребление» [Фонвизин 1803: 176]. Слова синоним не приводит и он; о том, что Болтин уже предлагает этот вариант, Карамзин, вероятно, не знает. Замечания Болтина не опубликованы, и Карамзин, по-видимому, судит об их содержании по ответу Фонвизина. Однако скорее всего подразумевается, что в соответствующем значении должен выступать именно грецизм синоним. Карамзин, надо думать, считает это слово допустимым, поскольку сам употребляет его ранее, в 1795 году, в заметке, которую включают в издания его сочинений под редакторским названием «О богатстве языка».
Здесь снова поднимается вопрос, следует ли заимствовать иноязычные термины или создавать свои, из русских корней, прежде всего путем калькирования. Карамзин выступает против терминов-неологизмов на русской основе, предпочитая заимствования, более понятные благодаря иноязычной научной литературе. Тем самым он не соглашается с Шишковым.
Еще один комментарий Карамзина посвящен вопросу о диалектизмах. Согласно «Начертанию...», их включение в словарь не предполагается. Исключение делается лишь для тех «провинциальных слов», «кои силою и красотою могут служить к обогащению российского языка» [Фонвизин 1959: 241]. Болтин защищает диалектизмы. В качестве примеров потенциально полезных для языка диалектных слов он приводит существительные луда и тундра; Фонвизин вслед за ним обсуждает эти примеры. Слово луда встречается в литературе конца XVIII в. в значении «камень, высунувшийся из воды», которое дается в «Словаре Академии Российской» без указаний на локальную ограниченность употребления [САР1, ч. 3: 1323]; нет таких указаний и в статье тундра [САР1, ч. 6: 324–325].
Фонвизин пишет: «...буде луда и тундра очень хороши, найдут и оне место в нашем словаре» [Фонвизин 1803: 173–174]. Карамзин дает к этому фрагменту такое примечание: «Сибирское слово тундра должно быть в русском лексиконе, ибо никаким другим мы не означим обширных, низких, безлесных равнин, заростших мхом, о которых может говорить поэт, географ, путешественник, описывая Сибирь и берега Ледовитого моря; но в луде, кажется, нет большой нужды» [Там же]. Иными словами, с точки зрения Карамзина, первое слово нужно, так как не имеет литературного эквивалента, а второе избыточно, поскольку у него такой эквивалент есть. Принципиальная позиция Карамзина по вопросу диалектизмов оказывается, в сущности, такой же, как и по вопросу заимствований, — функциональной: они нужны литературному языку, если обозначают реалии, для которых в нем нет иного названия; если же в литературном языке уже есть слово с соответствующим значением, тогда в них нет необходимости.
Вопрос о диалектизмах не имеет прямого отношения к «Рассуждению...» Шишкова, поскольку там о них не говорится. Но в контексте других комментариев Карамзина этот можно прочитать как новое подтверждение того же общего принципа: расширение лексикона необходимо постольку, поскольку вводимые туда слова выражают понятия, для которых еще нет слов.
Концепция Карамзина исходит из существования понятий, для выражения которых языку требуются слова. Понятия порождает действительность; язык дает для них форму, но не является их источником. Поэтому они могут быть перенесены из одного языка в другой.
Концепция Шишкова организована на иных основаниях. Исходный пункт его рассуждений — не понятие, а слово. Оно берется как семантическое единство во всей совокупности своих значений. Семантическую структуру слова Шишков иллюстрирует с помощью концентрических кругов, где внутренний круг представляет это основное, прямое значение слова, а круги большего диаметра — значения переносные.
Понятые таким образом слова национально-специфичны. Перевод ведет к неизбежным потерям в силу того, что, если прямое и даже некоторые переносные значения слов совпадают, это совпадение не охватывает всего семантического спектра.
Можно сказать, что концепции Карамзина и Шишкова реализуют противоположные семантические модели. Концепция Карамзина ономасиологическая: набор значений полагается независимым от их выражения в слове, хотя и меняющимся по мере развития общества, и благодаря этому, по крайней мере в идеале, универсальным. Концепция Шишкова семасиологическая: слова каждого языка даны, а вместе с ними даны и присущие каждому из них конфигурации значений. Они сформированы в ходе истории языка; поскольку у каждого языка эта история своя, национально-своеобразно и определенное ею современное состояние.
В комментариях к письму Фонвизина Карамзин едва намечает свою концепцию. Однако уже в упоминавшейся выше рецензии П. И. Макарова она излагается более подробно: «Нет вещи, нет и слова; нет понятия, нет и выражения <...> Язык следует всегда за науками, за художествами, за просвещением, за нравами, за обычаями» [Макаров 1803: 162–163]. Можно сказать, что Макаров реализует программу, краткий очерк которой уже дан Карамзиным.
Заслуживает внимания и еще один комментарий Карамзина. В «Начертании...» для «Словаря Академии Российской» предложен «этимологический» порядок расположения материала (сегодня этот принцип называется алфавитно-гнездовым). Болтин выступает за алфавитный порядок [Болтин 1869: 399]. Фонвизин защищает первоначальный принцип. Карамзин же критикует «этимологическое» расположение: «...все ли догадаются, что надобно искать, например, облака в литере В?» [Фонвизин 1803: 178] (в «Словаре Академии Российской» это слово дается в составе статьи ВЛЕКУ [САР1, ч. 1: 775]).
В контексте полемики о языке читатель может вспомнить, что для Шишкова вопросы этимологии исключительно важны. Ведь Шишков считает, что происхождение слов, обусловленные им отношения словообразовательной мотивированности и направляемые этими отношениями семантические связи определяют национальное своеобразие языка. Комментарий же Карамзина можно прочитать как намек на то, что если, как в разбираемом примере, этимология слов непрозрачна, то и их словообразовательные и смысловые связи неясны и вследствие этого несущественны, а значит, Шишков неправ, придавая всему этому большое значение.
Как видно из сказанного, в примечаниях Карамзина нет прямых отсылок к книге Шишкова. Однако это не мешает видеть в них ответ автору «Рассуждения...», пусть и завуалированный. Причина — в характерном для рубежа XVIII–XIX вв. стиле полемики. В это время принято из уважения к оппоненту вести дискуссию не только не упоминая его имени, но часто даже не цитируя его сочинений, с которыми идет спор. Тем более такая установка должна быть важна для Карамзина: репутация автора, воздерживающегося от полемики в принципе, закрепляется за ним не случайно.
При подготовке нового издания «Словаря Академии Российской» замечания Карамзина, судя по всему, не учитываются. Во всяком случае в подаче тех слов, о которых он рассуждает, изменений, за редким исключением, нет. Как и в первом издании, во втором есть епакта [САР2, ч. 2: 367] и архитрав [САР2, ч. 1: 59], но нет аберрации и перигея. Слово уклонение есть [САР2, ч. 6: 631], но, как и в предыдущем издании [САР1, ч. 3: 633], не в качестве астрономического термина. По-прежнему есть сослов [САР2, ч. 6: 395] и нет синонима. Слова луда ‘мель’ [САР2, ч. 3: 615] и тундра [САР2, ч. 6: 809], как и прежде, даются без помет. Структура словаря на этот раз не алфавитно-гнездовая, а алфавитная, как и рекомендует Карамзин, но решение перейти к такому порядку принято еще до того, как он высказывает это предложение, — в 1801 г., в начале работы над вторым изданием словаря [Сухомлинов 1887: 181–182].
Однако незамеченной предпринятая Карамзиным публикация письма Фонвизина, по-видимому, не проходит. Косвенным свидетельством знакомства с ней служит фрагмент одной из самых известных работ, написанных в ходе полемики о языке, — статьи В. К. Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие», опубликованной в 1824 г. Критикуя с архаистических позиций насыщенный заимствованиями «новый слог», Кюхельбекер пишет, что его сторонники «изгоняют» из русского языка «все речения и обороты славянские и обогащают его архитравами, колоннами, баронами, траурами, германизмами, галлицизмами и барбаризмами» [Кюхельбекер 1824: 38]. Почему среди примеров упоминаются архитравы? Можно предположить, что Кюхельбекеру знакомо письмо Фонвизина, где среди немногих примеров терминологической лексики обсуждается именно это слово. Карамзин же в примечании связывает его с проблемой заимствований. Едва ли Кюхельбекер сознательно напоминает читателю о публикации более чем двадцатилетней давности; но если память, словно случайно, подсказывает ему такой пример, то тем больше оснований полагать, что письмо в какой-то момент обращает на себя внимание будущего автора статьи.
Из сказанного можно сделать следующие выводы. Публикация в «Вестнике Европы» в 1803 г. письма Фонвизину обусловлена контекстом начинающейся полемики о языке. Карамзин использует этот материал как повод сформулировать свою позицию, отвечая Шишкову на высказанные в «Рассуждении...» замечания. Карамзин занимает умеренную позицию, солидаризируясь с Шишковым в отказе от избыточных заимствований, имеющих уже известный русский эквивалент. Однако, в отличие от Шишкова, он считает заимствования полезными, если они выражают еще отсутствующие в русском языке понятия. В целом из комментариев Карамзина видно, что его концепция языка строится на иных основаниях, нежели теория Шишкова. Исходной данностью для Карамзина являются понятия, тогда как для Шишкова — слова. Это, в свою очередь, отражает установку Карамзина на диалог культур, возможный благодаря универсальному характеру понятий, допускающих заимствование, отличную от установки Шишкова на самобытность народа, которая находит выражение в лексиконе, структурированном исторически сложившимися словообразовательными и семантическими связями. Высказанные в комментариях к письму Фонвизина суждения Карамзина выступают как программа, которую в дальнейшем в ходе полемики реализует Макаров в отзыве о книге Шишкова.
Источники
Болтин И. Н. Примечания Болтина на начертание для составления славено-российского толкового словаря // Державин Г. Р. Соч. / С объясн. примеч. Я. К. Грота: В 9 т. Т. 5. СПб.: Тип. Акад. наук, 1869. С. 396–404.
Евгений (Болховитинов). Продолжение нового опыта исторического словаря о российских писателях // Друг просвещения. 1805. Ч. 3. № 9. С. 231–256.
Ефремов П. А. Библиографические заметки // Фонвизин Д. И. Соч., письма и избранные переводы. СПб.: Изд. И. И. Глазунова, 1866. С. 662–691.
Кюхельбекер В. К. О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие // Мнемозина. Ч. II. М.: Тип. Московского театра, 1824. С. 29–44.
Макаров П. И. Критика на книгу под названием: Рассуждение о старом и новом слоге российского языка // Московский Меркурий. 1803. Ч. IV. № 12. С. 155–198.
САР1 — Словарь Академии Российской. Ч. 1. СПб.: При Акад. наук, 1789. XVIII с., 1140 стб., [48] с.; Ч. 2. 1790. XIII [1] с., 1200 стб., [52] с.; Ч. 3. 1792. [6] с., 1388 стб., [64] с.; Ч. 5. 1794. [2] с., 1084 стб., [58], 3 с.; Ч. 6. 1794. [6] с., 1064, [4] стб.
САР 2001–2006 — Словарь Академии Российской, 1789–1794: В 6 т. / [Гл. ред. Г. А. Богатова]. М.: МГИ им. Е. Р. Дашковой, 2001–2006.
САР2 — Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. Ч. 1. СПб.: При Акад. наук, 1806. [5] с., 1310 стб.; Ч. 2. 1809. [1] с., 1178 стб.; Ч. 3. 1814. [1] с., 1444 стб.; Ч. 6. СПб.: При Российской Академии, 1822. [2] с., 1478 стб.
Сухомлинов М. И. История Российской академии. Вып. 7. СПб.: Тип. Акад. наук, 1885. VI, 648 с.; Вып. 8. 1887. IV, 493 с.
Фонвизин Д. И. Письмо Дениса Ивановича Фонвизина к приятелю о плане российского словаря // Вестник Европы. 1803. Ч. XI. № 19. С. 163–178.
Фонвизин Д. И. Собр. соч.: В 2 т. / Сост., подгот. текста, вступ. статья и коммент. Г. П. Макогоненко. Т. 1. М.; Л.: Гослитиздат, 1959. XLVIII, 631 с.
Шишков А. С. Рассуждение о старом и новом слоге российского языка. СПб.: Медицинская тип., 1813. [6], 436 с.
Об авторах
Лев Аркадьевич Трахтенберг
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Автор, ответственный за переписку.
Email: Lev_A_T@inbox.ru
Россия, Москва
Список литературы
- Альтшуллер М. Г. Беседа любителей русского слова: у истоков русского славянофильства. Изд. 2-е, доп. М.: НЛО, 2007. 444 с.
- Биржакова Е. Э. Щеголи и щегольской жаргон в русской комедии XVIII века // Язык русских писателей XVIII века. Л.: Наука, 1981. С. 96–129.
- Виноградов В. В. История слов. М.: Толк, 1994. 1138 с.
- Виноградов В. В. Язык Пушкина. М.; Л.: Academia, 1935. 454, [3] с.
- Вомперский В. П. Российская академия (1783–1841) // Русская речь. 1992. № 3. С. 3–11.
- Кочеткова Н. Д. Фонвизин в Петербурге. Л.: Лениздат, 1984. 238 с.
- Макогоненко Г. П. Новые материалы о Д. И. Фонвизине и неизвестные его сочинения // Русская литература. 1958. № 3. С. 135–147.
- Макогоненко Г. П. Комментарии // Фонвизин Д. И. Собр. соч.: В 2 т. Т. 1. М.; Л.: ГИХЛ, 1959. С. 609–623.
- Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. URL: https://ruscorpora.ru (дата обращения: 16.08.2024).
- Руднев Д. В. Предшественники А. С. Шишкова в Морском кадетском корпусе // Словесность и история. 2020. № 3. С. 63–77.