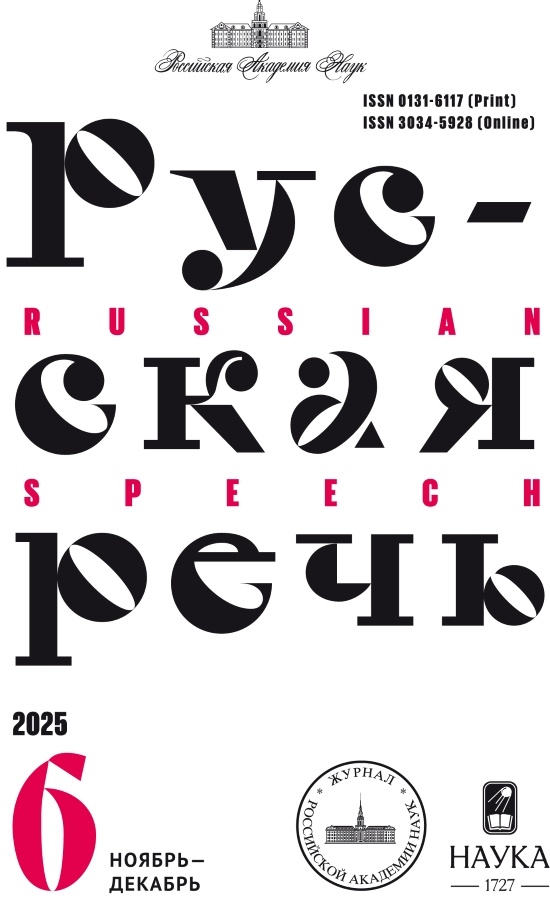Фамильные «паспорта» комедии Н. В. Гоголя «Женитьба»
- Авторы: Виноградов И.А.1
-
Учреждения:
- Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук
- Выпуск: № 5 (2024)
- Страницы: 61-71
- Раздел: Язык художественной литературы
- URL: https://journal-vniispk.ru/0131-6117/article/view/266035
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0131611724050054
- ID: 266035
Полный текст
Аннотация
Исследуется значение фамилий в комедии Гоголя «Женитьба». Происхождение имен женихов Жевакина и Онучкина связывается с народной поговоркой «Жевать онучку». В связи с фамилией Яичницы обсуждается эпизод пьесы, где невеста предупреждает жениха словами: «Не прогневайте... За столом будет только щи... да дроченое». «Дроченое» (драчена) — ближайший синоним «яичницы». Согласно записи Гоголя, касающейся характеристики «дородного» Яичницы, «дрочень, жирное и толстое дитя; дрочить, баловать». Предлагается объяснение заключенной в пьесе ситуационной синонимии. «Дорожные» фамилии еще двух героев пьесы — Подколесина и Кочкарева — связываются с духовными устремлениями Гоголя показать «пути и дороги... для всякого» к «высокому и прекрасному» в «темном и запутанном настоящем». Анализ языковых средств позволил выявить индивидуальные особенности поэтики Гоголя как писателя-сатирика, обличителя человеческой «пошлости». Пристальное внимание обращается на то, что в создании образа обличаемого героя важную роль играет у Гоголя экспрессивная лексика. Пронимающее острое слово, разнообразные «бранные» и уничижительные выражения, народное прозвище, характерная близкая к «эпиграмме» фамилия составляют арсенал художника не только для создания комического эффекта. В еще большей степени негативно окрашенные оценочные средства служат задаче воспитания современников.
Ключевые слова
Полный текст
История создания «Женитьбы», начатой в 1833 г., восходит к тому времени, когда Гоголь только вступал на поприще сатирика. В представлении о пронизывающей силе смеха, который «молотами» бьет «по сердцу, по жилам» закоренелого грешника [Гоголь 2009а: 242], писатель уже тогда черпал уверенность в возможности пронять нелицеприятной сатирой своих равнодушных к христианской проповеди современников (см. подробнее [Виноградов 2020]).
В обличительном содержании «Женитьбы» внимание к себе привлекает значительное количество «крепких», «оскорбительных» слов, употребляемых персонажами, а также множество метких пословиц и поговорок [Виноградов 2024: 79–82]. Сват Кочкарев называет неподъемного увальня-жениха Подколесина «мерзавцем», «подлой рожей», «глупой животиной», «свиньей», «подлецом», «дураком», «тряпкой», «деревянной башкой», «бревном», «олухом», «байбаком» (т. е. сонным сурком) и пр. [Гоголь 2009б: 320–323, 356–358]; речь свахи пестрит попрекающими острым словцом пословицами [Гоголь 2009б: 316, 329, 333, 347; 1949: 329].
«Бранные» слова и уничижительные выражения мотивированы самим замыслом пьесы. Позднее, в одной из статей «Выбранных мест из переписки с друзьями» (1847), адресованной «русскому помещику», Гоголь писал: «Мужика не бей. Но умей пронять его хорошенько словом. Ругни его при всем народе. Выкопай слово похуже, назови всем, чем только не хочет быть русский человек» [Гоголь 2009г: 112]. О недостойном представителе дворянства Гоголь, в свою очередь, замечал, что за проступки, порочащие сословие, «его же собратья дворяне» выпустят на него «тут же эпиграмму» [Гоголь 2009г: 147].
Прозвища «гусак», «тюлень», «протухлый кочан», «фетюк», «юбка» [Гоголь 2009а: 463; 2009в: 75, 186, 202; 1949: 258], которыми герои «Женитьбы» и других произведений Гоголя награждают друг друга, нанося собеседникам «смертельные обиды» [Гоголь 2009а: 473], грубые прозвища, которыми «бьет», ругая Подколесина, Кочкарев, прямо относятся к тем словам «похуже», какие Гоголь считал нужным применить при обличении недостойного.
Соответствующий характер носят и фамилии героев «Женитьбы». Всех без исключения претендентов на руку Агафьи Тихоновны объединяет общая «пошлость»: это единое «лицо» героев «Женитьбы», проявление общего замысла пьесы, изображающей матримониальные отношения «мертвых душ». Вдохновенное рассуждение о женщине «божественного» Платона (в ранней статье Гоголя «Женщина» 1831 г.), о женщине как «кротком существе, в котором боги захотели отразить красоту, подарить миру благо и в нем показать свое присутствие на земле» [Гоголь 2009д: 64], всем героям одинаково чуждо. В такой среде христианский брак теряет свое значение, оказывается лишь выгодным в том или ином отношении «сожительством». Реплику о подобном понимании брака — общем для всех героев пьесы — Гоголь оставил в черновой редакции «Женитьбы» (вероятно, исключив фрагмент из окончательного текста по цензурным соображениям): «Коли то-есть женатый человек, уж совсем другой пример. Вечером уж не таскаешься по Невскому или по Мещанской, потому что знаешь, что в доме то-есть сожительница есть» [Гоголь 1949: 326–327].
К пониманию брака как «сожительства», т. е. к теме «Невского проспекта», в «Женитьбе» прямое отношение имеют сластолюбивые реплики женихов Жевакина и Онучкина (см.: [Гоголь 2009б: 331, 338]). Кроме того, с «соблазнительным», фривольным контекстом связаны «физиологические» выразительные черты (подчеркнутая «дородность») еще одного жениха, Яичницы. Подсказка на этот счет заключена в имени героя. Ближайшим синонимом «яичницы» является слово «драчена» 1. Именно слово «драчена» (или «дрочена») употребляет в «Женитьбе» невеста, обращаясь к гостям — непосредственно к Яичнице: «Не прогневайте, почтенные гости. За столом будет только щи да дроченое. Право мне уж и совестно» [Гоголь 2009д: 144]. Оговорка невесты «мне уж и совестно», подразумевающая «соблазнительные» смыслы, в какие попадает прозвище жениха, в этом случае в объяснениях тоже не нуждается. О перспективах Купердягиной (дочери купца-скупердяя) стать Яичницей сваха замечает: «На Руси есть такие содомные прозвища, что только плюнешь и перекрестишься» [Гоголь 1949: 293].
За фамилией Яичницы, более всех женихов озабоченного «жениным приданым» [Гоголь 2009б: 429], встает целый ряд ассоциаций, позволяющих обозначить сам характер гоголевского именования героя. В своем итоговом «объяснительном словаре» русского языка Гоголь записал: «Дрóчень, жирное и толстое дитя; дрочить, баловать» [Гоголь 2009е: 461]. Это определение приводит на память еще одного гоголевского героя-«баловня» — «мазунчика» Андрия в «Тарасе Бульбе». «Э, да ты мазунчик, как я вижу!» — обращается к нему отец [Гоголь 2009а: 304]. «Мазунчик» (от укр. «мазать» — «баловать, ласкать» [Гринченко (ред.) 1908: 396]) — маменькин сынок 2. Очевидно, что «мазунчик» — баловень и любимчик матери Андрий — это, согласно Далю (и Гоголю), «дроченое дитятко, баловень» [Даль 1880: 509]. Иными словами, Андрий — это «повзрослевший», «дородный» Яичница. «Достоинства» последнего сваха Фекла подчеркивает очередной поговоркой: «Был бы дороден, к делу способен» [Гоголь 1949: 326].
Именование жениха Яичницей, упоминание невесты о соответствующем блюде с «нескромным» названием представляют собой знаковую языковую подсказку Гоголя о том, что «плотское» начало берет верх в обремененной земными интересами женитьбе. Уместно напомнить при этом и об аскетическом образе жизни самого Гоголя. Один из его школьных приятелей, В. И. Любич-Романович, вспоминал, что религиозность и склонность к монашеской жизни были заметны в Гоголе «еще с детского возраста» [Виноградов 2017: 491]. По словам соученика, в этой особенности лежит ключ к пониманию всех произведений писателя, в том числе «Женитьбы»: «Сатира Н<иколая> В<асильевича> вся проникнута духом отрицания земного бытия. А “Женитьба”? Разве это не то же отрицание земного? Он думал, что его поймут. Но его не поняли» [Виноградов 2017: 491].
В «пошлом» тождестве между собой героев «Женитьбы» особенно похожи друг на друга два жениха — Жевакин и Онучкин (в окончательной редакции — Анучкин). Характеры этих героев создавались Гоголем по единому принципу комического дублирования. Разница между ними состоит лишь в том, что один — морской офицер, другой — пехотный. В остальном герои совершенно одинаковы: можно сказать, что Онучкин является «пехотной копией» Жевакина. Обобщая все черты разительного сходства героев (обязанного своим происхождением особому авторскому замыслу), можно сказать, что Жевакин и Онучкин — это Добчинский и Бобчинский «Ревизора», аналоги этих героев-двойников в «Женитьбе».
Отношение обоих героев к женщине с очевидностью сводится к предвкушению «лакомого кусочка» [Гоголь 2009б: 331, 338]. Одинаково характеризуются Жевакин и Онучкин и с внешней стороны: один «худощав» [Гоголь 2009б: 341], другой — похож на «кисет, из которого вытрясли табак» [Гоголь 2009б: 349]. У одного «ножки узенькие, тоненькие» [Гоголь 2009б: 326], у другого — «нога петушья» [Гоголь 2009б: 350]. Оба одинаково находятся в отставке; одинаково подвержены иноземному влиянию (проявляя при этом «равную» языковую ограниченность — обнаруживая одинаковое незнание языков, которыми восхищаются: один — французским, другой — итальянским).
Неудивительно, что и само происхождение фамильных прозвищ одинаковых героев, по-видимому, тоже было общим. Вероятно, имена Жевакина и Онучкина были произведены Гоголем от одной народной поговорки, которую он услышал в 1832 г. во время недолгого пребывания в Курске. Народное выражение «жевать онучку», «объединяющее» собой фамилии героев, отмечено в 23-м выпуске «Словаря русских народных говоров»: «Онучку жевать. а) Болтать, городить чепуху. Курск<ое>, 1900–1902. б) Видеть странный, нелепый сон. Курск<ое>, 1900–1902» [Филин (гл. ред.) 1987: 228] 3.
В Курске Гоголь побывал проездом, по-видимому, дважды. Несколько дней он провел здесь с 5 по 10 октября 1832 г., по пути из Малороссии в Петербург. В Курске он, возможно, останавливался и позднее — в августе 1835 г., следуя из Киева в Москву [Виноградов 2017: 424]. Фамилии Жевакина и Онучкина имеются в самом раннем из сохранившихся автографов пьесы, относящемся, согласно уточненной датировке, к маю-июню 1835 г. [Гоголь 1949: 246–247].
Ближайшим значением комического именования Гоголем героев Жевакиным и Онучкиным является именно нелепость и пошлость. Курская поговорка заключает в себе концепты «чепуха», «ерунда», «вздор», «пустяки», «нелепица». Эти смыслы вполне отвечают сути пустых и «вздорных» героев, являются для них значимыми.
Употребление слова «онучи» само по себе всегда носило у Гоголя характер сниженный (см.: [Гоголь 2009а: 336, 375; 2009е: 522; 2009з: 225]; см. также: [Симонов 1864: 69]). И, подобно тому, как «онучи» ассоциировались у Гоголя с чем-то низменным и «пошлым», прозвище Жевакин имело для него эмоционально заостренный негативный оттенок. И без того невысокому смыслу этого слова (связанного с употреблением пищи) Гоголь придавал особое уничижительное экспрессивно-оценочное значение. Так, с резким «девальвирующим» нажимом Гоголь употребил слово «жеваки» в 1849 г. в письме к В. А. Жуковскому, характеризуя удручающие настроения московской публики: «Одни в полном невежестве дожевывают европейские уже выплюнутые жеваки (так в источнике; курсив мой. — И. В.). Другие изблевывают свое собственное несваренье» [Гоголь 2009ж: 286]. По воспоминаниям Г. П. Данилевского, спустя три года, осенью 1851 г., Гоголь прибегнул к тем же выражениям и при характеристике проживавших в Москве украинских сепаратистов: «Они все еще дожевывают европейские, давно выкинутые жваки (так в источнике; курсив мой. — И. В.). Русский и малоросс — это души близнецов, пополняющие одна другую...» [Виноградов 2018: 167]. О московских знакомых Гоголя, «дожевывающих» европейские «выкинутые» «жеваки», — сторонниках мнений «чужестранных газет» [Гоголь 2009г: 146], — вполне можно было бы сказать, что они «жуют онучку».
Одинаково сниженные смысловые коннотации слов «онучи» и «жеваки», вместе с предполагаемым происхождением соответствующих фамилий героев «Женитьбы» от одной пословицы «Жевать онучку», тесно сближают фамилии и самые типы гоголевских персонажей — исполненных заграничных пристрастий женихов Жевакина и Онучкина.
Сравнивая многочисленных «пошлых» героев своей сатирической галереи с откровенными «плутами» и «мошенниками», Гоголь устами героя «Женитьбы», «свата» Кочкарева, подчеркивал не менее вопиющее и пагубное, и даже «худшее» в целой массе общества явление — «дремлющего непробудно» Подколесина: «Ведь бывают плуты, мошенники и подлецы, но ведь этакого просто еще никогда не бывало»; «Бывают противные рожи, но не сочинишь хуже этой рожи» [Гоголь 1949: 315].
Призыв Гоголя к пробуждению «мертвых душ» становится еще более слышим во втором томе «Мертвых душ». Здесь писатель не раз отмечает, что «русский человек как-то не может без понукателя»: «Так и задремлет, так и заплеснет, сделается и пьяницей и негодяем» [Гоголь 2009в: 320]. Как уже указывалось, Кочкарев сравнивает Подколесина с «байбаком» (т. е. спящим сурком): «Ты вот лежишь, как байбак, весь день на боку» [Гоголь 2009б: 320]. Во втором томе «Мертвых душ» по поводу такого же «байбака» Тентетникова Гоголь писал: «Тентетников принадлежал к семейству тех людей, которых на Руси много, которым имена — увальни, лежебоки, байбаки» [Гоголь 2009в: 246]. Здесь же Гоголь вопрошал: «Где же тот, кто бы на родном языке русской души нашей умел бы нам сказать это всемогущее слово: вперед? Веки проходят за веками; полмиллиона сидней, увальней и байбаков дремлют непробудно, и редко рождается на Руси муж, умеющий произносить это всемогущее слово» [Гоголь 2009в: 258].
В одном ряду с «байбачеством» Подколесина (и его «двойника» Тентетникова) стоят у Гоголя отступление от своего призвания «мазунчика» Андрия Бульбы, запущенные хозяйство и дом семейной четы Маниловых и все другие многочисленные пороки изображенных им «мертвых душ». Исключения из «полумиллионного» собрания «мертвых душ» не составляет и неугомонный сват Кочкарев, сыплющий народными пословицами и «обидными» прозвищами. Одаренный словом, он легко убеждает и переубеждает своих собеседников — и Подколесина, и невесту, и других героев. Среди других персонажей он играет роль едва ли не ведущую, разговаривает с Подколесиным, «как отец с сыном» [Гоголь 2009б: 321]. Все это подразумевает его особое место в замысле комедии. Судя по влиянию Кочкарева на Подколесина, настоящее призвание героя заключается в том, чтобы будить человека к новой жизни, быть тем, кто скажет «нам всемогущее слово: вперед». На деле, однако, своего назначения в жизни Кочкарев не исполняет. Способность служить для других вдохновляющим началом присуща ему лишь потенциально. Как и в жизни других «мертвых душ», его жизненное призвание тоже «пошло» извращено. Вместо того чтобы возбуждать «бодренье и освеженье всех вокруг себя» (как писал Гоголь в духовном завещании [Гоголь 2009г: 10]), он хлопочет о женитьбе приятеля, сам недоумевая о мотивах своей кипучей деятельности: «Из чего я бьюсь, кричу, инда горло пересохло. Ведь вот точно как будто меня часа три сряду на корде гоняли. Ну с какой стати, желал бы я знать, я хлопочу так?» [Гоголь 1949: 315].
Слова, относящиеся во втором томе «Мертвых душ» к «сонному» Тентетникову, — призыв к его пробуждению — в полной мере актуальны для всех героев «Женитьбы»: и для «тряпки, а не чиновника» Подколесина, и для побуждающего его к перемене жизни приятеля Кочкарева. «Браво! хорошо! Я всегда ожидал от тебя много в будущем, — говорит Кочкарев Подколесину. — Ты, брат, помни, только кураж, кураж — и больше ничего» [Гоголь 2009б: 361; 1949: 297]. Обращает внимание Гоголь и на любовь Кочкарева к быстрой езде — составляющей, согласно хрестоматийным строкам «Мертвых душ», одну из отличительных черт русского народа. «А мои гнедые птицы, — замечает Кочкарев (знающий о выездке лошадей «на корде»), — хоть кого обгонят». Характерны и бытовая ремарка, впервые выводящая этого героя на сцену: «Кочкарев, вбегая»; и его слова, обращенные к Подколесину: «Поскорее, как ты копаешься» [Гоголь 1949: 318; 2009б: 318, 322; курсив мой. — И. В.].
Однако в полной мере на роль побудителя и наставника общества Кочкарев определенно не годится. Сам он признается, что в своем образовании остановился на начальных классах уездного училища: «Ведь и учился на медные деньги. Только катихизис (так в источнике. — И. В.) да первую часть арифметики, да еще учили тогда книгу о должностях человека и гражданина, а в риторику и не заглядывал» [Гоголь 1949: 331]. В этом отношении недоучившийся герой претендовать на роль настоящего наставника, естественно, не может. Этот будящий Подколесина от «мертвого» сна герой по своему образовательному и духовному уровню, по направленности своих призывов, становится для героя отнюдь не побудителем, а напротив, препятствием, «кочкой» на его пути, препятствующим движению «кочкарником». (В карманной книжке Гоголь, в частности, пометил: «Кочкарник — место, покрытое кочками» [Гоголь 2009е: 616].)
Проясняется в этой связи и не сразу осознаваемый зрителем и читателем согласный — одинаковый для обоих главных героев «Женитьбы», Подколесина и Кочкарева, «дорожный» смысл их фамильных прозвищ. Фамилия Подколесин находится в очевидной связи с словом «подколесица» («колесная колея»); «подколесный» («под колесом или колесами находящийся») [Даль 1882: 182]. Фамилия Кочкарев ассоциируется с непроходимым местом, болотом, «кочкарником» или дорожными ухабами и буграми, мешающими при езде. Кочка может быть не только болотной, но и дорожной. В словаре В. И. Даля отмечено: «Кочка — затверделая кучка земли»; «Сгладить кочки. Угладить дорогу»; «Телега грукает <гремит> по кочкам»; «Заравнивать; делать поверхность ровною; сымать бугры, кочки, засыпая ямы» [Даль 1880: 183, 362, 411, 646].
По-видимому, тип Кочкарева как «понукателя» и «преобразователя» общества, не отвечающего своему призванию — насущной задаче «уравнивания» душевных «дорог», Гоголь прямо подразумевал в статье «Занимающему важное место», когда писал: «Устроить дороги, мосты и всякие сообщения есть дело истинно нужное; но угладить многие внутренние дороги, которые до сих пор задерживают русского человека в стремленье к полному развитию сил его есть дело еще нужнейшее» [Гоголь 2009г: 139].
Выбор «дорожных» прозвищ героев «Женитьбы» был мотивирован размышлениями Гоголя о пробуждении русского человека, высказанными во втором томе «Мертвых душ» при характеристике «байбака» Тентетникова. (К работе над вторым томом поэмы Гоголь приступил еще в 1839 г. [Виноградов 2017: 130], т. е. задолго до окончания «Женитьбы» в 1842 г.) Сатира Гоголя была связана с его давними размышлениями о движении России «вперед», со стремлением показать «пути и дороги для всякого» к «высокому и прекрасному» «в этом темном и запутанном настоящем». Выбор Гоголем имен для героев «Женитьбы» — Подколесина, Кочкарева, Яичницы, Жевакина, Онучкина — обнаруживает связь с главным «делом жизни» писателя. Рассчитанные на комический эффект, основанные на народно-поэтической стихии, прозвища героев «Женитьбы», как и имена героев «Мертвых душ», представляют собой значимую художническую классификацию, образный писательский «рубрикатор» негативных явлений, с знаковыми «пашпортами» героев «на вечную носку» [Гоголь 2009г: 87, 108; 2009в: 106, 258].
Источники
Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. В 14 т. Т. 5 / Тексты и коммент. подготовили М. П. Алексеев, Н. И. Мордовченко, А. А. Назаревский, А. Л. Слонимский. Л.: АН СССР, 1949. 511 с.
Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. и писем: в 17 т. (15 кн.) / Сост., подгот. текстов и коммент. И. А. Виноградова, В. А. Воропаева. Т. 1/2. М.; Киев: Изд-во Московской Патриархии, 2009а. 664 с.; Т. 3/4. М.; Киев: Изд-во Московской Патриархии, 2009б. 688 с.; Т. 5. М.; Киев: Изд-во Московской Патриархии, 2009в. 680 с.; Т. 6. М.; Киев: Изд-во Московской Патриархии, 2009г. 744 с.; Т. 7. М.; Киев: Изд-во Московской Патриархии, 2009д. 816 с.; Т. 9. М.; Киев: Изд-во Московской Патриархии, 2009е. 968 с.; Т. 15. М.; Киев: Изд-во Московской Патриархии, 2009ж. 624 с.
Гоголь Н. В. Тарас Бульба. Автографы, прижизненные издания. Историко-литературный и текстологический комментарий / Издание подготовил И. А. Виноградов. М.: ИМЛИ РАН, 2009з. 696 с.
Гринченко Б. Д. (ред.). Словарь украïнськоï мови. В 4 т. / Зiбрала редакция журнала «Кiевская Старина». Упорядковав, з додатком власного материалу Борис Грiнченко. Киïв: Друкарня Акційного товариства Н. Т. Корчак-Новицького. Т. 1. 1907. 494 с.; Т. 2. 1908. 573 с.
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. 2-е изд., испр. и значительно доп. по рукописи автора. Т. 1. СПб.; М.: Издание книгопродавца-типографа М. О. Вольфа, 1880. 722 с.; Т. 2. СПб.; М.: Издание книгопродавца-типографа М. О. Вольфа, 1881. 807 c.; Т. 3. СПб.; М.: Издание книгопродавца-типографа М. О. Вольфа, 1882. 576 с.
Симонов М. Т. Украïнськi приказки, прислiв’я i таке iнше. Збiрники О. В. Марковича та інших. Спорудив М. Номис. СПб.: В друкарнях Тиблена и комп. и Куліша, 1864. 304 с.
1 Это слово означает блюдо из взбитых яиц. «Драчена, сбитая яичница» [Даль 1881: 482]. Позднее, в записной книжке 1846–1850 гг., Гоголь заметил: «В Москве на каждом дворе у хозяина и хозяйки в Семик на столе яичница и дрочена» (заметка «Земледельческие праздники» [Гоголь 2009е: 688]).
2 Ср.: «Мазаний — Избалованный, изнеженный»; «Мазун — Баловень, любимец. Ум<еньшительное>. Мазунец, мазунчик» [Гринченко (ред.) 1908: 396–397].
3 Отмечена также похожая поговорка, бытующая в Костромском крае: «Сиди дома да жуй онучи. Не суйся не в свое дело; не лезь со свиным рылом в калашный ряд. Вохом<ский район> Костр<омской области>, 1976» [Филин (гл. ред.) 1987: 227].
Об авторах
Игорь Алексеевич Виноградов
Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: iwinigradow@mail.ru
Россия, Москва
Список литературы
- Виноградов И. А. Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя (1809–1852). Научное издание: в 7 т. Т. 2. М.: ИМЛИ РАН, 2017. 672 с.; Т. 7. М.: ИМЛИ РАН, 2018. 640 с.
- Виноградов И. А. Психологизм Н. В. Гоголя // Два века русской классики. Т. 2. № 4. 2020. С. 6–73.
- Виноградов И. А. «Ревизор» Гоголя как комедия-трагедия. К проблеме жанра // Два века русской классики. 2024. Т. 6. № 1. С. 74–101.
- Филин Ф. П. (гл. ред.). Словарь русских народных говоров. Вып. 23. Одале-Осеть. Л.: Наука, 1987. 376 с.